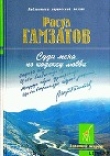Текст книги "Собрание сочинений в трех томах. Том 3"
Автор книги: Василий Федоров
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
«Сроками, остатними годами…»
Сроками,
Остатними годами
Я как зверь,
Обложенный флажками.
Время,
Что загонщик,
С криком, стуком
Дни и ночи
Держит на бегу.
Все пытаюсь
Вырваться из круга,
Но, как прежде,
Остаюсь в кругу.
Знаю,
Мне, матерому, известно:
Выход есть из круга,
Есть тропа…
Но незафлажкованное место
Сторожит
Охотница-судьба.
«Все замечают: я добрею…»
Все замечают:
Я добрею.
Не понимают,
Что старею.
Друзья,
А что здесь понимать,
Умрем – аукай не аукай!..
Как перед вечною разлукой,
Мне хочется
Всех обнимать.
Не полукавить,
Не польстить,
Нет, нет, но тем, что досадили,
Сегодня хочется простить,
Просить,
Чтоб и меня простили.
Наглеют
Недруги-враги,
Заметив в буйных прядях проседь,
Друзья мои, пора отбросить
Раздоров наших
Пустяки.
Любовь и дружба —
Вот блаженство!
Мне даже кажется, ей-ей,
Почти что верхом совершенства
Скандальный
Марков Алексей.
Все замечают:
Я добрею.
Кто знает,
Может быть, мудрею.
«Мои собратья нагло врут…»
Мои собратья
Нагло врут,
Утешась мыслью той,
Что ежели они умрут,
То вновь когда-нибудь взойдут
Цветами и травой.
Как будто в том,
Что есть поэт,
Природа не теряла,
Как будто у природы нет
Другого матерьяла.
Как будто без его солей,
Без горсточки тщеты
В урочный год
Не хватит ей
На травы и цветы.
Друзья,
Все это бред пустой,
Есть у нее запас,
И травостой
И древостой
Взойдут помимо нас.
Чем прорасти —
Не в том вопрос.
На этот милый свет
Каким бы чудом ни пророс —
В том утешенья нет.
Нет, нет и нет.
И я б хотел,
Хоть в свете,
Хоть во мгле
Уж если не бессмертьем тел,
То добротою наших дел
Остаться на земле.
«Не хватит срока моего…»
Не хватит
Срока моего.
Все требует
Меня всего.
Жена – всего,
Стихи – всего,
И даже мой «Урал»
Стрекочет,
Чтобы я его
Всю жизнь
Не покидал.
Друзья – всего,
Враги – всего.
Не хватит
Срока моего.
МУЗЫКА
Моя душа,
Иссохшая в гордыне,
Горячих звуков
Впитывает дрожь,
Как влагу
Опаленная пустыня,
Когда над ней шумит
Спаситель-дождь.
И в свежести,
И в солнечности всходной,
И в чувстве
Убывающей тоски
Моя душа,
Как влажные пески,
Становится живой
И плодородной.
«Цветы – душа людей…»
Цветы – душа людей,
Открытая добру,
Цветы – глаза детей,
Нетронутые плачем.
В дни радости они
Смеются на миру,
В дни бедствия
Мы их от горя прячем.
Душа цветов чутка
На горе и беду,
Они уходят с глаз,
Чтоб их не замечали.
Цветы, когда беда,
Всегда не на виду,
Не вовремя цветы,
Как музыка в печали.
Цветы умеют ждать,
У них терпенье есть,
Как у людей труда,
Встающих до рассвета.
И в дни великих бед
Они умеют цвесть,
Чтоб радость нам дарить,
Когда придет победа.
«Дети плачут по-разному…»
Дети плачут по-разному,
Дети плачут порой
Без опаски к опасному,
За веселой игрой.
Дети плачут по прихоти.
В мире много детей
Плачет к маленькой выгоде
Своих детских затей.
Но при множестве разностей,
При жестоком враге
Дети плачут в опасности
На одном языке.
«Клянусь вам, убежденный в том…»
Клянусь вам,
Убежденный в том,
Что старый миф
О бывшем где-то,
Когда-то веке золотом
Придумывали не поэты.
Беря былое в образцы,
Душой доверясь
Сказкам пошлым,
Ленивцы,
Жалкие слепцы,
Они его искали
В прошлом.
Зато поэт,
Он удивлен,
Что разум,
Не глухой к преданьям,
Терзается воспоминаньем
Далеких будущих времен.
Все, все,
О чем бы ни мечтали
В года минувшие и днесь,
Все, все,
Что в будущее слали,
Там, в дальних далях,
Как бы есть.
Тот мир,
Он есть,
И потому,
Как по закону эхолота,
Времен грядущих позолота
Пыльцой цветка
Летит к нему.
«Нет, это все наветы…»
Нет, это все наветы,
Что будто не дружны мы.
Поэты, как планеты,
Взаимно притяжимы.
И те, что дружбой слиты,
И те, что мечут громы.
Слетит один с орбиты,
Несдобровать другому.
«Жаждем истины во всем…»
Жаждем истины во всем,
Жаждем веры, между тем
Стало меньше аксиом,
Стало больше теорем.
В сфере солнечных орбит
Заменился нешутейно
Доказуемый Эвклид
Недоказанным Эйнштейном.
В прямоту путей своих
Вносим новые охваты:
Нет и не было прямых,
Все прямые кривоваты.
Но скажу вам горячо:
Ничего вы не добьетесь,
Если вам на каждый чох
Нужно дюжину гипотез…
«В многомудром кураже…»
В многомудром кураже
Знатоки и слов и слога
Говорят, что о душе
Говорю я слишком много.
Мудрость века вороша,
Похваляясь эрудицией,
Говорят, что ты, душа —
Не душа, а только фикция.
Чем же ты нехороша
Тем, которые в бесстрастности
Говорят, что ты, душа,
Кем-то выдумана
В праздности.
Как им втиснуть
В мысль и в страсть,
Что в далекой смутной вечности
Ты, родная, зачалась
Ради высшей человечности.
«Поумнела голова…»
Поумнела голова —
Стали легкими слова,
Легкими, как мячики,
Что бросают мальчики.
А бывали времена,
Не давались письмена,
В строчки неуклюжие
Лезло слово дюжее.
Поседела голова,
Все ей стало трын-трава,
Кроме всеми мыслимой
Самой нужной истины.
«Поэзия – не профессия…»
Поэзия —
Не профессия,
Поэзия как любовь:
Если уж есть,
Так есть она,
А нет —
И не суесловь.
Ах поэты,
Проказники,
Как вам строчить не лень,
Поэзия – это праздники,
А праздник
Не каждый день.
«Я и эпик, я и лирик…»
Я и эпик,
Я и лирик,
А могу и на трубе.
Каждый вечер панегирик
Сочиняю сам себе.
Каждый вечер говорю:
«Я тебе, Василий,
Сочиню и подарю
Стих еще красивей».
И когда
Скажу вот так-то
И пишу, себя пьяня,
Появляется редактор,
Отрезвляющий меня.
«По мере славы и по мере дней…»
По мере славы
И по мере дней
Все больше у меня
Учителей.
Все знатоки,
И все чему-то учат
В одной надежде,
Что меня улучшат.
Один из них
Почти что приказал,
Чтоб не скудел мой стих
Строкою жгучей:
– Режь правду-матку
Недругу в глаза!
А сам свои отвел
На всякий случай.
Другой взывал
К таланту моему,
Слезой молил,
Чтоб нежным оставался.
– Да не хочу! —
Ответил я ему.
Он завздыхал:
– Так-так, уже зазнался!..
Вот и боюсь
Послушаться оплошно.
Учиться б рад,
Заучиваться тошно.
«Ты уверяешь, что родились мы…»
Ты уверяешь,
Что родились мы
Смягчать сердца
И просветлять умы?
Пожалуй что
Оно бы так и было,
Когда б живому
Вольно жить и цвесть,
Когда бы в жилах
Наша кровь не стыла
Ото всего того,
Что в мире есть.
Светлить умы
Жестокости тупой?
Смягчать сердца
Идущих на разбой?
Светлить!
Смягчить!
Прекрасен твой порыв,
Но я признал
Смягченье не любое.
И сталь смягчают,
Прежде закалив,
Чтоб не ломалась та
Во время боя!
«Мне б, не горбясь под ношею…»
Мне б,
Не горбясь под ношею,
Надо с прежней охотой
Сделать что-то хорошее,
Сделать доброе что-то.
Мне б
Взрастить, что насеяно,
Ну хотя бы до всхода,
И уйти, как Есенину,
Под защиту народа.
«Секунда – миг, а все же…»
Секунда – миг, а все же
И в ней дано меняться.
Минуты непохожи,
Как отпечатки пальцев.
Но век людей не тешит
Разборчивостью тонкой.
Он дни и судьбы чешет
Под общую гребенку.
«Мне библия романа не святей…»
Мне библия
Романа не святей,
Но, знающему счет
Добру и худу,
Обидно все же
Видеть средь людей
Защитников
Предателя Иуды,
Забыв и стыд,
И правый суд времен,
Мне говорит
Его адвокатура,
Что будто вовсе
Не предатель он
И не подлец…
А сложная натура!
«Тем, жалким, что не нам поют…»
Тем, жалким,
Что не нам поют,
Тем, что с врагами
Втайне ладят,
Тем, что Россию предают,
За рубежом
Неплохо платят.
Узнав цену
Измен своих,
Слепцы,
Вы думали спесиво,
Что платят вам
За вас самих,
А вам платили
За Россию!
В ЦИРКЕ
Львы и псы?
Прием не нов.
На арену драк и драчек
Дрессировщик грозных львов
Выпускает злых собачек.
Те и лают и визжат,
Заглушаемые рыком,
На арене мельтешат,
Застелив глаза владыкам.
Чтоб казалось,
Что у львов,
А у грозных и тем паче,
Злее не было врагов —
Этих шустреньких собачек.
МОЙ АДРЕС
Въезжая
На Кутузовский, уже
Вы гость мой,
Ибо, шумом оглушив,
Вы будете въезжать
Мне прямо в душу
И славно ехать
По моей душе.
По ней,
Моей душе,
Машины мчатся,
Гудят,
Визжат,
Кудахчут.
Что ж, терплю.
Вы приезжайте,
Можете стучаться
И за полночь,
Я все равно не сплю.
ЗАЯВЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНУЮ КОМИССИЮ
Проживая
В маленькой комнате,
Той, что меня
Облекла и сжала,
Не хочу дележа,
Но помните:
Я совладелец
Земного шара.
А если делить,
Делите на души
Миллиарды гектар
На людей миллиарды.
Сколько мне
Достанется моря и суши —
Столько, что будете
Сами не рады.
«Зачем чужие страны…»
Зачем чужие страны,
Когда есть Комарово.
Зализываю раны,
Ищу живое слово.
Здесь тишина без края,
Не то что шум столичный.
Мне тишина такая,
Как счастье,
Непривычно.
Здесь сосны
Храмы словно,
Маяча в небе млечном,
Недвижно и безмолвно
Внушают мысль о вечном.
Родят
К тому презренье,
Законное в поэте,
Что нет во мне прозренья
Хотя бы
На столетье.
УРОКИ ПОЭЗИИ
ОТВЕТЫ НА ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА
Журнал «Вопросы литературы» однажды прислал анкету с четырьмя вопросами, на которые я дал ответ.
1-й вопрос. Как развитие жизни (социальные изменения, научный и технический прогресс) влияют на характер художественного творчества? Как в произведениях литературы материал определяет выбор художественных средств?
Ответ. Сначала отвечу на вторую часть вопроса и применительно к поэтическому творчеству. Поэт – это нервный центр мира, чуткий и отзывчивый словом. Чуткость – черта всеобщая, отзывчивость – различна. Один отзовется быстро, другой покажется медлительным. На мой взгляд, творческий процесс идет по формуле: настроение – смысл – мысль. Есть поэты, творчество которых не перешагивает за второй рубеж. Таких можно назвать поэтами настроения – настроения личного и даже общественного. Однако настроение – вещь переменчивая.
Для настроения нужен закрепитель. Закрепить настроение может только поэтическая мысль – не своевольная, не занятая у других. Мысли не валяются. Они должны вырастать из самой сути настроений, эмоций такой густой концентрации, когда, как в насыщенном растворе, начинают складываться кристаллы. Второй тип отзывчивости особенно важен для работающего в эпическом жанре.
В лирике весь этот процесс может протекать быстро и неожиданно, в поэме – длительней и сознательней и потому заметней. Начинается с ощущений – смутных, но устойчивых, уходящих и приходящих. Пришло и ушло. Не жалею. Снова пришло – настораживаюсь. Ощущения: уже имеют свой круг и свою окраску. Мысли еще нет, но смысл уже есть. Для поэмы формула расширяется: настроение – смысл —. замысел – мысль. На стадии замысла рождается интонация – сначала как ощущение. Нужно найти интонацию в слове, закрепить настроение в образе. Все еще смутно, но настроение уже привязано к душе. Уже слетаются слова. Чужеродные отбрасываются самим настроением, родственные замешиваются в эмоциональную туманность. Фантазия мать поэзии. У нее, как у беременной женщины, начинаются свои прихоти. Она знает, что нужно – сладкое или горькое – для своего будущего дитяти. Сажусь за стол, когда начинаю чувствовать замысел в его главных контурах, вернее, в его главном направлении. При этом сохраняется вся прелесть путевых неожиданностей. Готовых слов не беру. Они придут в пути. А какие не придут, буду искать, потому что каждый замысел требует своих слов.
На первую часть вопроса не хочется отвечать. Слишком очевидно. Социальные сдвига имеют для поэзии первостепенное значение. Пушкин и Лермонтов вышли из побед 1812 года. Пушкин еще горд, светел и полон надежд. Лермонтов мрачен с первых строк – уже такой, каким стал Пушкин после разгрома декабристов. Октябрьская революция дала нам Маяковского и Есенина. Крестьянский вопрос был самым сложным вопросом русской революции, и эта сложность отразилась в стихах Есенина. Победа над Гитлером дала взлет нашему самосознанию, взлет нашей поэзии. Социальные сдвиги: последних лет сделали нашу поэзию более молодой: и более мудрой. Ее человек стал неизмеримо богаче.
Научные открытия влияют на поэзию постольку, поскольку они влияют на человека. С научными: открытиями мы начинаем– глубже заглядывать в природу, а значит, в самих себя. Тайны природы – это наши человеческие тайны. Открытие, что земля – шар, научило нас мыслить пространственно. Прошли века, но как еще часто встречаешь поэтические плоды плоскостного мышления. Видимо, каждый человек должен еще раз для самого себя открыть, что «земля поката». Мы уже давно знаем, вселенная беспредельна, но постигнем это не скоро. Научное открытие является к нам с обоснованной мыслью. Поэт не может оперировать ею, пока она не войдет в его быт и не станет ощущением, $6 есть пока камень не станет глиной. Тогда поэт начинает лепить из нее что-то свое, обожжет и снова превратит в камень. Если путь ученого и путь поэта соединить, получится единая цепь: ощущение – догадка – мысль – ощущение – смысл – замысел – мысль. Одним словом, влияние научных открытий на поэзию подспудно и медлительно.
2-й вопрос. Как сочетаются традиции и новаторство в творчестве советского писателя? Какие традиции берутся на вооружение, от каких мы отталкиваемся? Как изменяются национальные художественные традиции под влиянием жизни и других литератур?
Ответ. Пример сочетания традиций и новаторства дает нам сам человек, его рождение, его жизнь. Когда повивальная бабка перевяжет новорожденному пуповину, его кровь проявляет самостоятельность. Она устремляется по новому пути к еще дремлющим легким, наполняет их. Именно в это мгновенье раздается его первый крик. Поначалу этот шумливый «новатор» ни на кого не похож Но проходит время, и все отчетливей начинают проступать «традиционные» черты матери и отца. С годами они взаимопроникают и сглаживаются. Черты отца и матери затушевываются под новыми чертами, уже собственными приобретенными своим жизненным путем, собственной судьбой, своими мыслями и переживаниями. Этот процесс неизбежен и в литературе, но затянувшаяся похожесть на родителей говорит о том, что у писателя нет своего пути, нет своей судьбы. Добросовестное ученичество на определенном уровне становится опасным. Научиться можно тому, что не имеет «лица» или имеет «лицо» чужое. К последним мазкам, что составят его индивидуальность, художник должен прийти сам.
В любом искусстве все начинается с человека и кончается человеком. Человек меняется. И для меня новатор тот, кто наиболее точно и полно изобразит его душевный мир. Я принимаю те традиции, которые приводят меня к человеку, и отвергаю те, которые уводят меня от него. У классиков можно учиться пристальной внимательности к людям.
Русская литература огромна. В ней все переплавится. Если не принимать в расчет явного подражания, национальные русские традиции устойчивы. В соприкосновении с другими литературами наша литература, как национальная, становится богаче. Вершины различных национальных литератур родственны. Пушкин, Байрон, Лермонтов, Данте мне одинаково близки. Кстати, Данте во много раз ближе и роднее Надсона.
3-й вопрос. Какие средства поэтической изобразительности наиболее перспективны для изображения нашего современника? В каких произведениях последнего времени они проявились наиболее ярко и талантливо.
Ответ. Все пристальней слежу за развитием Леонида Мартынова. В его последних книгах много поучительного. Свободная разговорная интонация, предметность образа сочетаются с глубиной философских обобщений. В его новых стихах отчетливей проступила характерная и перспективная особенность: реалистическая основа и романтический угол зрения. В этом сочетании нет противоречий. Реализм – взлетная площадка для романтизма. Ему нужен полет, нужна высота, но необходима и реальная опора. В истории не было более романтического времени. Считаю, что будущее нашей поэзии – за романтизмом этого нового типа.
4-й вопрос. Стремится ли современная литература, независимо от рода и жанра, к более лаконичным, емким, экспрессивным формам? В чем проявляется прогресс художественных форм и средств?
Ответ. Емкость и экспрессивность – вещи разные. Как правило, они даже исключают друг друга. Емкость с наполнением предполагает тяжесть, а экспрессия не любит тяжестей. Здесь скорее уместен лаконизм: «Везешь?» – «Везу». Ложное впечатление, что наша литература, в том числе и поэзия, стремится к более экспрессивным формам, создалось от слишком повышенного внимания критики к опытам нескольких молодых. К сожалению, их экспрессивная форма часто неоправданна. Бросается в глаза ее беспричинность. Считаю, что амплитуда ритмических, интонационных колебаний у современного человека по-прежнему велика. И нет никакой нужды обеднять ее. Прогресс художественных форм видится мне прежде всего в повороте к естественности, в отказе от громоздких построений, в благородной простоте и глубокой ясности. Язык борьбы не должен быть туманным.
ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ФАУСТА»
Когда-то мне нравились стихи Маяковского:
Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь в моем сапоге кошмарней, чем фантазия у Гёте!
Мне нравилось само преувеличение гвоздя в собственном сапоге, хотя уже тогда я понимал, что все это сказано в полемическом азарте, чтобы подчеркнуть значение современности. К тому же в те времена было модным сбрасывать с корабля современности классиков. Сбрасывали Рафаэля, сбрасывали Пушкина и Толстого. Доставалось и Гёте. Теперь ясно, что азарт в литературной поле-тике – не самый мудрый наставник. Перечитывая «Фауста», я понял, что в данном случае выигрыш Маяковского был эмоциональный, временный, тактический, а не стратегический. Фантазия Гёте ныне представилась мне неповторимо глубокой, и не только в первой части поэмы, но и во второй.
В качестве примера приведу только один драматический узел.
Империя в запустении. В казне нет денег, в закромах – хлеба. Уже давно не задавалось балов. Император созвал на совет своих беспомощных министров. Сидят, судят-рядят. Но вот докладывают: запоздавший на совет любимый шут императора так торопился, что на лестнице сломал ногу. И все же пусть император не беспокоится: вместо пострадавшего шута появился новый, еще более остроумный. Это, конечно, Мефистофель.
Прослушав речи министров, тот говорит: дескать, что вы ломаете голову. Все очень просто. Он знает старинные клады, полные золота и драгоценных камней. Стоит ему открыть их, как в казне императора окажется столько денег, что хватит на десяток балов. Речь нового шута встречена с недоверием, но Мефистофель все-таки выполняет обещание. Действительно, в казне появились деньги, правда не настоящие, в закромах – хлеб. Император задает грандиозный бал. Он вошел в роль, он хочет необычайного. Подозревая, что его шут связан с такой силой, которая все может, он через Фауста просит Мефистофеля:
Знай: государь желает, чтобы на сцену
Мы вызвали Париса и Елену.
В их образах он видеть пожелал
И женщины и мужа идеал.
Поторопись: нельзя нарушить слово.
Мефистофель
Не нужно было обещать пустого.
Фауст
Ты сам таких не ожидал
Плодов своих же ухищрений?
Когда богатство им ты дал,
Теперь давай увеселений!
Мефистофель
. . . . . . . . . . .
Елену вызвать – нужно тут отваги
Поболее, чем вызвать на бумаге
Богатства призрак. Сколько хочешь, вам
Я карликов, чертей, видений дам;
Но дьявола красотки, – хоть признаться,
Неплохи, – в героини не годятся.
Фауст
Ну вот, опять запел на старый лад!
С тобой все неизвестность, все сомненье,
Во всем ты порождаешь затрудненье,
За все желаешь новых ты наград!
Когда ж захочешь, так без разговора,
Раз, два: глядишь – и все готово скоро!
Мефистофель
Язычникам особый отдан ад,
Его дела не мне принадлежат;
Но средство есть.
Фауст
Скажи: я изнываю
От нетерпенья!
Мефистофель
Неохотно я
Великую ту тайну открываю.
Собственно, философская сторона великой тайны уже открыта. Она явственно проглядывается даже при неотчетливом переводе Н. Холодковского, текстом которого я пользуюсь.
Мефистофель всесилен. Он из дерьма мог сотворить золото, из глины – хлебы, но красота ему, служителю сатаны, не подвластна.
Секрет его бессилия в данном случае совсем не в том, что «язычникам особый отдан ад, его дела не мне принадлежат». Они не принадлежат и другому служителю сатаны. Из его окружения он мог бы притащить на императорский бал пошлых красоток, но вызвать Елену и Париса у него нет сил. За подлинной красотой должен идти смертный, ищущий и страдающий, рожденный Матерью человек. Вот почему за Еленой и Парисом в подземные глубины пошел Фауст.
Какая грандиозная фантазия.
Поняв ее, начинаешь иронически смотреть на полемически-трагический гвоздь в сапоге Маяковского. Лично мне тайна этой фаустовской темы далась лишь после того, как была написана «Проданная Венера».
Хочется остановиться еще на одной примечательной линии поэмы: это короткая трагическая линия Гомункула. Образ искусственного человечка, созданного алхимиком Вагнером, по признанию исследователей, трудно поддается толкованию. Безусловно, этот образ призван оттенить и подчеркнуть образ Фауста. Но чем? Для того чтобы вернее ответить на этот вопрос, надо читать Гёте не только как поэта, но и как ученого, много занимавшегося естественными науками. Проследим короткую, но поучительную жизнь Гомункула. Когда он зашевелился в колбе, его создатель услышал голос:
А, папенька! Так не на шутку я
Тобою создан? Обними ж меня!
Но только тише: колба разобьется.
Да, вот вам свойство вечное вещей.
Сознаться в этом мы должны без чванства:
Природному – вселенной мало всей,
Искусственное ж требует пространства
Закрытого.
Какая трогательная деталь. Рожденный в колбе проявляет человеческое желание: «Обними ж меня!» Но тут же он осознает и хрупкость своего искусственного существования: «колба разобьется». В этом трагедия. Его дух, замкнутый в стеклянную оболочку, в отличие от духа Фауста лишен дальнейшего развития. А он жаждет его. Подслушав разговор двух мудрецов – Анаксагора и Фалеса – о природе, он спрашивает Мефистофеля (цитирую уже в переводе Б. Пастернака):
Наверно, все известно им, всесильным,
Они укажут, может быть, пути,
Как поступить мне в деле щепетильном
И полностью на свет произойти.
На это Фалес ему скажет:
Пленись задачей небывалой,
Начни творенья путь сначала.
С разбега двигаться легко.
Меняя формы и уклоны,
Пройди созданий ряд законный, —
До человека далеко.
Удивительно современная тема. Сегодня в лабораториях мира идет титаническая борьба за воссоздание живой клетки. Порой раздаются победные возгласы, но, увы, вскоре все утихает. Так же настойчиво творят Гомункулов. Даже есть некоторые успехи. Но в данном случае исходный материал все-таки естественный. Трудность в том и состоит, что в лабораториях пока что невозможно воссоздать все исторические условия и все звенья зарождения и развития жизни на Земле. Выпадет одно-два звена из общей цепи – и все пропало. Вот почему Фалес посылает Гомункула в Океан, где зародилась и начала развиваться жизнь, с тем чтобы он начал все сначала. Но у искусственного создания уже присутствуют человеческие инстинкты. Так, увидев в Океане Галатею, он воспламеняется к ней любовью и в страстном порыве разбивается о ее трон.
Трагический образ Гомункула в моем понимании универсален. Его символика может быть перенесена на закономерности творчества и развитие творческой личности. Все искусственное приводит к печальному концу, ибо оно «требует пространства закрытого», а на пути может встретиться своя Галатея.