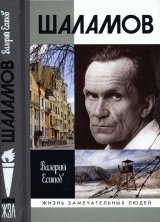
Текст книги "Шаламов"
Автор книги: Валерий Есипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
Его главный призыв в этом письме – чтобы «Колымские рассказы» прочитывались не просто как свидетельство о прошлой трагедии, а предупреждение о возможности новых, пусть и в других формах. Эта мысль – лейтмотив его поздних произведений, она постоянно звучит и в созданных в это же время – в виде посланий к друзьям и знакомым – литературных манифестах, разъясняющих – тем, кто недопонимает – смысл его прозы, которую он с полным основанием называл «новой». «Лагерь – мироподобен», – заявлял он еще в «Вишерском антиромане». «Я пишу о лагере не больше, чем Мелвилл о море или Экзюпери о небе», – не раз повторял он в письмах и дневнике. Наконец, главная нравственная идея, соединяющая прошлое и настоящее, выражена предельно четкой максимой, занесенной карандашом в дневники, писавшиеся на тех же ученических тетрадях: «Мои рассказы, в сущности – советы человеку, как держать себя в толпе…»
Многие из этих мыслей повторяются в 1970-е годы в письмах Ю.А. Шрейдеру, философу и публицисту, в котором он нашел близкого и, главное, понимающего человека. Сколь ни моложе был Шрейдер (на 20 лет), он оперировал схожими категориями, поднимаясь над эмпирикой жизни и пытаясь обнажить ложность целого ряда стереотипов. Познакомились они еще у Н.Я. Мандельштам, а сближение началось после известной полемической статьи Шрейдера «Наука – источник знаний и суеверий» (Новый мир. 1969. № 10), которая понравилась Шаламову «изяществом», но вызвала принципиальные возражения в части недоверия к некоторым положениям естественных наук – в эти науки писатель еще с юности верил безгранично. Он записал в дневнике: «Создается лишний миф – миф сомнения в науке». Но полемика со Шрейдером по этому поводу быстро иссякла и переписка пошла уже по другому руслу – на темы поэзии, литературы, их тайн. При этом Шаламову приходится постоянно обращаться к другой, вечно волнующей его теме – тайне человека, которая для него, впрочем, уже давно и навсегда решена: «…Я не желаю принимать участие в разговорах о победе добра, ограниченности зла и так далее. Пределы подлости в человеке безграничны…»
Найдя в своем новом знакомом критическую личность, которой не надо разжевывать банальных истин, Шаламов стремится выговориться по всем волнующим его проблемам. Важнейший для него вопрос – о взаимодействии искусства и жизни, о так называемой «воспитательной» роли искусства. Он и прежде питал большой скептицизм на этот счет, в полном противоречии с общепринятыми понятиями утверждая, что «искусство не облагораживает, отнюдь». Особенно его раздражала «учительская» роль, взятая на себя с определенного исторического момента русской литературой. Еще в одном из первых писем Ю. Шрейдеру, в 1968 году, он заявлял со всей прямотой лагерной лексики: «Беда русской литературы в том, что в ней каждый мудак выступает в роли учителя жизни, а чисто литературные открытия и находки со времен Белинского [92]92
Шаламов имеет в виду хрестоматийный отзыв В.Г. Белинского о «Евгении Онегине» Пушкина как «энциклопедии русской жизни». Для самого Шаламова главное в этой поэме – вечные темы «любви и смерти», воплощенные в гениальной поэтической форме. Этот взгляд наиболее ярко характеризует эстетику Шаламова, всегда ориентировавшегося, как он писал, на «пушкинское знамя» и являвшегося в известном смысле «адептом формы» (см. об этом: Фомичев С. По пушкинскому следу // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002; Волкова Е. Трагический парадокс Варлама Шаламова. М., 1998).
[Закрыть]считаются делом второстепенным…» (Та же, характерная для Шаламова мысль прозвучала в более развернутом виде в его рассказе «Галина Павловна Зыбалова» из последнего сборника «Перчатка, или КР-2»: «Несчастье русской литературы в том, что она лезет не в свои дела, ломает чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает». В рассказе, действие которого происходит в лагере, эта фраза звучит по-особому символично.)
Но самый важный для понимания философии Шаламова текст на эту тему, сохранившийся у Ю. Шрейдера, идет еще дальше и звучит еще более радикально: «В новой прозе – после Хиросимы, после самообслуживания в Освенциме и на Серпантинной на Колыме, после войн и революций – все дидактическое отвергается. Искусство лишено права на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права учить… Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе тяжкий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики – ученики русских гуманистов. Этот грех им не замолить…» [93]93
См.: Шрейдер Ю. «Искусство лишено права на проповедь» // Московские новости. 1988. № 49; Он же. Варлам Шаламов о литературе // Вопросы литературы. 1989. № 5.
[Закрыть]
Слова Шаламова звучат как приговор русской литературе, виновной, по его убеждению, своей «проповедью» в социальных потрясениях XX века.
Является ли этот приговор справедливым? Вряд ли. Очевидно, что к российским – и мировым – войнам и революциям нового времени привел огромный клубок накопившихся социальных противоречий, помноженных на культурные особенности разных стран и на столкновение разнообразных – властных, стремившихся к власти и вовсе не стремившихся к ней, равнодушных и благодушных – человеческих воль и интересов. Ведь и сам Шаламов писал (в «Четвертой Вологде»), что масштабы трагедии, в ее полюсах Освенцима и Колымы, «нельзя было определить ни в каком политическом клубе».
Но в логике Шаламова все-таки есть свое рациональное зерно. И не только потому, что аналогичные мысли – о влиянии русской литературы на русскую революцию – высказывали до него многие крупные русские философы и писатели (Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, В. Розанов, В. Ходасевич и др.), а о причастности западного модернизма (во всех его ветвях, начиная с философской, связанной прежде всего с Ф. Ницше) к возникновению фашизма тоже было написано много работ, с которыми Шаламов хотя бы отчасти не мог быть незнаком. Важнее другое – Шаламов не только ясно обозначил отрицательные стороны извечного «литературоцентризма» русской культуры, но и необычайно чутко угадал особую роль русской литературы названного им периода (второй половины XIX века) – благородной и прекраснодушной в своих намерениях – в формировании и последующем разжигании социальных иллюзий в обществе, в создании целого ряда мифов, вошедших в сознание и даже в подсознание целых поколений. Главным из этих роковых мифов, приведших, на его взгляд, к самым катастрофическим последствиям, он считал «народнический» миф. Действительно, ни в одной из литератур мира высокая гуманистическая идея сочувствия низшим, беднейшим слоям общества, занимающимся тяжелым физическим трудом (народу), не доводилась до такой степени экзальтации и абсурда, и нигде эта категория населения, живущая «простой жизнью» (крестьянство, а затем пролетариат), не награждалась высшими человеческими добродетелями и не превращалась в фетиш, как в России. К истокам этого мифа в литературе Шаламов считает причастными прежде всего Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого и своего любимого Ф.М. Достоевского с его идеей о «русском народе-богоносце» («…в наши дни Достоевский не повторил бы фразу о народе-богоносце», – пишет он в том же тексте).
То, что власть, особенно в сталинский период, опираясь на этот миф («Простой народ лучше всяких бар и интеллигентов»), цинично спекулировала им, приспособив к теории «классовой борьбы» и натравливая народ на интеллигенцию, Шаламов хорошо понимает. Именно это больше всего его и возмущает! В сущности, все его эскапады против «гуманистической» (читай: «народнической») литературы имеют одну цель – защиту интеллигенции, которая, на его взгляд, больше всего пострадала во время социальных катаклизмов XX века и репрессий, особенно в 1930-е годы. Эта мысль четче всего выражена в прямой авторской фразе из «Четвертой Вологды»: «Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата… Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией». В художественном плане, в преломлении через колымский опыт, эта мысль отчетливее всего проведена в одном из последних рассказов «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме». «Это вы, суки, нас погубили! – кричит здесь герой, бывший «хлебороб», ставший в лагере десятником. – Все восемь лет я тут страдал из-за этих гадов-грамотеев!» Невозможно здесь предполагать какие-либо сознательные литературные реминисценции Шаламова, однако эта фраза перекликается с фразой одного из героев «Записок из Мертвого дома» Достоевского: «Вы нас заклевали, железные носы!» Кто же виноват, что этой слепой народной злобы к «благородным» за столетие не убавилось, а, наоборот, прибавилось? Для Шаламова этот вопрос остался открытым, но к современной ему московской интеллигенции – либеральной, фрондирующей и при этом не упускающей практических выгод – он относился, как мы знаем, весьма критично.
Несомненно, что суждения Шаламова были устремлены не только в прошлое, но и в современность 1970-х годов, когда в диссидентских кругах СССР вновь разгорелись споры о революции 1917 года, о народе и интеллигенции с явным обвинительным уклоном в сторону последней. «Аферисты» и «дельцы», в понимании писателя, – это те, кто, спекулируя понятием «народ», пытался в очередной раз расколоть общество. Эта тенденция ярче всего выражается для него в творчестве и публицистической деятельности А. Солженицына. В сущности, вся поздняя проза Шаламова, его мысли в дневниках и письмах этого периода представляют собой продолжение фронтальной полемики с неприемлемым для него комплексом староконсервативных, антиреволюционных и антисоциалистических идей, связанных не только с Солженицыным, но прежде всего с ним как вождем и эмблемой «духовной оппозиции», как новым воплощением литературы, превратившейся в политическую проповедь. Последняя его литературная оценка своего главного оппонента касалась романа «Август Четырнадцатого», о котором он отозвался исключительно отрицательно: «За два века такого слабого произведения не было, наверное, в мировой литературе… Все, что пишет Солженицын, по своей литературной природе совершенно реакционно». Шаламов имеет в виду прежде всего архаичный метод писателя, ориентированный на каноны XIX века, хотя для него очевидна и политическая «реакционность» автора «Августа». Пожалуй, Шаламов был единственным, кто в те годы в полной мере осознавал опасность разрушительного потенциала, которую несла в себе «мессианская» литературно-политическая деятельность Солженицына. Но слышал ли кто его голос?..
Привыкший принимать «однозначные решения» писатель остается до конца верен той позиции, которую он высказал в письме в «Литературную газету». Его приверженность советскому строю становится в определенном смысле еще тверже, хотя он и понимает, что этот строй несет в себе огромное количество изъянов. Ощущая в обществе, особенно в среде интеллигенции, жажду перемен, он в то же время – гораздо глубже, чем многие, – понимает опасность всякого резкого социального сдвига в таком сложном государственном и культурном организме, как СССР с ее ядром – Россией. Эти мысли, в аллегорической форме, ярче всего воплощены в одном из поздних колымских рассказов Шаламова «Цикута»:
«Перемена всегда опасна. Это один из важных уроков, усвоенных человеком в лагере. Лагерник против всяких перемен. Как ни плохо здесь – там, за углом, может быть еще хуже».
Не есть ли это самая точная характеристика ментальности советского общества начала 1970-х годов и собственной ментальности Шаламова как старого лагерника, понимающего приверженность своих соотечественников единым «лагерным» (коллективистским, солидаристским, патерналистским и др.) законам, которые стали плотью и основой жизни? Не есть ли это голос мудреца-мыслителя, предупреждающего о том, как опасны резкие повороты в таком обществе? Не есть ли это голос истинного пророка, предвидящего катастрофическое развитие событий, если они пойдут по пути, к которому призывают самые рьяные ниспровергатели сущего?
Нельзя не заметить, что поздний «советский консерватизм» Шаламова (назовем это так) и типологически, и психологически (но, разумеется, не идеологически) очень близок тому консерватизму, который исповедовали в свое время Ф.М. Достоевский, К.Н. Леонтьев и другие крупные мыслители, остро ощущавшие культурно-национальное своеобразие России. Разве в отношении Шаламова к «прогрессивному человечеству» нет связи, скажем, с отношением автора «Бесов» к современным ему «прогрессистам», «либералам» и «нигилистам»? А в предвидении Шаламова эпидемии «блатарской инфекции» нельзя ли увидеть преемственность с пророчеством Леонтьева о «демократизации пороков» – самом худшем и низменном воплощении любой необузданной «демократии» в такой стране, как Россия?..
Но сам Шаламов, человек другой эпохи, мыслит совершенно иными, гораздо более рациональными категориями. В сложившемся во второй половине XX века мире он ищет реальные координаты. Идея атомной бомбы как «гаранта мира» его удовлетворяет только до известной степени. Человечество должно находить пути компромисса, но должно искать его на левом, отвечающем интересам большинства людей направлении – таков вектор его размышлений. Наиболее определенно мысли Шаламова на этот счет высказаны в недавно опубликованных записях о своем друге Я.Д. Гродзенском (после его смерти в 1971 году): «…Уж если в истории была какая-то не иллюзия, а реальная свобода, то это свобода ругать свое правительство, единственная свобода слова в истории. Но ни он, ни я не принадлежали к поклонникам демократических институтов Запада – но оставляли за ним "оценку" (? – нрзб) как единственный реальный путь пусть мизерной, но свободы. Ибо ни социалистическое государство тоталитарного типа (Шаламов с очевидностью говорит о сталинском государстве. – В. Е.), ни Мао Цзе-дун свободы людям не несут. Все это шигалевщина, предсказанная Достоевским. Это не значит, что под "левое" не надо ставить» [94]94
Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011. С. 36—37. К сожалению, последняя фраза в публикации была упущена. Восстановлена по рукописи: РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Д. 130. Л. 71.
[Закрыть]. О том же говорит дневниковая запись, сделанная тогда же: «…Моя формула антивоенная, чуждая и даже противопоставленная духу подчинения и приказа. Поэтому „новые левые“+, Максимов+, а Гароди и Сахаров – минус» [95]95
Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 39. По воспоминаниям известного филолога С.Ю. Неклюдова, сына О.С. Неклюдовой, тесно общавшегося с Шаламовым на протяжении более чем десяти лет, писатель в своих повседневных разговорах на общественные темы выражал взгляды, которые мемуарист характеризует как «правосоциалистические», то есть принадлежащие умеренному крылу левого движения, и при этом «хорошо отзывался о меньшевиках», то есть социал-демократах. Оба течения, как известно, делали акцент на этической стороне политики, выступали против насилия. Несомненно, это – след молодости Шаламова и еще одно свидетельство того, что он не менял своих убеждений, которые глубоко расходились как с идеологической ортодоксией в СССР, так и с ортодоксией Запада.
[Закрыть].
Как бы ни трактовать эту запись (она требует особого анализа и комментария, в частности, в отношении Шаламова к идеям А.Д. Сахарова, – очевидно, имеется в виду не идея конвергенции, которую писатель одобрял, а нечто иное, спорное. К сожалению, трудно понять, почему «плюс» поставлен писателю Вл. Максимову, который четкостью взглядов не отличался и прошел сложную эволюцию), – здесь в общем виде также ясно заявлены предпочтения Шаламова, отдаваемые им «левому» движению в мире в противовес «правому». Разумеется, не в плане экстремизма и новой «шигалевщины», а в плане стремления хотя бы к элементарной социальной справедливости и к свободе – той «свободной воде», о которой писатель мечтал всю жизнь. Иначе и трудно представить позицию Шаламова – неужели он, воспитанный в традициях нестяжательства, с молодости принявший социализм и отдавший всего себя, свою молодость и свои страдания его идеалам, при всей неизменной прямоте своего характера стал бы исповедовать идеи и ценности противоположного, торгашеского, буржуазно-консервативного порядка и думать о их реставрации?..
Наверное, Шаламову не все удалось договорить. Но напрасно было бы ждать от него каких-либо политических программ или рецептов «спасения» или «обустройства» своей страны и мира. Каждому чуткому читателю начала XX века достаточно заряда могучей силы сопротивления злу, пронизывающей все, созданное Шаламовым. Такой читатель хорошо разберется в противоречиях и парадоксах писателя, в том единстве, которое связывает его неверие (в человека, в литературу, в гуманизм) с его же неколебимой верой в чудодейственную силу подлинного искусства и высокого нравственного примера:
«Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на какой-либо достойный поступок – в чем угодно, в каком-то маленьком плюсе».
Глава девятнадцатая.
ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ И СКОРБНЫЙ ТРИУМФ
«Несколько моих жизней» – так назывался один из вариантов автобиографии Шаламова. Их было действительно несколько, этих жизней – в разных эпохах, до грани умирания и счастливого воскрешения, от полной беспросветности до больших и малых надежд. Но последний отрезок его земного пути – из рода тех, о которых (как он писал о лагере) людям надо бы «ни знать, ни помнить». Такого страшного, мучительного конца не выпадало в мирное время никому из выдающихся писателей. «…Уж лучше посох и сума», – заклинал когда-то Пушкин. Но ни посоха, ни сумы у Шаламова не было…
«Спокойно пожить», как настаивала когда-то первая жена Галина Игнатьевна Гудзь, и к чему он стремился, переехав на Васильевскую, времени почти не оставалось. Основной диагноз, поставленный еще в 1957 году в Боткинской больнице, – болезнь Меньера, был подтвержден в 1970 году профессором Л.Н. Карликом, знакомым Я.Д. Гродзенского, который через врача Н.Е. Карновскую (жену Гродзенского) выписал ему специальную справку на случай происшествий на улице:
«Пенсионер Шаламов Варлам Тихонович, 1907 года рождения, страдает болезнью Меньера, выражающейся во внезапно наступающих приступах: внезапное падение, головокружение, тошнота, иногда рвота, резкое снижение слуха, нарушение равновесия.
В случае появления приступа на улице или в общественных местах просьба к гражданам оказать больному помощь: помочь ему лечь, положить его в тень, голову обливать холодной водой, ноги согреть.
Вынести на свежий уличный воздух из душного помещения, только не на солнце. Не усаживать и не поднимать головы.
ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!»
Справка, которую Шаламов постоянно носил с собой, оказалась для него незаменимой, потому что его, с бросками при ходьбе, потерей координации и падениями, нередко принимали за пьяного и вызывали милицию. Но в начале 1970-х годов такое случалось еще нечасто. Резкое ухудшение здоровья началось в 1977 году, вслед за последней для него радостью, которую он ждал и которая его как-то мобилизовывала, – выхода сборника стихов с многозначащим названием «Точка кипения». Он успел, по обычаю, разослать и раздарить сборник своим близким знакомым, и на этом «точка кипения» его жизни была пройдена – началось быстрое и ничем не остановимое угасание могучих и казавшихся неисчерпаемыми человеческих сил.
На улицу он уже почти не выходил. Трагическую картину передвижения Шаламова по центру Москвы в этот период запечатлел молодой поэт М. Поздняев: «И вспомнил Варлама Шаламова я, / Как враскачку он шел по Тверской, / руки за спину круто заламывая, / макинтош то и дело запахивая / и авоськой плетеной помахивая / с замороженной насмерть треской… / На винтах, на шарнирах, на слове честном, / на пределе, на грани сознанья и тьмы, / и мычит, и клекочет орлом, и хрустит, / и хрустит, как кустарник в костре… / и о ужас кромешный. И стыд».
После расставания с И.П. Сиротинской он не был совсем заброшенным – она продолжала навещать его, и появилась женщина для ухода за ним, найденная Ю.А. Шрейдером, Людмила Владимировна Зайвая. Но и та и другая были заняты работой, семьей (Зайвая работала в обществе книголюбов, у нее была дочь, требовавшая внимания), и никто не мог по-настоящему заботиться о старом и больном человеке. Те, очень понятные взаимные упреки, которые звучат то явно, то подспудно и в воспоминаниях Сиротинской, и в воспоминаниях Зайвой [96]96
См.: Сиротинская И. Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006; Зайвая Л. Шаламов отдался мне весь, со всеми тайнами // Общая газета. 1996. № 27. Контрастной линией, разделяющей эти воспоминания, является эксцентричность Л.В. Зайвой, к сожалению, нередко переходящая в вульгарность. Какая из женщин могла бы открыто признаться, что мужчина, пусть он и бывший многолетний колымский заключенный, называл ее самыми непристойными словами?.. Итоговые размышления писателя о роли любви в своей судьбе запечатлены в позднейших его записях: «Женщины в моей жизни не играли большой роли – лагерь тому причиной», и в гораздо более прямой, типично шаламовской: «Я, рано начавший половую жизнь (в четырнадцать лет), прошедший жесткую школу двадцатых годов, их целомудренного начала и распутного конца, давно пришел к заключению (пришел к заключению в заключении, прошу прощения за каламбур), что чтение даже вчерашней газеты больше обогащает человека, чем познание очередного женского тела, да еще таких дилетанток, не проходивших курса венских борделей, как представительницы прекрасного пола прогрессивного человечества» (Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 8,60).
[Закрыть], не помогут найти решения в чью бы то ни было пользу, потому что это – бессильный спор женских сердец и женских пристрастий. Никто из них не мог посвятить себя ему целиком, ни у кого не было возможности нанять для него сиделку или домработницу. Но никто и не оставлял! Сиротинскую волновала больше всего судьба шаламовского архива, который начал потихоньку таять. Зайвую архив тоже интересовал, но по другому поводу – как любительницу автографов, раритетов. Шаламов по широте душевной, уже болезненной, многое ей просто отдавал, ничем не дорожа. «Все это надо выбросить!» – кричал он иногда. И все же в апреле 1979 года Шаламов позвонил Сиротинской с просьбой забрать все оставшиеся рукописи в государственный архив. «Воруют», – сказал он.
Дата упомянута в воспоминаниях Сиротинской совершенно точно. Дело в том, что, согласно сохранившейся справке, писатель с 21 февраля по 4 апреля 1979 года находился на стационарном лечении в неврологическом отделении Московской городской клинической больницы № 67. За время его отсутствия, очевидно, и происходили кражи – как с санкционированным (с разрешения, с передачей ключей) доступом в его квартиру, так и с несанкционированным, то есть со взломом. О последнем дает повод судить поразительный случай, ставший известным лишь в 1996 году, когда в Вологду, в созданный уже Шаламовский музей, обратился с просьбой приобрести(!) рукописи Шаламова бывший офицер КГБ, пожелавший остаться неизвестным. По его признанию, эти рукописи он нашел на помойке(!) и долго хранил их у себя, пока не настала тяжелая пора российских реформ, вынудившая его, к тому времени пенсионера, продать эти рукописи, чтобы поправить материальное положение свое и внуков. Как рассказывала автору непосредственная участница этой акции, представительница Шаламовского дома, при передаче денег гэбист-пенсионер плакал и просил его простить, потому что в рукописях Шаламова он не нашел ничего «криминального» и жалел о его судьбе…
Все это ярко свидетельствует о том, что писатель и его квартира продолжали находиться под наблюдением «органов», и абсурдность этой истории ярко высвечивает маразматическую подозрительность властей позднего советского периода. Впрочем, есть и другое объяснение: в 1978 году в Лондоне в издательстве «Оверсиз пабликейшн» вышло очередное пиратское издание книги «Колымских рассказов» Шаламова на русском языке с предисловием М. Геллера. Естественно, у КГБ возникла версия о том, что писатель каким-то тайным образом поддерживает связь с ЦРУ и другими секретными службами Запада. Это он-то, который весь на виду, больной, едва передвигающийся по улице (вспомним стихотворение М. Поздняева), в пиджаке на голое тело, в брюках, не достающих до щиколоток! Вот его и «проверяли» на сей предмет, приставив наблюдателя за квартирой…
Знали бы об этом господа-буржуа Р. Гуль и неведомый Стипульковский, торговавшие «Колымскими рассказами» во имя якобы «защиты свободы слова в СССР» и «просвещения» западного читателя. Знал бы об этом М. Геллер, при всей своей солидной учености являвшийся непримиримым врагом «коммунистической утопии» и в очередной раз повторявший в своем предисловии версию о том, что Шаламова «сломили» и «заставили» отказаться от «Колымских рассказов». Знал бы об этом ведущий американский историк-советолог Р. Конквест, выпустивший в том же 1978 году книгу о Колыме, в которой он опирался на художественную прозу Шаламова как на исторический источник и при этом в унисон А. Солженицыну, его «Архипелагу ГУЛАГ», произвольно и многократно преувеличивал цифры погибших от репрессий [97]97
Если Солженицын, нисколько не сообразуясь с реальностью, заявлял о 66,7 миллиона человек, погибших в СССР за годы советской власти, то Р. Конквест писал о трех миллионах, погибших только на Колыме (см.: Conquest P. Arctic Death Camps. New York, 1978. P. 16). Между тем у Шаламова подобных данных нет, он вообще не употреблял в своих рассказах и очерках конкретных цифр. Согласно современным документальным данным, основанным на журналах прибытия этапов пароходами в бухту Нагаево, на Колыму за 1932—1953 годы были завезены 876 тысяч заключенных, из них погибли (расстреляно, умерло от голода и болезней) около 150 тысяч человек (см.: Козлов Л.Г. В период «массового безумия» // Вечерний Магадан. 1992. 2 декабря или на сайте kolyma.ru; см. также: Широков Л.И. Даль-строй: предыстория и первое десятилетие. Магадан, 2000. С. 119).
[Закрыть].Все это можно назвать апофеозом пропагандистской войны, где Шаламов был исключительно жертвой, отданной на жестокое растерзание всевозможным «акулам» и «прилипалам» – подобно «большой рыбе» у Э. Хемингуэя. Надо заметить, что повесть «Старик и море» Шаламов очень высоко ценил и считал, что Хемингуэй «сумел в такой кристальной форме и с такой силой рассказать еще раз самый пронзительный, самый трагический, самый грозный греческий миф – миф о Сизифе». Это дает основание говорить, что и сам он сравнивал свою работу с сизифовой, и позволяет – кроме русской традиции подлинного, почти монашеского подвижничества – провести параллели с той философией одинокого стоического сопротивления злу, которая воплощена во французском экзистенциализме и ярче всего выражена у А. Камю в «Мифе о Сизифе» с его знаменитой последней фразой: «Он тверже своего камня»…
Лондонское издание он увидел лишь в 1981 году, находясь в доме инвалидов. Книгу принесла Сиротинская, которой ее передал поэт Г. Айги. По воспоминаниям Сиротинской, Шаламов «медленно ощупывает книгу и говорит равнодушно: "Я понимаю, что издали Там. Но ведь должны быть деньги"».
1979 год для него начался, как мы знаем, с 67-й московской клинической больницы. Здесь ему поставили уже совершенно иной диагноз – не болезнь Меньера или Паркинсона (их симптомы отчасти схожи), а гораздо более суровый и неутешительный – хорея Гентингтона. Обследование и диагностику проводил молодой, но опытный врач-невропатолог М.И. Левин. Он с особым вниманием отнесся к Шаламову, поскольку узнал, что он – большой писатель и поэт (о чем доктору сначала сообщил Ю.А. Шрейдер, а затем он и сам в этом убедился, прочтя доставленные ему на прочтение «Колымские рассказы» и стихи, лично подаренные Шаламовым). Согласно специальным пояснениям М.И. Левина, хорея Гентингтона является серьезным неврологическим (а не психоневрологическим) заболеванием наследственного характера, начинается в 40—60 лет и может длиться затем от десяти до тридцати лет без заметных интеллектуальных проблем. Основным внешним признаком болезни являются так называемые гиперкинезы – насильственные движения в конечностях, лице и языке. Они ведут к нарушению походки и письма, к затруднениям при приеме пищи. В эмоциональной сфере у Шаламова наблюдались крайняя раздражительность, взрывчатость, сменяющаяся абсолютной покорностью и чувством вины перед обслуживающим персоналом больницы. Он лежал, свернувшись калачиком, и постоянно прятал пищу под матрас, а затем часами искал свои съедобные сокровища, иногда нянечки кормили его с ложки… Глухота и глаукома обоих глаз дополняли эту картину. «В конце концов, это заболевание кончается тяжелой деменцией и кахексией», – неутешительно заключал доктор М.И. Левин [98]98
Впервые воспоминания М.И. Левина были опубликованы в русскоязычном американском журнале «Побережье» (2007, № 16), затем воспроизведены с комментарием в «Шаламовском сборнике» (Вып. 4. М., 2011. С. 53—59). Специальные рукописные дополнения сделаны доктором для сайта shalamov.ru, где размещены в разделе «Фотоархив». Деменция – слабоумие; кахексия – развитие ракового процесса.
[Закрыть].
Диагноз был поставлен, напомним, в феврале 1979 года, а в апреле Шаламов – несмотря на все усилия лечащего врача подольше задержать его – был выписан из больницы при некотором улучшении состояния. Тяжелый и мучительный характер болезни Шаламова сопровождался и в дальнейшем редкими просветами, что позволяло ему общаться с навещавшими его, писать – вернее, проговаривать стихи, но великий дух быстро угасал. 25 мая 1979 года Шаламов, при содействии Литфонда, в сопровождении его сотрудницы, а также вызванных соседкой по телефону старых знакомых, бывших колымских заключенных Г.А. Воронской и ее мужа И.С. Исаева, был перевезен в дом престарелых и инвалидов. Подробности этой крайне печальной истории запечатлены в воспоминаниях И.С. Исаева, который оказался в этой ситуации и последним реальным помощником, и последним беспристрастным свидетелем.
По его сведениям, Литфонд еще за два года до того предлагал Шаламову размещение и лечение в этом доме. Но писатель наотрез отказывался: «В богадельню не пойду, а насильно отправите – повешусь!» Это было скорее внутреннее мощное предубеждение против любого рода «богаделен», которые у него ассоциировались с лагерем, а слово «повешусь» – защитной эмоцией, потому что в дневнике Шаламова 1970-х годов есть решительная фраза: «Я никогда не покончу с собой», продолжающая мысль его стихотворения 1966 года: «Никогда не покончу с собой – / Превращусь в невидимку, / И чтоб выиграть бой, / Стану призрачной дымкой…» О своем неизбежном конце он давно думал, но – без малейшего страха, потому что он, несмотря ни на что, успел сделать все, предначертанное судьбой, и единственное, чего желал, – чтобы смерть произошла мгновенно, на пике порыва к недостижимому счастью, в полном сознании, мужественно и героически, но никак не унизительно, немощно, на каких-то убогих больничных кроватях:
Вот так умереть – как Коперник – от счастья,
Ни раньше, ни позже – теперь,
Когда даже жизнь перестала стучаться
В мою одинокую дверь.
Когда на пороге – заветная книга,
Бессмертья загробная весть,
Теперь – уходить! Промедленья – ни мига!
Вот высшая участь и честь.
(Стихотворение середины 1970-х годов)
И все-таки наступил день, когда он согласился отправиться в «богадельню», дом престарелых, поняв (вернее, ощутив инстинктивно, как лагерный доходяга), что он уже неподвластен себе, что его гордый принцип: «Одиночество – оптимальное состояние человека» – в таком возрасте и в таком состоянии уже окончательно теряет силу…
За ним приехала «скорая помощь», по тревожному звонку соседей. В этот момент рядом не было ни И.П. Сиротинской, ни Л.В. Зайвой, из друзей – только Иван Степанович Исаев, навещавший Шаламова и прежде и хлопотавший о его переводе на казенное призрение.
Еще в первый свой приезд, зайдя вместе с женой в комнату к Шаламову, он увидел картину, «подробно описывать которую было бы просто святотатством. Я сразу убедился, что никто за Шаламовым по-человечески не ухаживает… На полу валялись страницы какой-то его рукописи, журналы, газеты, книги. Подойдя вплотную к Шаламову, я взял его за руку и громко сказал почти в самое ухо, что это мы пришли к нему в гости. Шаламов обрадовался, жал нам руки, но мы тогда не заметили, что он ничего не видит и узнал нас только по голосу…» О его отъезде в дом престарелых И.С. Исаев вспоминал так же сдержанно: «Я молча собрал все, что можно было собрать. Все его носильные вещи уместились в старый чемодан и рюкзак. Демисезонное пальто, покрытое серым пухом, и шапку из овчины он надел на себя, хотя жара в квартире и на улице была не меньше 30 градусов…» Во дворе не обошлось без внимания любопытных старух. И.С. Исаев писал: «Жена потом сказала, что какая-то старуха, глядя на Шаламова, спросила: "Да что же это он такой?" Другая ответила: "А разве он виноват, что Сталин дал ему кровавую путевку в жизнь". После такого определения старухи запричитали, заахали. А жену мою спросили: "А вы здесь кого представляете?" Она ответила: "Колыму". "А-а-а", – протянула спросившая и покачала головой» [99]99
Исаев И.С. Первые и последние встречи // Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 89—97. См. также: Воронская Г.Л. В стране воспоминаний. М., 2007. С. 76—83. Здесь фраза старухи и ответ ей звучат более выразительно: «"А вы от какой организации его провожаете?" Я ответила: я его провожаю от Колымы…»
[Закрыть].
В этой сцене гораздо точнее поставлен диагноз болезни Шаламова – не медицинский, а социальный. Никакой клиницист не смог бы, наверное, отрицать, что главная причина катастрофического ухудшения здоровья Шаламова связана с его неимоверными лагерными и послелагерными страданиями.
С 25 мая 1979 года по 15 января 1982 года он находился в доме престарелых и инвалидов на улице Лациса, 3, в районе Планерной—Тушина. Ему, ввиду его тяжелого состояния, вскоре была предоставлена отдельная комната с санузлом. Номер комнаты на третьем этаже – 244. Навестить его приходили многие. Чаще всего бывала И.П. Сиротинская – об этом автору лично рассказывал главный врач дома престарелых Ю.Ф. Соловьев. И она вспоминала эти встречи со всеми подробностями: «"Здесь очень хорошо, – говорил он. – Здесь хорошо кормят". Лагерные привычки вернулись к нему. Простыни, пододеяльники он срывал, комкал и прятал под матрас – чтобы не украли. Полотенце завязывал на шее…»
С полным равнодушием Шаламов воспринял ее сообщение летом 1981 года, что ему присуждена премия Свободы, учрежденная французским Пен-клубом.
«Сказать, что он был невменяем – нельзя, – говорила Сиротинская. – Самое страшное, что внутри этого немощного тела был кусочек жизни, поэзии». Шаламов продолжал сочинять стихи. Некоторые из них она запомнила, записала и включила впоследствии в поэтический том его сочинений:







