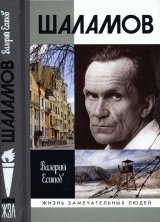
Текст книги "Шаламов"
Автор книги: Валерий Есипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Шаламов в высшей степени добросовестно исполнил свой долг. Письмо было написано быстро, сразу по окончании процесса. Сам он не имел возможности присутствовать на процессе, куда допускались только близкие подсудимых, и подробности, которые он включал в текст – о мужественном поведении Синявского и Даниэля, о литературных экспертизах их произведений, о тактике председателя суда Л. Смирнова и т. д., – могли сообщить только непосредственные свидетели.
Письмо преисполнено исключительного уважения к Синявскому и Даниэлю, представляло своего рода панегирик им – прежде всего потому, что они достойно вели себя на процессе. «Их пример велик, их героизм беспримерен… Они вписали свои имена золотыми буквами в дело борьбы за свободу совести, за свободу творчества, за свободу личности», – писал Шаламов [73]73
Цит. по: Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1990. С. 517.
[Закрыть]. Столь высокая патетика объяснялась тем, что, по его словам, «впервые за почти пятьдесят лет» подсудимые на политическом суде не только не признали свою вину, но и не «покаялись». Причем за точку отсчета Шаламов брал не процессы 1936—1937 годов, а процесс 1922 года над правыми эсерами, о котором в 1960-е годы никто не помнил. Как можно полагать, в этом упоминании была едва ли не главная «крамола» письма – почему на процессе А. Гинзбурга, Ю. Галанскова и других в 1968 году этот анонимный текст был признан «антисоветским»: ведь эсеры, а тем более правые, считались в коммунистической ортодоксии врагами – они «боролись против советской власти», хотя в 1922 году уже давно не боролись…
Шаламов не касался вопроса о правомерности или неправомерности публикаций А. Терца и Н. Аржака за рубежом (для него самого этот вопрос был очень непрост), он лишь утверждал, что «возможность печататься нужна писателю как воздух» и что «нельзя судить человека, видевшего сталинское время и рассказавшего об этом, за клевету или антисоветскую агитацию». (Последняя фраза – как бы предупреждение против гонений на свое творчество.)
Письмо касалось и эстетики. Шаламов, обращаясь к «старому другу», высказал характерную для себя мысль: «Мне кажется, что наш с тобой опыт начисто исключает пользование жанром гротеска и научной фантастики. Но ни Синявский, ни Даниэль не видели тех рек крови, которые видели мы. Оба они, конечно, могут пользоваться и гротеском, и фантастикой». Таким образом, эстетику Терца и Аржака Шаламов принимал и считал обусловленной временем. Пассаж из его письма: «Что было бы, если бы Рей Брэдбери жил в Советском Союзе – сколько бы лет получил – 7? 5?» – свидетельствует, что самому автору «Колымских рассказов» не был чужд памфлетный гротеск.
«Письмо старому другу», написанное хотя и по «социальному заказу», но с полной искренностью и великодушием, имело важные последствия для Шаламова – и, увы, очень неприятного свойства. Есть все основания полагать, что сразу после появления письма в самиздате, а затем за границей КГБ заинтересовался выяснением его авторства. Опыт литературных экспертиз у этой организации имелся, а стилистика Шаламова, его пафос, его метафоры и гиперболы (ср: «И ты, и я – мы оба знаем сталинское время – лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где погибли миллионы людей»; последняя метафора указывает на то, что воображаемым «старым другом» был скорее всего Г.Г. Демидов), – все легко узнавалось, как узнается и сегодня. Но экспертизы, вероятно, и не понадобилось, потому что с гораздо большим основанием можно предполагать, что условие анонимности было на определенном этапе нарушено и кто-то просто «проболтался» об авторе. Разумеется, невозможно обвинить в этом А. Гинзбурга, непосредственно занимавшегося освещением дела Синявского—Даниэля, а затем издавшего «Белую книгу» по этому делу, куда впервые вошло «Письмо старому другу». Но утечка информации об авторе [74]74
На следствии и на суде А. Гинзбург категорически заявлял, что «не знает» его автора. В своем последнем слове на суде он говорил: «Человек, переживший ужасы того страшного времени, не может не волноваться, когда ему вдруг кажется, что в теперешней жизни он видит рецидивы прошлого, и тогда выражение этого беспокойства в резкой форме вполне правомерно. Я утверждаю, что в „Письме старому другу“ не содержится клеветы на советский строй и призыва к его свержению, и прошу суд не квалифицировать это произведение как антисоветское». Авторство Шаламова было раскрыто А. Гинзбургом лишь в 1986 году в эмиграции, при публикации письма в парижской газете «Русская мысль».
[Закрыть]на каком-то этапе произошла – и не могла не произойти – не в силу злого умысла, а потому что многие так называемые «диссиденты», особенно первого призыва, были крайне наивны, просто непрофессиональны в области конспирации, а КГБ в этот период начал активно использовать свои «прослушки».
Обо всем этом свидетельствуют записи в дневнике Шаламова этого периода – о возникновении «ада шпионства» (красноречивейшие слова!) в его квартире на Хорошевском шоссе, о встречах с незнакомыми людьми на улице, которые «жмут руку», и другие многочисленные, резкие и презрительные высказывания: «Правдолюбы наших дней – они же осведомители и шантажисты»; «ПЧ («прогрессивное человечество» – так именовал Шаламов диссидентствующих окололитературных деятелей и некоторых лидеров движения. – В. Е.) состоит наполовину из дураков, наполовину из стукачей, но дураков нынче мало». Сам Шаламов знал толк в конспирации – еще по опыту 1920-х годов. Теперь же с горечью убеждался, что нынешние «подпольщики» напоминают скорее Репетиловых. «Они затолкают меня в яму, а сами будут писать петиции в ООН», – с негодованием говорил он позднее И.П. Сиротинской.
Именно этим объясняется то, что он отстранился от окружения Н.Я. Мандельштам, а потом порвал отношения и с самой Надеждой Яковлевной (последнее его письмо, датированное июлем 1968 года, скорее формального порядка, содержит просьбу не приглашать на случай возможных встреч «одиноких дам», то есть потенциальных разносчиков разнообразных сплетен). Самое же важное – он резко изменил свое отношение к самиздату. Теперь, судя по записи в его дневнике, он «не выпускает ни одной рукописи из стола».
Сожалел ли он о том, что написал «Письмо старому другу»? Никаких сведений на этот счет нет. Да и трудно подобное предполагать, потому что Шаламов никогда не пересматривал свои самые решительные жизненные шаги. В истории литературы и общественной борьбы 1960-х годов это письмо останется символом верности Шаламова своим идеалам, смелым гражданским поступком писателя. Просто цена этого поступка, даже в изменившихся общественных условиях, оказалась слишком велика для художника, который с этой поры стал вынужден скрывать свое самое сокровенное, уйдя в глухую изоляцию.
Глава шестнадцатая.
«ТЫ ПОДАРИЛА МНЕ ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ»
Появление на пороге маленькой комнаты Шаламова молодой женщины из отдела комплектования ЦГАЛИ (Центрального государственного архива литературы и искусства) пришлось на очень неподходящее время. Это было 2 марта 1966 года – вскоре после «Письма старому другу», усилившего внимание к автору «Колымских рассказов», а он этого внимания всячески избегал. Да он и прежде не отличался общительностью. Недаром посредница в этой встрече Н. Зеленина – дочь известного филолога и переводчицы В.Н. Клюевой, хорошо знавшей Шаламова, предупреждала молодую архивистку: «Он очень резок, чуть что не по нему, с лестницы спустит».
Но Ирине Сиротинской повезло. Она пришла по конкретному и важному делу – с предложением к Шаламову передать его рукописи в ЦГАЛИ, на самое надежное – вечное – хранение. Это была ее личная инициатива, потому что незадолго до того она прочла самиздатские «Колымские рассказы», знала и его стихи, и как профессионал понимала, что «рукописи не горят» только в архиве (фраза М. Булгакова тогда еще не вошла в обиход, но все архивисты давно следовали ей в жизни).
Кроме практического повода у Сиротинской, как она писала в своих воспоминаниях, был и другой – она надеялась получить ответ на вопрос: «Как жить?» Такие вопросы были типичны для России не только XIX века, когда молодые думающие люди в поисках истины обращались к высшим авторитетам, писателям, властителям дум – Л. Толстому, Достоевскому, Тургеневу, но и для России середины XX века, когда главный нерв духовной жизни снова воплотился в литературе. Политическая ситуация в стране не давала ответов на подобные вопросы, более того, она отталкивала своей официозностью, а для чуткого читателя, в данном случае – читательницы, которая была потрясена беспощадным шаламовским «Тифозным карантином», мир зашатался в своих основах и требовал какой-то опоры.
Но Шаламов не был склонен к душеспасительным беседам. В ответ на вопрос, как жить, он напомнил десять заповедей и добавил свою, одиннадцатую – «не учи». «Не учи жить другого, – так поняла И.П. Сиротинская эту мысль Шаламова. – У каждого своя правда. И твоя правда может быть для него непригодна именно потому, что она твоя, а не его». (Это скорее бытовой уровень восприятия «одиннадцатой» заповеди Шаламова – в философском смысле она значила гораздо больше и являлась итогом его пессимистических размышлений о судьбах идей многих русских писателей, вступивших на путь учительского морализаторства и «исправления человечества». Позднее эти мысли Шаламов разовьет в одном из писем к Сиротинской.)
На ее удивление, при встрече он оказался очень доброжелательным. Что на это повлияло – искренность и наивность вопросов молодой женщины, идеалистки, почти «тургеневской девушки» (Сиротинской тогда было 33 года, и то, что она являлась матерью троих детей, он на тот момент не знал) или озабоченность судьбой собственного архива – а она давно стала волновать его, – сказать трудно. Но уже летом того же года Шаламов передал часть своих рукописей (машинописей), в том числе первые сборники «Колымских рассказов», в ЦГАЛИ.
Вопросы наследства в юридическом смысле его в это время не занимали – ему было 59 лет, при всех недомоганиях он чувствовал в себе большой запас сил, и важнейшей для него была проблема всего написанного. Государственный архив давал не только полные гарантии на этот счет, но и заведомо ограничивал доступ посторонних людей, что Шаламова вполне устраивало. На тот момент растаскивания рукописей из заветного чемодана (там, под полками с книгами, хранил в комнате писатель свой архив) еще не происходило, – это началось позже, – и, можно сказать, что Ирина пришла к нему в тот день, словно угадав желание Варлама Тихоновича.
Осенью того же года он развелся с О.С. Неклюдовой. Причина этого отнюдь не в появлении Сиротинской – до сближения с ней было еще далеко, а никаких реальных планов на новый брак у него быть не могло. Отношения же с Ольгой Сергеевной разладились давно – прежде всего на литературной почве. Слишком разные они были писатели, да и люди тоже. Любопытна запись в автобиографии Неклюдовой 1966 года: «В 1956 г. я взяла в дом В.Т. Шаламова, который и поныне живет у меня». Не традиционное – «вышла замуж», как она писала в той же автобиографии о предыдущем браке с Ю.Н. Либединским, а «взяла в дом». С одной стороны, эти слова свидетельствуют о теплоте и жалостливости женщины, о ее желании приласкать и взять под опеку одинокого, фактически бездомного после развода с Г.И. Гудзь, писателя, а с другой стороны – о своеобразном, в определенной степени отчужденном отношении к нему.
Но в первые годы их совместной жизни это никак не проявлялось. Они постоянно были вместе, часто гуляли (что, кстати, запечатлено на одной из фотографий наблюдения КГБ за Шаламовым); к ним – обоим, с обязательными приветами Ольге Сергеевне, обращались в своих письмах все знакомые, включая А. Солженицына и колымских друзей. Но к середине 1960-х годов между ними возникло охлаждение, и главная причина этого состояла не в том, что оба были вспыльчивыми, нервными людьми, а в том, что Шаламов как писатель постоянно рвался ввысь, к вечному и недосягаемому, а Неклюдова оставалась на прежнем уровне – писала книжки для детей, для семейного, домашнего чтения «под абажуром». Главным произведением в своей жизни она считала роман «Ветер срывает вывески», законченный в 1956 году. Увы, он не оправдал своего столь многообещающего названия. Только при первом знакомстве с Ольгой Сергеевной в том же году Шаламов в переписке с ней мог делать комплименты этому роману в целом, указывая при этом и на его серьезные изъяны, но затем верх взял все же акцент на изъянах – на сентиментальном бытописательстве, отсутствии новых идей и мыслей. (Впрочем, ему всегда нравились романтические стихи Неклюдовой, включенные в роман в виде эпиграфов, например: «Все изменилось на глазах. / Забыв сегодняшний, вчерашний, / Пред завтрашним утратив страх, / Держу свободу я в руках…»)
Тем временем отношения с Сиротинской начали развиваться и выходить на новый, неожиданный для обоих круг. Как случилось, что они стали близки – молодая замужняя «филологиня» и суровый одинокий писатель-лагерник? Пожалуй, единственным ключом может служить известное размышление Н.А. Бердяева о странностях русской любви, которая со стороны женщины обычно предполагает антиномию (или гармоничное сочетание) любви-страсти и любви-жалости. Нет сомнения, что Сиротинской, как и прежде – О.С. Неклюдовой, двигала любовь-жалость – горячее желание согреть своим чувством обделенного заботой, несчастного, но при этом очень талантливого и удивительно прекрасного по своим внутренним качествам человека. Внешне он большой и сильный «викинг», а в душе – «маленький беззащитный мальчик» – так определила ипостаси характера Шаламова его последняя любимая женщина, добавив к этой характеристике его неожиданную фразу: «Я хотел бы, чтобы ты была моей матерью»… Для «фона» и для объяснения открытости возникшего чувства можно сказать лишь то, что муж Сиротинской, Леонид Семенович Ригосик, был тихим и скромным, вечно занятым работой авиационным инженером, он не вникал в личную жизнь жены, не был ревнив, а если о чем-то и догадывался, то, по благородству, никогда не высказывал своего отношения, будучи глубоко привязан к жене и детям. Такие феномены в семейной жизни существовали всегда, здесь нечему удивляться и нет повода злословить.
Огромное чувство любви и благодарности к Сиротинской Шаламов выразил в посвященной ей книге «Левый берег» – это был второй, завершенный еще в 1965 году, сборник рассказов колымского цикла. Ей же посвящен и сборник «Воскрешение лиственницы», законченный в 1968-м. Хотя часть рассказов была написана в 1965-м, основные создавались все же при ее эмоциональной поддержке, и посвящение звучит вполне красноречиво и определенно: «Ирине Павловне Сиротинской. Без нее не было бы этой книги».
Сборник тоже был сдан в архив, но прежде Шаламов давал читать его своим знакомым, и он незаметно перетек в самиздат. Государственное издательство «Советский писатель» в 1967 году выпустило лишь маленькую, в очередной раз урезанную, поэтическую книжку «Дорога и судьба», но и это добавило радости его жизни, особенно когда ему стала известна рецензия Г. Адамовича, появившаяся в парижской «Русской мысли» в августе 1967 года (об этом в следующей главе).
Самым счастливым для обоих – а прежде всего для него – оказался 1968 год. В мае Шаламов наконец-то, после долгих хлопот через Литфонд как писатель-инвалид, получил отдельную просторную комнату в коммунальной квартире в том же доме на Хорошевском шоссе и в том же подъезде, но этажом выше. Переехал из квартиры 2 в квартиру 3. Чтобы понять его радость, надо учесть, что все это время после развода с О.С. Неклюдовой – почти два года – он продолжал жить в ее квартире, в той же узкой комнате-«пенале». И вот Литфонд, которому принадлежали дома на Хорошевке, нашел «соломоново решение», разделив бывших супругов по этажам. Это было тем более радостно, что Шаламов заодно избавился и от соседки – престарелой тещи известного профессора-философа В.Ф. Асмуса. Ей посвящены записи в дневнике писателя с характерным заголовком «На вечные времена»: «В стол на кухне асмусовской тещи забит гвоздь – чтоб не облокачивались соседи… При ремонте теща Асмуса специально просит дворника Николая набить колючую проволоку по столбикам, где пробегает домой кошка Муха…» и т. д. Черная кошка Муха принадлежала Шаламову, она много лет была его любимым существом – очень умная и верная, она сидела на столе, когда он писал, он не раз с ней фотографировался, и когда кошку во дворе убили какие-то строители, рывшие траншею, для него это стало огромной трагедией. Он долго не знал, где она, искал ее по приемникам животных – душегубкам, где насмотрелся на глаза несчастных собак и кошек, и плакал после этого. (Отчасти эти впечатления вошли в рассказ «У Флора и Лавра», не включенный в сборники. В нем есть фраза, заставляющая вспомнить о Колыме и Освенциме: «Обреченные кошки встречали входящих не мяуканьем, не писком, а молчанием – вот что было всего страшнее».)
Очевидно, что истории животных проецировались им на мир людей, и от этих мыслей он никогда не мог отделаться. То, что для иных представляло лишь бытовую проблему, у Шаламова всегда вызывало рефлексию о неизменных свойствах человеческой природы и заодно – о переходящей, как он говорил, из века в век темной, подчиняющейся лишь дремучим инстинктам «Расее». Когда-то в Вологде, помнил он, люди яростно гонялись за забежавший в город белкой (рассказ «Белка» вошел в сборник «Воскрешение лиственницы»), а здесь запросто, в центре Москвы, как варвары, застрелили кошку…
Об истории с любимой и верной Мухой он рассказывал Сиротинской. И однажды произнес такую странную фразу: «Ты можешь быть кошкой…» Ирина сначала покоробилась, но позднее правильно, по-женски, как знак желания такой же привязанности, все оценила – «поняла, что это был очень большой комплимент».
Она не могла быть постоянно с ним – приходила лишь его навещать, часто со своими маленькими сыновьями, к которым он относился очень ласково, хотя проповедовал на этот счет другие идеи (из своего малого, неудачного семейного опыта и из старых теорий 1920-х годов, основанных на утопиях Ш. Фурье, где стариков и детей опекает всецело государство). «Ни у одного поколения нет долга перед другим, – яростно размахивая руками, утверждал он. – Родился ребенок – в детский дом его!..» Но это была скорее риторика обиды многолетнего лагерника, обделенного на всю жизнь вниманием и любовью собственного ребенка…
О характере их отношений, как они считали, никто не знал, и это было счастьем для обоих. В книгу воспоминаний Сиротинской включена и ее переписка с Шаламовым, сугубо интимная, ярче всего раскрывающая степень их близости. Вот только один пример – письмо лета 1968 года, когда Ирина уехала отдыхать в Крым, а Шаламов, не имевший такой возможности, посылал ей чуть ли не через день открытки и письма, что было правилом и с ее стороны:
«Дорогая Ира.
Получил сегодня утром твое письмо от 10 июля вместе с открыткой от 9-го с Генуэзской крепостью… В письме есть неожиданная тревожная нотка: "Слишком резко всё переменилось, я словно проснулась. Вообще, в нашем счастье, в нашей любви слишком много от воображения". Я этого вовсе не считаю, но сердце даже засосало… Мне совсем не кажется, что она – от воображения, но, конечно, я могу судить только о себе. Чтобы тебя развлечь, посылаю свое июньское стихотворение:
Грозы с тяжелым градом,
Градом тяжелых слез.
Лучше, когда ты – рядом.
Лучше, когда – всерьез.
С Тютчевым в день рожденья,
С Тютчевым и с тобой.
С тенью своею, тенью,
Нынче вступаю в бой.
Дикое ослепленье
Солнечной правоты,
Мненья или сомненья —
Все это тоже ты…»
У этого стихотворения есть своя история. 18 июня того же года они праздновали день рождения Варлама Тихоновича – ему исполнился 61 год, и гадали по сборнику стихов Тютчева, одного из их любимых поэтов. На столе стояла фотография: Ирина у Вологодского кремля (это было вскоре после ее поездки в Вологду с туристической группой из архива).
«Было тогда светлое, счастливое время его жизни, тени Колымы отступили на время, – писала она в своей книге. – Июнь 1968 он назвал лучшим месяцем своей жизни… Солнечная правота – это правота света, правота счастья» [75]75
Сиротинская И. Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006. С. 20.
[Закрыть].
В связи с поездкой Ирины в Вологду он писал: «Я думал, город давно забыт, встречи со старыми знакомыми (художником В.Н. Сигорским и его женой. – Прим. И. Сиротинской) никаких эмоций, ни подспудных, ни открытых у меня не вызывали – после смерти матери крест был поставлен на городе… А вот теперь, после твоей поездки – какие-то теплые течения глубоко внутри… Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже заходила в парадное (так оно раньше называлось) крыльцо с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом. Просто сказка. Белозерский камень мне потому менее дорог, чем камень у собора, на Бело-озере я никогда не был, а у собора прожил пятнадцать лет. Деревьев там не было (с фасада дома). Никогда. Было гладкое поле, дорога. Куст боярышника под окнами. А дерево – тополь – был во дворе сзади дома…»
Именно поездка Ирины в его родной город вдохновила Шаламова на создание «Четвертой Вологды» – уникального по качествам памяти (позади 20 лет лагерей!) произведения, где сохранена вся свежесть детского восприятия жизни, все подробности семейного быта и истории, естественным образом переливающиеся в мысли о современности. «Четвертая Вологда», напомним, писалась в 1968—1971 годах, отдельными главами, как и другая важнейшая книга о его юности, о первом лагере – «Вишерский антироман», формировавшаяся практически одновременно («Я всегда пишу несколько вещей сразу» – принцип Шаламова). Продолжалась и казавшаяся бесконечной, а по отдельным эпизодам – случайной, но на самом деле глубоко продуманной – колымская эпопея. Разветвление в жанрах: с одной стороны, рассказы с заранее решенной формой, с другой – воспоминания о Колыме, свободные в повествовании, но более сконцентрированные на конкретных эпизодах, уточняющие и дополняющие не только рассказы, но и общую канву жизни, – все это свидетельствует о каком-то новом пороге раскрепощения, о возможности наконец-то высказаться сполна.
Все это – не будем уж так банально прямолинейны! – не только результат вдохновения, новых жизненных токов, полученных от «музы», а результат обретенного наконец душевного спокойствия и сосредоточенности. К тому же главное – отдельная просторная комната, хотя и с шумом с шоссе, которого он, в силу глухоты, почти не ощущает («Никогда не померкнет шоссе / В той былой Хорошевской красе»), но все же дающая возможность свободно и безоглядно писать. На короткий срок он забывает и о нембутале, без которого прежде не мог обходиться. Полного счастья, может быть, и нет, но есть покой и воля…
Одно из главных новых наполнений жизни, достигнутое, благодаря Ирине, – он вырывается наконец из своего однообразного круга общения (Н.Я. Мандельштам и ее знакомых) и начинает ходить туда, где, как Ирине кажется, ему должно быть интересно, как и ей, – в театры, на выставки, в кино. Можно сказать, что она была его поводырем – как некогда сам он был поводырем у слепого отца. Разница в том, что Шаламов был глух, и хотя в театре и в кино они старались попасть на первые ряды, он все равно недослышивал, и она пересказывала ему отдельные важные реплики героев.
Сама Ирина больше всего тянулась к Театру на Таганке, но он поначалу скептически отнесся к творчеству Ю. Любимова: «Все это было. Мейерхольд. Только забыто сейчас». Между тем смотрел вместе с ней много – и «Доброго человека из Сезуана», и «Павшие и живые», и «Пугачева», и «Жизнь Галилея». Разумеется, не был равнодушен к игре В. Высоцкого. Однажды даже сказал, что замыслил для этого театра пьесу «Вечерние беседы» и стал делать наброски. Сюжет, как писала Сиротинская, «незатейлив» – в тюремной камере встречаются все русские писатели – нобелевские лауреаты: Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын. Их гоняют на пилку дров, они выносят парашу. А вечерами они беседуют…
Пьеса не закончена, но «незатейливым» ее сюжет назвать никак нельзя. Аналогичный сюжет возникал, между прочим, у Ф.М. Достоевского. В замысле его романа «Атеизм» («Житие великого грешника») – предвестия романа «Бесы», есть такая идея: «…Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже» [76]76
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1.С. 118.
[Закрыть]… Шаламов вряд ли знал о подобном замысле Достоевского, но то, что его мысль шла тем же путем – соединить, столкнуть в философском диалоге своих знаменитых современников, – чрезвычайно знаменательно. Мы можем убедиться, сколь горячо и страстно, воистину «по-достоевски», Шаламов был увлечен полемикой с основными идеями современности!
Шаламов доверял чуткости и вкусу Сиротинской – часто они сливались в своем сопереживании героям спектакля или кино. Из фильмов старых лет, вспоминала она, он больше всего любил «Дети райка», из новых – «А зори здесь тихие», «Генералы песчаных карьеров». «Помню, как он был тронут до слез сценами похорон возлюбленной в "Генералах"», – писала Сиротинская, добавляя очень важную фразу: «Любовь, разлука, смерть – все, что апеллировало к сердцу зрителя, находило отзвук и в сердце Варлама Тихоновича». (Надо лишь уточнить, по дневниковой записи писателя, что при всем эмоциональном воздействии на него фильма «А зори здесь тихие» Шаламов считал, что режиссер С. Ростоцкий в некоторых эпизодах «испортил» повесть Б. Васильева, которую он прочел в «Юности», где сам печатался, и ценил выше фильма.)
Подчеркнем еще раз мысль Сиротинской: Шаламов воспринимал искусство не столько рассудком, сколько сердцем. Но так же он и создавал его! Создавал в надежде на сопереживание тем трагическим историям, которые, «как кинолента» (образ из рассказа «Последний бой майора Пугачева»), вспыхивали и раскручивались в его памяти. Следует добавить, что массового кинематографа он категорически не принимал, сразу видел фальшь, и недаром однажды вынес жестокий приговор этому роду искусства: «Кино – штука второго сорта, искусство, не имеющее своего ума, – далекое от великих подлинников» (последняя мысль Шаламова, надо заметить, полностью подтвердилась, на наш взгляд, в современных сериальных экранизациях его произведений).
Об отношении Шаламова к живописи следовало бы написать целый трактат, и то, что он вместе с Сиротинской бывал на многих московских вернисажах, – лишь очень малая часть его художественных впечатлений и связанных с ними размышлений. Он терпеть не мог передвижников – в параллель с прозаической поэзией Н.А. Некрасова, – и это вполне в его духе. Еще в студенчестве, в 1920-е годы, он полюбил «Щукинский музей» западной живописи – «музей отца М. Цветаевой», как он его называл. В 1955 году, находясь еще на полузаконном положении, Шаламов ездил из своего поселка Туркмен в Москву, чтобы увидеть знаменитую выставку из Дрезденской галереи, а затем – в Ленинград, специально, чтобы посмотреть Эрмитаж. Из переписки с художницей Л.М. Бродской и дочерью композитора, ценительницей многих искусств Н.А. Кастальской явствует, что он серьезно размышлял и о тайнах Рафаэля, и о тайнах русских фресок, что его завораживали и Рейсдаль, и Вермеер, и Р. Фальк. Матисс – тоже (он был на вернисаже в 1969 году вместе с Сиротинской). Но Пикассо для него проблематичен, и не столько в смысле формы, сколько в смысле его, как ему кажется, слишком быстрого и спекулятивного реагирования на меняющуюся международную политическую обстановку («Голубь мира, нарисованный Пикассо, – это ведь сознательно выбранная заправилами движения церковная эмблема, с тем чтобы не оттолкнуть религиозных людей, которых еще так много», – писал он Кастальской). Живопись, каждый тон красок он переживает сердцем, и потому для него «единственный художник с палитрой будущего – Врубель», а любимый из западных художников – Ван Гог, особенно его картина «Прогулка заключенных». Сиротинская по этому поводу справедливо заключала: «Думаю, что тут действовали не только краски, но и сюжет. И то, и другое – и "что", и "как"…»
Необыкновенно острое восприятие ярких красок, несомненно, связано с тем, что Шаламов основную часть жизни провел на Севере, где всегда преобладали холодные черно-белые тона. Понятно, почему он не любил зиму и так ждал солнца, лета, когда ему лучше всего чувствовалось и работалось. Известные стихи «Я – северянин, /Я ценю тепло…» и особенно: «Летом работаю, летом, / Как в золотом забое, / Летом хватает света / И над моей судьбою» – это ярче всего подчеркивают. И самым радостным был июнь – месяц, когда он родился и когда приходила поздравлять его с днем рождения Ирина – единственная, кто знал об этом дне. Непременные цветы – пионы, непременные яблоки, которые он очень любил…
В 1970-е годы, пользуясь правами члена Союза писателей и льготой по инвалидности, он стал ездить в Крым, в Ялту и Коктебель. Но это приносило ему лишь малую радость – купание в море. С коллегами-писателями он не общался, ходить в горы не мог, и главную трудность составляла дальняя дорога (однажды его срочно вывезли назад самолетом). Ему был милее пляж в Москве, в Серебряном Бору, к которому он привык еще в 1960-е годы и который его по-настоящему прогревал за лето.
«Десять лет я опекала Варлама Тихоновича, и он в эти годы не болел, – писала Сиротинская. – Узнала я недавно, что мать Тереза говорит – возьми за руку человека. А ведь чисто интуитивно так поступала я. Приду – он зол, издерган, взвинчен. Я просто молча беру его за руку. И он затихает, затихает. И словно проступает другое лицо, другие глаза – мягкие, глубокие, добрые».
Так продолжалось до 1976 года. Когда пришла пора расставания, неизбежность которого он сознавал, не скрывая и своей огромной боли, его главными словами были: «Ничего, кроме любви и благодарности во мне не сохранится. Ты подарила мне лучшие годы жизни...»
Но это не было полным разрывом, и утверждать, что кто-то кого-то «бросил», оставил в несчастье одного, – никак нельзя. Человеческие отношения, переписка и встречи продолжались до самых последних дней Шаламова. Почти во все самые трудные минуты жизни Ирина была рядом с ним. Она не знала, что еще в июне 1969 года он оформил в нотариальной конторе завещание на ее имя – на все свои авторские права. Это завещание она обнаружила лишь в 1979 году, когда Шаламов передавал ей оставшийся архив перед переездом в дом престарелых. Конверт с надписью «На случай моей смерти» лежал в его старой лагерной полевой сумке…







