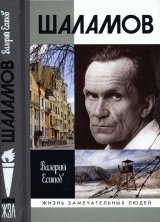
Текст книги "Шаламов"
Автор книги: Валерий Есипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
История с Луниным дает много поводов поразмышлять и об особенностях лагерной медицины, и об изменениях в психологии ее представителей. Мы имеем случай убедиться, что Шаламов подчас «перегибал палку» (даже по лагерным, а не только по обыденным меркам) в суждении о людях. Это, несомненно, – особая трансформация его врожденной честности, заставляющая говорить либо о гипертрофии этого качества под влиянием лагерных условий, либо об атрофии любого чувства жалости – по тем же причинам. Он и сам это осознавал. Недаром рефреном его колымского опыта стали слова: «Лагерь – целиком отрицательный опыт для человека, ни один человек не становится лучше после лагеря». Об этих необратимых изменениях в своем характере со всей беспощадностью к себе писал он в рассказе «Вечная мерзлота», посвященном чуть более позднему периоду. Став самостоятельным фельдшером, Шаламов отказался у себя в медпункте от услуг заключенного-поломоя, сочтя его симулянтом. Это грозило тому отправкой на общие работы, в забой, а он был действительно больным. На следующий день он повесился в конюшне. Шаламову пришлось видеть весь этот итог. «И я понял внезапно, что мне уже поздно учиться и медицине, и жизни» – так кончается этот один из самых трагических рассказов писателя…
Из всего, связанного с Левым берегом, можно судить, что Шаламов оценивал лагерных медиков отнюдь не так однолинейно, как, скажем, А. Солженицын (видевший в них, судя по «Архипелагу ГУЛАГ», лишь пособников палачей). Годы фельдшерской работы не только спасли жизнь Шаламову, но и в итоге благотворно повлияли на его изломанную лагерным миром психику. Это особенно проявилось после освобождения, когда он работал вольнонаемным фельдшером в дорожном управлении Оймякона. Маленький, но характерный штрих его биографии этого периода вспомнил много лет спустя бывший заключенный, вологжанин А. Кабанов. Однажды он тяжело заболел, и Шаламов выручил его, специально достав для своего земляка дефицитный в то время пенициллин. Таких случаев в фельдшерской практике Шаламова, несомненно, было немало – недаром потом в письме Борису Пастернаку он писал: «Меня помянут добрым словом и помянут люди хорошие. Несчастные, но хорошие». Он постепенно переставал быть «волком», как он себя называл («…я и сам был волк – и научился есть из рук людей» – эта почти киплинговская метафора из рассказа «У Флора и Лавра» чрезвычайно красноречива).
Немаловажную роль в этом переломе сыграла его лесная командировка на ключ Дусканья. Он провел здесь почти полтора года – 1949-й и 1950-й, которые вернули его к той жизни, о которой он так давно мечтал, – к одиночеству, тишине и спокойной сосредоточенности. Это был поселок лесорубов, где заготавливали лес и дрова для больницы. Под фельдшерский пункт там отвели отдельную избушку, в которой Шаламов и работал, и жил. Пациентов было мало, объезды участков по реке, на моторной лодке (зимой – на санях), занимали не так много времени, начальник, участник Гражданской войны, сидевший в 1937 году в Лефортове, Я.О. Заводник знал Шаламова и особо не донимал его. С питанием и махоркой тоже проблем не было. Не зная, сколько продлится это счастье, Шаламов все свободное время отдавал стихам. Впервые после почти двенадцатилетнего перерыва он получил возможность писать. Писал на всем: на бумаге, оставшейся от фельдшера-предшественника, на оборотах бланков и дежурных журналов. Здесь, на Дусканье, он прикоснулся к космосу, к звездам, которые в Северном полушарии гораздо ближе к земле. Прикоснулся к природе – камню, дереву, цветку и научился понимать их. Он уже не сидел взаперти и часто гулял по своей любимой тропе, ведущей вглубь тайги. Его маленький лирический рассказ «Тропа» – как раз о ней. Здесь, на этой тропе, поначалу и сочинялись, проговаривались, наборматывались (его любимое слово)стихи.
Когда Шаламов 20 лет спустя решил упорядочить и прокомментировать свои поэтические произведения, он многое датировал так: «Написано на "пленэре" на ключе Дусканья в 1949, 1950 гг.». Какие это были стихи? «Стланик» (а где он мог быть написан еще?), «Он пальцы замерзшие греет», «Сыплет снег и днем, и ночью», «Цветка иссушенное тело», «Картограф», «Тайга» и десятки других, узнаваемых по приметам Колымы и неожиданному смелому взлету поэтической мысли. Так называемой «пейзажной лирикой» (он знал условность этого понятия) его первый выплеск не ограничился. Разве возможен был иной адрес у такого гениального четверостишия:
Все те же снега Аввакумова века,
Все та же охотничья злая тайга,
Где днем и с огнем не найдешь человека,
Не то чтобы друга, а даже врага.
Он не писал ни о Сталине, ни о лагерях, но за строкой почти каждого стихотворения стояло пережитое. Шаламов постоянно размышлял о русской истории, ее загадках, о ее самоповторении – то в прорывах к новому, то в возвратах к старому. Странно было бы думать, что он держал перед глазами какой-то учебник истории и листал его. Тот же образ Аввакума, перешедший затем в поэму «Аввакум в Пустозерске» (1955), мог прийти к нему и через чисто внешние ассоциации – например, от репродукций картин, висевших в фельдшерской избушке. Иначе почему бы у него родился поэтический диптих на темы знаменитых картин В. Сурикова – «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова»? Он воспроизвел в стихах не только детали этих картин, но и дал к ним свое философское резюме, заключенное в концевых строфах: «…И несмываемым позором / Окрасит царское крыльцо / В национальные узоры / Темнеющая кровь стрельцов»; «…Так вот и рождаются святые, / Ненавидя жарче, чем любя, /Ледяные волосы сухие / Пальцами сухими теребя»…
Это было не возрождение задавленного поэта, а его первое настоящее рождение – пусть в возрасте сорока двух лет, но сразу в той степени индивидуальности, самобытности и зрелости, которая не нуждается в поисках тайн предшествующей эволюции.
Но если бы при этом он еще не оставался заключенным! И если бы ему не приходилось прятать подальше от чужих глаз стихи, переписанные набело и собранные в сшитые им самим тетради! «Стихи – одно из тягчайших лагерных преступлений», – подчеркивал Шаламов, ведь если их найдут, то любой дотошный оперуполномоченный по стихам может состряпать дело о какой-нибудь «антисоветской агитации». Поэтому по возвращении в больницу на Левый берег, где сменилось все начальство и где его назначили фельдшером приемного покоя, Шаламов сразу спрятал тетрадь в тумбочку среди своих служебных бумаг. Его неотвязной мыслью стало теперь желание во что бы то ни стало переправить эти стихи на Большую землю.
Вначале он надеялся на освобождение и на скорый выезд на материк. Но даже и досрочное освобождение, состоявшееся чуть раньше назначенного в 1943 году десятилетнего срока, с зачетом части рабочих дней, а именно – 20 октября 1951 года (как свидетельствует единственный сохранившийся документ – упомянутая выше трудовая книжка), не дало ему возможности сразу покинуть Колыму. Эта ситуация воспроизведена Шаламовым в рассказе «Подполковник Фрагин». Ретивый подполковник, начальник спецотдела больницы, бывший сотрудник Смерша, каким-то образом, через Магадан, раскопал дело Шаламова 1937 года, на основании чего сделал вывод, что перед ним «кадровый троцкист и враг народа». Поначалу предполагалось, что Шаламова оставят при больнице, в том же приемном покое, до весны 1952 года, до открытия навигации на Охотском море, чтобы отправить на материк общим этапом. Такой вариант давал большие преимущества: освобожденные имели право на бесплатную дорогу до пункта жительства. Но Фрагин задержал Шаламова в больнице до июля, а потом отправил его, уже давно «вольного», с двумя конвоирами в Магадан в распоряжение санитарного отдела Дальстроя. При этом Шаламов был уволен из больницы по КЗОТу и потерял право на бесплатную дорогу. Все эти дополнительные мучения вынудили его остаться на Колыме, чтобы заработать на дорогу. Санитарный отдел направил его в дорожное управление Дальстроя, которому требовались фельдшеры на дальние участки. Так Шаламов 20 августа 1952 года (согласно той же трудовой книжке) стал фельдшером лагерного пункта Кюбюминского дорожно-эксплуатационного участка недалеко от Оймякона (эта часть территории Якутии тоже тогда входила в систему Дальстроя).
Известная колымская фотография Шаламова в полушубке подписана – «Кюбюма, 1952 г.». Название поселка ни о чем не говорит, а Оймякон – говорит: полюс холода. Средняя температура воздуха зимой – минус 50—60 градусов и ниже. И еще говорит название находящегося поблизости якутского села Томтор. Там, собственно, и располагался медпункт, где работал Шаламов, там находилось и место, куда он с некоторых пор стал неудержимо стремиться, – почтовое отделение.
Сотый раз иду на почту
За твоим письмом… —
так начинается стихотворение «Верю», посвященное жене Галине Гудзь. К нему позднее был сделан комментарий: «Написано в 1952 году в Барагоне, близ Оймяконского аэропорта и почтового отделения Томтор». Лишь после того, как Шаламов освободился, он получил право на переписку, и жена, возвратившаяся тогда из Чарджоу в Москву, писала ему почти через день (отчего и – «сотый раз»). Почта вольнонаемным доставлялась тогда самолетами, в отличие от почты для заключенных, которые получали посылки и письма только в морскую навигацию. Северные трассы в военное и послевоенное время обслуживали Ли-2, сделанные по лицензии американских «Дугласов», в начале 1950-х годов их начали заменять на Ил-14. Поэтому изменение статуса Шаламова на общегражданский дало ему возможность, наконец, вести свободную и довольно активную переписку. К сожалению, его письма жене (как и ее к нему) не сохранились. Что же осталось? Наверное, самое важное и для него самого, и для истории литературы – начальная переписка с Борисом Пастернаком.
У нее есть свои тайные истоки. Шаламов долго думал, кому отправить стихи, написанные на Дусканье. Родным, жене? Но жена – любимая, драгоценная – поймет ли она по-настоящему эти совсем не любовные и не альбомные вирши своего «Варламки», который давно стал другим? Нет, эти стихи пусть прочтет и оценит серьезный поэт-профессионал! Кто? Асеев, Тихонов… Они уже недоступны, слишком официальны. А что, если это будет сам Пастернак? Горячо любимый, лелеемый в мыслях как главный поэт эпохи, как «живой Будда», в благородстве и чуткости которого сомнений никогда не возникало.
Ирреальность замысла – неведомый поэт с Крайнего Севера, еще не знающий окончательно своей судьбы, посылает свои стихи великану литературы, живущему в Москве, за десять тысяч километров, – вполне соответствует духу Шаламова, который внезапно и вполне правомерно осознал свою цену в поэзии – не преуменьшая и не преувеличивая ее, – полагая, что поэты лучше поймут друг друга, нежели какие-либо редакторы. Но посылать почтой – это посылать в неизвестность: любой почтмейстер (в погонах) может вскрыть пакет и передать его в НКВД. Поэтому посылать нужно только с оказией, с надежным человеком, который не станет задавать лишних вопросов.
Такой человек нашелся – Е. А. Мамучашвили, улетавшая самолетом в феврале 1952 года в шестимесячный отпуск на материк. Их отношения в больнице были вполне доверительными, и она без колебаний – ее обыскивать не станут – взяла с собой обычный, никак не маркированный пакет, перевязанный крест-накрест бечевкой (для Пастернака), и сопроводительное письмо Шаламова жене.
В письме Пастернаку, вложенном в пакет, Шаламов писал:
«Борис Леонидович.
Примите эти книжки, которые никогда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скромное свидетельство моего бесконечного уважения и любви к поэту, стихами которого я жил в течение двадцати лет.
В. Шаламов.
22.11-52 г.
Адрес мой, если захотите ответить: Хабаровский край, поселок Дебин, Центральная больница – Шаламов Варлам Тихонович.
Еще лучше написать через мою жену: Москва, 34, Чистый пер., 8, кв.7. Галина Игнатьевна Гудзь. Арбат 6—32—50».
Ответ был отправлен из Москвы 9 июля 1952 года, и это не запоздание – Пастернак получил пакет только в середине июня, видимо, потому, что Г.И. Гудзь сначала сама долго читала стихи, а потом столь же долго искала пути к Пастернаку в Переделкино или в Лаврушинский переулок. Письмо Пастернака – великодушно огромное, очень подробное, с доброжелательным и строгим разбором стихов Шаламова, с размышлениями о себе, о времени и о современном искусстве – его содержания придется коснуться позже, – пришло на Колыму только в декабре того же года, как можно судить по рассказу Шаламова «За письмом» и по его ответу Пастернаку, датированному 24 декабря.
Наверняка конверт от Пастернака в пути не раз вскрывался, изучался на предмет «крамолы», ведь шел он почти полгода. А для получения этого письма Шаламову пришлось ехать из Кюбюмы до Дебина почти 500 километров – сначала на собачьей упряжке, потом на оленьей, с каюрами-якутами, до автотрассы, где ему ночью, в мороз, подвернулась попутная машина (сказка о бесплатности таких путешествий на Колыме – из более поздних времен: Шаламову приходилось за все платить). И даже в бывшую родную больницу его, промерзшего до костей, ночевать не пустили; хорошо, что приютил знакомый фельдшер. Но результат наутро – врученное ему письмо от Пастернака, написанное знаменитым летящим почерком и окрыляющее чудесной, из другого мира посланной добротой, – искупил всё многажды и на годы вперед. Шаламов, как можно полагать, не раз перечитывал, вспоминал и бормотал на обратном пути в Кюбюму адресованные ему слова любимого поэта и человека: «Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках…»
Это был настоящий Левый берег, до которого, наконец, добрался Шаламов – уже не как каторжник, а как поэт.
Глава одиннадцатая.
ОТТАИВАНИЕ НА 101-м КИЛОМЕТРЕ
Отъезд Шаламова с Колымы состоялся в начале ноября 1953 года, уже после смерти Сталина и в разгар «бериевской амнистии», когда на материк хлынули десятки тысяч бывших заключенных, главным образом уголовников. К 10 августа было освобождено более 1 миллиона из 2 миллионов 526 тысяч 402 человек, находившихся тогда в лагерях, тюрьмах и колониях, по статистике НКВД (переименованного в МВД). Это был огромный поток, собиравшийся из всех лагерей севера и востока и устремлявшийся в Центральную Россию по Транссибирской магистрали.
Шаламов волей-неволей влился в этот поток, несмотря на свое формально более раннее освобождение. Собрав, путем тщательной экономии, деньги на дорогу (его основной едой в Кюбюме были зайцы, которых в несметных количествах добывали якуты, укрывавшие на зиму крыши жилищ их тушками – и для тепла, и про запас), он вынужден был испытать еще множество бюрократических проволочек, прежде чем оказался в оймяконском аэропорту. Аэропорт – звучит громко, ибо здесь неделями ждали Ли-2 или Ил-14. Шаламову удалось правдами и неправдами (рассказ «Погоня за паровозным дымом») попасть в самолет и добраться до Якутска, а затем до Иркутска. В Иркутске его чуть не зарезали блатари, крутившиеся вокруг вокзала возле людей с чемоданами (у Шаламова был небольшой фанерный чемоданчик), но кто-то из тех же блатарей опознал в нем «лепилу», который «помогал нашим» (глубокая, но спасительная ошибка), и все обошлось. Он даже сумел немного познакомиться с городом. Иркутск был уже Большой землей и чем-то напомнил ему Вологду. Он с трудом сел в поезд, который очень походил на переполненные теплушки времен Гражданской войны – с тем отличием, что в Сибири зимой на крышах ездить невозможно, – и, добыв себе лежачее место, быстро уснул.
Он ехал в этом убогом, но мирном, столь ярко выражающем дух послевоенной России вагоне – с пьющими и тут же блюющими людьми, военными и гражданскими, с торговцами, блатарями, вечно играющими в карты, и проститутками, за 50 рублей снимающими купе проводника, – и не мог поверить, что его мытарства кончаются и впереди какая-то счастливая жизнь, обволакивающая уже сейчас соблазнительным теплом. Свое самоощущение он передал так: «…Я испугался страшной силе человека – желанию и умению забывать. Я увидел, что готов забыть все, вычеркнуть двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что не позволю своей памяти забыть все, что я видел. И я успокоился и уснул» (рассказ «Поезд»).
В Москву Шаламов приехал 12 ноября 1953 года. На Ярославском вокзале – он послал из Иркутска телеграмму – его встречала жена. О дочери Елене в момент встречи Шаламов нигде не вспоминает. По всей вероятности, Галина Игнатьевна не взяла ее на вокзал, чтобы не пугать отцом, которого та не помнила. Объятия с женой получились неловкими. Они не виделись 17 лет. За это время произошел формальный развод (вынужденный в семьях заключенных), но для Галины Варлам оставался родным, как и она для него. Восстановление брака было делом времени. Однако отчуждение возникло сразу после того, как Шаламова повезли не домой, в Чистый переулок, – отмывать, переодевать, кормить, как полагается, – а на какую-то чужую квартиру, в гости, где ждало вовсе не нужное ему застолье. Как можно полагать, условие – не пускать Шаламова домой – поставил принципиальный «бывший чекист» («бывших» в этой профессии, как известно, не бывает) Борис Игнатьевич Гудзь, а сестра не могла препятствовать воле старшего брата. Тем более что сама она после ссылки в Чарджоу потеряла права на долю в этой квартире и ютилась с дочкой в общежитии, имея лишь временную прописку.
Картина И. Репина «Не ждали» была бы слабой и сентиментальной иллюстрацией возвращения домой бывших каторжан сталинской эпохи…
Застолье в чужой квартире запомнилось Шаламову тем, что хозяйка, уже реабилитированная партийка, провозгласив тост за его возвращение, выразила надежду на то, что он «докажет государству свою революционную преданность», и при этом вспомнила, как она, «когда была лагерницей, не щадя себя, работала в портняжной мастерской на помощь фронту». Шаламов, по его воспоминаниям, не поддержал этого тоста: «Я сказал, что у меня другие мысли об обязанностях гражданских и что ночевать в доме таких лагерных работяг я не буду…» Пришлось искать другой ночлег, и через подругу жены Н.А. Кастальскую, дочь композитора и директора консерватории, нашли в консерватории пыльную комнатку «с узким ходом к дивану среди стопок книг».
Все было не так, как должны были встретиться муж с женой после долгой разлуки. Единственной радостью на следующий день, 13 ноября, была запланированная женой встреча с Б. Пастернаком. «Великое мое счастье было в том, что на вторые сутки моего появления в Москве я мог звонить у этой двери в Лаврушинском переулке, – писал Шаламов. – Я привез и отдал ему книжку стихов, синюю тетрадь, написанную еще около Оймякона, в Якутии». Была долгая беседа – не менее двух часов, если судить по обсуждавшимся темам: о Сталине, о переводах «Фауста» и «Гамлета», о Маяковском, Цветаевой и Мандельштаме, о предшествующей переписке, в которой Шаламов высказал свое суждение о роли рифмы как «поискового инструмента поэта», а Пастернаку очень понравилось это определение: «Могу сказать вам, Варлам Тихонович, что ваше определение рифмы как поискового инструмента – это пушкинское определение. Теперь любят ссылаться на авторитеты. Вот я тоже ссылаюсь – на авторитет Пушкина». «Конечно, Борис Леонидович был увлекающийся человек, и скидка тут нужна значительная, но мне было очень приятно» [47]47
Речь идет о мыслях, высказанных Шаламовым в письме Пастернаку из Кюбюмы 24 декабря 1952 года: «…Второй вопрос – ассонирующая рифма (неполная, к которой часто прибегал Шаламов, а это не понравилось Пастернаку. – В. Е.). Тут, мне кажется, Вы не правы – ибо рифма ведь не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она – и главное ее значение в этом – инструмент поисков сравнений, метафор, мыслей, оборотов речи, образов – мощный магнит, который высовывается в темноте и мимо него пролетает вся вселенная, оставляя в стихотворении ничтожнейшую часть примеренного. Она – инструмент выбора, она – орудие поэтической мысли, орудие познания мира, крючок невода – стихотворения. И нет, мне кажется, надобности во имя только благозвучия отсекать заранее часть невода. Добыча будет беднее, зачем отказываться от ассонанса? Стих он держит хуже, конечно, чем полная рифма, но держит. Только бы дело не шло к увлечению рифмой, к серебрению, золочению этих крючков».
[Закрыть], – писал Шаламов.
Эту похвалу он потом приравнивал к первой, услышанной в Бутырской тюрьме в 1937 году от А.Г. Андреева: «Вы можете сидеть в тюрьме». Обе похвалы, касавшиеся столь разных граней жизни Шаламова, составили его главную жизненную гордость. Но вторая, после освобождения, была гораздо важнее и дороже.
В конце встречи Шаламов попросил Пастернака прочесть новые стихи. И они прозвучали – те, что потом стали известны как «стихотворения к роману "Доктор Живаго"». Пастернак сказал ему: «Я хочу, чтобы вы прочли мой роман. Половина его – написана. Возьмите первую часть у Н.А. Кастальской…»
«Мы выходим на лестницу, – заключает эту часть воспоминаний Шаламов. – Борис Леонидович машет нам рукой. Сил спускаться почти нет, держусь за перила. Жена отчитывает меня: "Ты поздоровался с Б.Л. раньше, чем он поздоровался со мной. Так не полагается". Той же ночью я уехал в Конаково…»
Жестокий Шаламов – он ничего не прощает женщинам: ни суетности, ни тщеславия, ни глупости! Жена не понимает, да и вряд ли когда сможет понять, что значила для него эта встреча с Пастернаком. (Когда-нибудь этот сюжет – об охлаждении Шаламова к жене – кто-то сможет описать более тонко и подробно, опираясь на почти на первый взгляд незаметные иронические ремарки его воспоминаний и на другой разнообразный материал, противоречащий его восхищениям женой, но мы можем коснуться его, увы, лишь бегло. Это, безусловно, драма – и не столько личная, сколько социальная, что особенно станет ясно, когда мы дойдем до отношений Шаламова со своей дочерью.)
Он срочно уехал в Конаково Калининской области, потому что в Москве и в Московской области ему была запрещена не только прописка, но и пребывание более суток. Хотя на этот случай всегда имелись исключения – при доброжелательности и определенных конспиративных усилиях родственников или знакомых. Конаково он выбрал потому, что это был более или менее цивилизованный райцентр, где Шаламов хотел устроиться фельдшером. Но это не удалось. Оказалось, что фельдшерские курсы, пройденные на Колыме, подтвержденные стажем и справками, имеют силу только в системе Дальстроя и никакой – на материке. Об этом говорили телеграммы, посылавшиеся Шаламовым из Конакова в Магадан, пока он ждал решения своей судьбы и ночевал все это время в уже знакомой ему «гостинице» – на скамье на вокзале. После хождения по известному бывшим заключенным кругу: «для устройства на работу нужна прописка, а для прописки нужно устройство на работу» – его оформили 29 ноября 1953 года товароведом в Озерецко-Неплюевское (каково звучит! – В. Е.) стройуправление Ленторфотреста. Найдя, наконец, работу в Озерках, рядом со станцией Редькино Октябрьской железной дороги, он облегченно вздохнул.
Из главных для Шаламова событий этого периода стало опубликованное в «Правде» 24 декабря 1953 года постановление Специального присутствия Верховного суда СССР о расстреле Л.П. Берии, В.Н. Меркулова, В.Г. Деканозова и «других членов изменнической группы заговорщиков, действовавших в пользу иностранного капитала». Стало понятно, что в стране начинаются большие перемены – нашли пока несколько «крайних», и процесс на этом, вероятно, не остановится.
В августе 1954 года в письме А. 3. Добровольскому, еще отбывавшему срок на Колыме, Шаламов сообщал: «В человеческом смысле, на службе, я был принят больше с интересом, чем с отчуждением. Общая линия смягчения и конституционности, обусловленная международными успехами, сказывается в высокоорганизованном и дисциплинированном обществе до самых глухих углов». К этому времени благодаря случайной встрече с С.И. Аленченко, знакомым еще по 1930-м годам инженером, Шаламов начал работать агентом по снабжению на Решетниковском торфопредприятии Калининского торфотреста. Оно располагалось в поселке со странным для сих мест названием Туркмен, недалеко от станции Решетникове Именно этот поселок значился на всех его письмах этого периода – с июля 1954 года до октября 1956-го. То есть больше двух лет он прожил и проработал здесь, выезжая в среднем два раза в месяц в Москву. На оборотах различных справок в его архиве сохранились случайные записи, касающиеся снабженческой деятельности, на тему, что достать: «крюки для КРАЗ, вел. камеру» и т. д. Но два года в Туркмене, несмотря на изматывающий ритм работы снабженца, были необычайно плодотворными для его творчества. Вечером после работы он приходил в свою комнату в общежитии, где все пьянствовали. Потом, когда все засыпали, он имел возможность писать.
За период пребывания на 101-м километре, в Озерках и Туркмене, Шаламов написал примерно половину тех стихов, которые затем вошли в «Колымские тетради». Понять, насколько высоко он стоял над бытом, над неустоявшимся временем, и насколько горячо стремился исполнить долг своей поэтической судьбы, позволяет стихотворение этого периода «Инструмент», которое осталось одним из его любимых:
До чего же примитивен
Инструмент нехитрый наш:
Десть бумаги в десять гривен,
Торопливый карандаш —
Вот и все, что людям нужно,
Чтобы выстроить любой
Замок, истинно воздушный,
Над житейскою судьбой.
Все, что Данту было надо
Для постройки тех ворот,
Что ведут к воронке ада,
Упирающейся в лед.
Стихотворение сосуществует в одном мире с лирикой того же периода – пейзажной, с приметами природы среднерусской полосы, и не оставлявшей его колымской, с грозными всполохами памяти, и с философско-исторической («Аввакум в Пустозерске»), и с неожиданным, казалось бы, экскурсом в живую тревожную современность атомного века («Атомная поэма»), – но больше всего здесь сопряжений с начатой тогда же колымской прозой. Ее «инструментом», как и «инструментом» стихов, был исключительно «торопливый карандаш», а «десть бумаги» заменяли обыкновенные школьные тетради в линейку, которые тогда стоили одну копейку. Если для записи стихов Шаламов использовал чаще толстые общие тетради, то первые «Колымские рассказы» написаны именно в тоненьких тетрадках, в каких школьники делают уроки и пишут сочинения. Это и поражает при работе с его архивом – гениальные вещи записывались отнюдь не на изысканных литературных «манжетах» или «салфетках».
Сегодня трудно установить, какое из его произведений прозы было первым после Колымы. 1954 годом датированы рассказы «Заклинатель змей», «Апостол Павел», «Ночью» и «Плотники» и «Шерри-бренди». Чуть позже появились «Одиночный замер», «Кант», «На представку», «Хлеб», «Татарский мулла и свежий воздух», «Шоковая терапия»…
Был ли у Шаламова какой-то план, список сюжетов и, главное, почему он начал писать именно короткие рассказы, а, скажем, не повесть или роман? Разумеется, важную роль играл его новеллистический опыт 1930-х годов. Но из писем А. 3. Добровольскому явствует, что Шаламов, найдя в библиотеке журналы 1930-х годов со своими рассказами, перечитал их «с крайним отвращением». Роман о Колыме? Это смешно и кощунственно. Жанр, заведомо подразумевающий вымысел, он отвергает в корне. Только рассказ, предельно – и запредельно, насколько возможно – правдивый. В идеале форма рассказа им мыслится так: «Никаких неожиданных концов, никаких фейерверков. Экономная сжатая фраза без метафор, простое, грамотное, короткое изложение действия без всяких потуг на "язык московских просвирен" и т. п. И одна-две детали, вкрапленные в рассказ, – детали, данные крупным планом. Детали новые, не показанные еще никем».
Всё это – первые подступы к первым литературным манифестам писателя о «Новой прозе». Характерно, что Шаламов думает прежде всего о форме рассказа. Вопрос содержания для него давно решен – не быт лагеря, а человек в этом страшном, неслыханном «быту». Каким он может стать, этот гордый венец творения, homo sapiens, в мире, где все нормальные понятия смещены? Новые психологические закономерности поведения людей, открывающиеся в лагерных условиях, – вот что самое жуткое и незабываемое. Об этом и надо писать, фиксируя саму суть – голую, неприукрашенную правду. Зачем? В назидание потомству, ради какой-то «морали»? Нет. Пусть люди просто посмотрят сами на себя и подумают, как они могут – при известных обстоятельствах, которые не застрахованы от повторения, – обходиться с себе подобными…
Рассказ «Ночью» – три странички. Двое голодных заключенных ждут ночи, чтобы незаметно выйти за территорию лагеря и выкопать из-под камней вчера захороненного мертвеца – снять с него одежду и потом обменять ее на хлеб и немного табаку. Они и делают это – не спеша, все заранее рассчитав и боясь лишь охранников. Оба довольны. Для сочувствия мертвецу хватает только фразы: «Молодой совсем». И над всей этой картиной стоит вечная, как мир, луна…
Это – маленький колымский этюд, одно из стеклышек к неизвестной еще мозаике. Таков же рассказ «Одиночный замер», где обессилевшему заключенному Дугаеву, не выполняющему норм в бригаде, предлагают «исправиться» – выполнить норму в одиночку. В итоге, грузя и таская тачку целый день, он выполняет свой план всего на 25 процентов. Солдаты ведут его «за конбазу, откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов» – место расстрела. Заключительная фраза рассказа суха и оттого еще более трагична: «Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний день…»
Рассказ «Заклинатель змей», как и «На представку», – о другой, столь же неотвратимо гибельной стороне Колымы – о всесилии блатарей. Интеллигент по фамилии Платонов («говорящая» фамилия – Платон, идеалист, философ) вынужден за миску супа «тискать романы», то есть пересказывать разные занимательные литературные истории хозяину барака блатарей – тупому и злобному пахану. Ниже этой степени унижения для интеллигента может быть только чесание пяток у того же пахана. Платонов утешается тем, что стал «заклинателем змей». Автор не осуждает его, он говорит: «Голодному человеку можно простить многое, очень многое». В рассказе «На представку» блатари играют в карты – когда нет денег, в долг, на представленные вещи. Если своих вещей не оказывается, можно снять с любого «фраера». Свой свитер герой рассказа Гаркунов отказался снимать категорически – «только с кожей». Его тут же убили, пырнули ножом, и свитер пошел «на представку»…
Последний рассказ потрясает тем, что на фоне столь жуткой истории Шаламов «играет» в литературные аллюзии – и не с кем-нибудь, а с Пушкиным. Первая фраза этого рассказа: «Играли в карты у коногона Наумова» – является почти буквальным воспроизведением знаменитого зачина пушкинской «Пиковой дамы»: «Играли в карты у конногвардейца Нарумова». Все исследователи, в том числе пушкинисты, которые занимались этой проблемой, говорят о «неслучайности» появления подобной реминисценции в рассказе Шаламова. Но как она родилась – никто и никогда, наверное, точно объяснить не сможет. То ли пушкинская строка давно, с юности, запомнилась Шаламову, то ли он перечитывал «Пиковую даму» совсем недавно в Туркмене. Легче всего, наверное, полагаться на вторую версию – ведь Шаламов открыл там, в этом глухом торфяном поселке, замечательную библиотеку. Ее составлял еще в 1930-е годы ссыльный главный инженер по фамилии Кареев, и она называлась «кареевской». Инженер сам отбирал книги, ездил за ними в Москву и приучил к строгому отбору библиотекарей. Никакого «принудительного ассортимента» вроде М. Бубеннова или С. Бабаевского – только классика. Шаламов писал, что эта библиотека «воскресила меня духовно, вооружила – сколько могла», и факт этот чрезвычайно важен в его биографии. А поскольку в этом же контексте в его воспоминаниях звучат слова: «Мы становимся взрослыми, признавая несравненное величие Пушкина», – вполне вероятно, что первое его настоящее открытие Пушкина произошло именно после Колымы, там, в Туркмене, когда ему было уже за сорок пять. И с тех пор он остался твердым приверженцем – как он не раз подчеркивал – «пушкинского знамени» (другое «знамя», в его представлении, символизировала традиция Л. Толстого и русской гуманистической литературы второй половины XIX века). Так что «играли в карты у коногона Наумова» можно считать тайной дружеской перекличкой с Пушкиным – подобием блоковского: «…Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе…»







