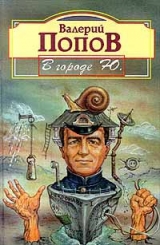
Текст книги "В городе Ю. (Повести и рассказы)"
Автор книги: Валерий Попов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
Осень, переходящая в лето
Хроника
Утро в газовой камере
Только успели заснуть – тут же, как и всегда, проснулись от воплей и молча лежали в темноте. Нет! Безнадежно! Никогда это не кончится. И людям-то ничего не объяснить – не то что этому!
Мы долго прислушивались к переливам воя.
– А наш-то… солист! – проговорила жена, и по голосу было слышно, что она улыбается.
Да. Замечательно! Опера «Кэтс»! Сколько раз я тыкал его грязной расцарапанной мордой в календарь: «Не март еще! Ноябрь! Рано вам выть!» Бесполезно.
Я вышел на кухню, посмотрел на часы. Четыре! О Боже! Хотя бы перед таким днем, который нам предстоит, дали бы выспаться, но всем на все наплевать, акромя собственной блажи! А приблизительно через два часа начнется другая мука, более гнусная.
В отчаянии я плюхнулся в жесткую кровать. «Ну, что за жизнь?!» Дикие голоса в гулком дворе тянулись, переливались, составляя что-то вроде грузинского хора, и теперь я уже ясно различал речитативы нашего гада. Действительно: солист!
Одна наша подруга, поглаживая это чудовище, вернувшееся с помойки, ласково предложила нам его кастрировать, по дружбе за полцены: чик – и готово, он даже ничего не поймет. Но мы хотя бы не будем чувствовать моральных мук за то, что творится во дворе, и сможем наконец возмущаться, как благородные люди!
Но – пожалели. И как правильно говорят: ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вкушаем плоды.
В промежутках между двумя ужасами – вдруг прервавшимся и другим, надвигающимся – я вроде бы успел задремать в начавшей слегка светлеть комнате, но спал я весьма условно: все видя, все помня, все слыша и за все переживая.
Где-то в половине шестого залаял пес, и мне показалось, что я слышу, как пришла дочь… второй уже месяц, однако, это кажется.
Та-ак. Пошло!.. Завывание первого душегуба. Потом второго. И все их отдельные голоса я тоже уже различаю – сделался ценителем. Накупают свои «тойоты» на помойках, и каждое утро мы доплачиваем за это – совершенно невинные. Сипенье, надсадный хрип полусдохшего мотора. Часовая порция газа. Громкое захлопывание форточки на них не действует. И вот под окнами уже хрипит и дышит целое стадо – на этот раз не только рваное, но и ржавое!
Некоторые, оставшиеся почему-то веселыми друзья нынче спрашивают меня: «Что случилось? Ведь ты же был самым светлым из нас – почему же так потемнел?» Тут потемнеешь!
«Утро в газовой камере». Записки оптимиста.
Когда-то в квартире под нами жил милиционер с двумя пацанами, потом его убили бандиты. И (надо же, какое благородство!) самый главный бандит женился на вдове, усыновил пацанов и теперь любовно ерошит их короткие бандитские стрижки. И весь двор теперь, естественно, их – бандитская стоянка. Правда, и их окна тоже выходят сюда. Слабое утешение!
Снова проснулся я от собачьего лая – жена, как-то сохраняющая в таких условиях остатки бодрости, выходила с псом.
Еще пару минут полупрозрачного, призрачного сна…
Народные мстители
Печально понимать осенью, что лета фактически и не было! Чтобы увидеть лето, надо было поехать на дачу, а чтобы в этом году снять дачу, нужно было сдать кому-то свою квартиру. А кому сдать? Естественно, иностранцу – кому еще?
Еще в апреле я начал звонить. Обидно, конечно, будет – проходить мимо своего дома, приезжая в город… но что делать?
Ничего! Хлебнут горя! Они и не догадываются еще ни о чем! «Наш ответ Чемберлену»… Комары! Они и не догадываются еще, насколько это серьезно…
Пока что мы проверяли это оружие на себе. И наш неугомонный кот помогал. Марля, натянутая на форточки, слегка спасала, и даже удавалось иногда заснуть… но он был начеку! Тут же с диким воем его морда вдавливалась в марлю снаружи – ему непременно нужно было проникнуть домой, видимо, чтобы сообщить о своих победах и поражениях. После пятиминутного воя марля освобождалась от кнопок, угол ее приподнимался… и вместе с котом врывались комары!
Но этого десанта было мало – через минуту он начинал рваться обратно, и снова отстегивалась марля – и навстречу коту снова летели комары!
Мы лежали в отчаянии… вроде бы тишина… и – нарастающий звон: вот и авиация!
И тут же в марлю вдавливалась морда кота: ему нужно было домой, попить водички и заодно впустить новую стаю кровопийц!
Бледные, в желваках, сидели мы по утрам на кухне.
– Ничего! Скоро эти тут будут жить! Тогда посмотрим! Только марлю надо пока снять, чтобы не догадались.
– Боюсь, что по нам догадаются,– говорила жена.
Но беда пришла с другой стороны.
Замок в нашем подъезде был разбит, что многие принимали за приглашение, а когда замок чинили – его снова разбивали. Интересная шкала человеческих слабостей предстала перед нами! Как раз под нашей кухней была ниша с мусорными баками, и, казалось бы, проще всего было облегчиться там, но некоторые оказывались настолько стеснительными, что входили для этого на нашу лестницу, а некоторые, наиболее застенчивые, поднимались до второго этажа, до наших дверей.
– Опять застенчивый пришел! – говорила жена, как только внизу стукала дверь.– Неудобно прерывать!
Но – к приходу иностранцев…
Уже перед приходом агента жена вымыла лестницу, и все сияло.
– Нам нравится, что вы интеллигенты! – сказала агент.
– А он, надеемся, тоже приличный? – поинтересовались мы.
– Он англичанин! – сказала она.– И, конечно, интеллигент.
– Профессор?
– Почему? Бригадир грузчиков. Он приезжает сюда, чтобы учить наших грузчиков работать.
– Великолепно. Действительно, замечательно. А когда он придет?
Она посмотрела на изящный циферблат.
– Через час.
Только бы эти народные мстители не устроили засаду, не возвели баррикады! Пятьдесят минут я дежурил на площадке… Все спокойно! Но не бывает же такой прухи, чтоб именно сейчас! Обнаглев, я даже поставил чай.
Жена глядела во двор, под арку, расплющив о стекло половину лица.
– Идут! – воскликнула она.
– Где? – Я подошел к ней.
О! Она не сказала, что он негр! Впрочем – замечательно!
Агентша плавно обводила рукой наш двор, памятник архитектуры. Негр одобрительно кивал.
Вот – счастье!
Стукнула дверь… они вошли на лестницу… сердце заколотилось… и тут же они вышли. Не оборачиваясь, они пошли со двора… Что такое? Впрочем, я уже понял – что! Я выглянул на лестницу. Эти народные мстители, борющиеся против иностранного нашествия, возвели баррикады из самого доступного материала – напрудили пруды! Как они оказались на лестнице, ведь никто не входил! Сидели в засаде? Проникли через чердак? Какая разница! И бессмысленно с ними бороться! Комары будут кушать нас, а не классовых врагов!
Временно исчерпав свои ресурсы, мстители исчезли – мы ходили по лестнице почти свободно, но больше гостей не приглашали…
Грустное лето – под лозунгом: но зато хоть посмотрим наш город. Одинокие блуждания. Город и вправду красивый, но запущенный. Ржавые баржи, бомжи… им мы, наверное, и обязаны тем, что в это лето сохранили свободу.
Волнующие, но давно знакомые истины: Фонтанка по-прежнему впадает туда же, а Мойка по-прежнему вытекает оттуда же.
Наполненный светлой грустью, я вернулся после одной из этих прогулок и обомлел… Снова изобилие! Но сейчас-то зачем? Ведь ясно же, что мы навеки порвали с иностранцами – теперь-то зачем?.. Нет ответа. Это было уже просто буйство красок, излишества гения, искусство ради искусства.
Говорят, видеть много дерьма во сне – к богатству, но наяву – вовсе не обязательно.
Звонок на двери зачем-то искорежен мощным ударом… тоже – излишество: кто же может добраться теперь до нашей двери и нажать звонок? Эх, не бережете вы своих талантов!.. Здравствуй, лето.
Конец интеллигента
Но и осень, увы, не принесла никакого оживления в мою жизнь. Обычно каждый сентябрь начинались суета в клубе, толкотня в издательствах. А теперь – словно этого и не было никогда – клуб сгорел, издательства исчезли. И именно мы все это смели заодно с ненавистным строем – так что жаловаться не на кого, увы!
Писатель Грушин пригласил меня на свой юбилей, но проходило это далеко уже не в ресторане, а почему-то в Доме санитарного просвещения.
– А вот и наш классик! – воскликнул Грушин, только я появился в конце практически пустого зала… Делать нечего, радостно улыбаясь, я направился к сцене, и вдруг Грушин сказал: – Он болен, очень болен. И приехал издалека! Он болен, но нашел-таки силы прийти! Поприветствуем его!
Я так и застыл с ногой – поднятой, чтобы войти на сцену… Почему это я «очень болен», черт возьми?! И почему это я «приехал издалека»? Так надо Грушину, чтобы показать, что даже очень больные люди буквально приползают на его юбилей! Черт знает что нынче делается для того, чтобы удержаться на поверхности,– и все, зная мое слабоволие, пользуются этим. Ну, ладно уж. Я болезненно закашлялся, лишь бы Грушину было хорошо. Даже когда приезжал с друзьями на юг, и там чувствовал неловкость, что горы не такие уж высокие, а море не такое уж синее – словно я в этом виноват!
– К сожалению, ему надо идти! – вдруг объявил Грушин, только я взялся за скромный бутерброд.
Куда это мне «надо идти»? Видимо, в могилу. И, судя по окружающей меня жизни,– верный адрес. Словно исчезло все, что я за жизнь свою сделал. Хочешь – начинай все сначала!.. Но хотел ли этого я?
Я зашел к критику Ширшовичу – пусть объяснит.
– Читал «Флаги на башнях»? – вдруг спросил Ширшович, выслушав жалобы.
– «Флаги на башнях»? – Видимо, он тоже считает, что мне надо начинать образование сначала.– Конечно, читал. Но только в детстве. А что такое?
– Критик Примаренков блистательно доказал, что колония трудных подростков, о которой пишет Макаренко, якобы педагог, на самом деле была притоном гомосексуалистов для высших правителей страны!
– Как? – Я даже подскочил.– Но Макаренко же их перевоспитывал!..
– В правильном ключе!
Вот как развивается сейчас литературоведение – семимильными шагами!
– М-да… И кто же… гомосексуалист… туда приезжал?
– Буквально все! Калинин! Бухарин! Без сомнения – Ежов. Конечно же, Максим Горький, ну, это подтверждается даже документально. Вот так.
– И… что?
– И то! Поэтому книги Макаренко выходили миллионным тиражом!
– М-да. А мы-то здесь при чем?
– При том же! Те же самые флаги на тех же башнях!
– То есть – что?
– То есть – то. Вся мировая политика, ну, и, разумеется, культура контролируются ими!
– Давно?
– Всегда.
– Но как же раньше было? Я и не знал!
– Только не надо считать меня за идиота! – вскричал Ширшович.– Все было – только тайно. И ты прекрасно это знаешь!
– Я?..
– Сколько ты выпустил книг? И помалкивай! Не надо строить из себя наивного идиота!
– …каким я, видимо, и являюсь.
То-то последнее время у меня на глазах происходили непонятные взлеты непонятных людей, вчерашние приготовишки объявлялись гениями, объезжали мир, а ты как числился скромным середнячком, так и остался… Спасибо Ширшовичу – открыл глаза!
– Но ведь Горький – известный бабник!
– Сам ты бабник,– презрительно проговорил он.– А, надеюсь, известно тебе, что Радищев был сифилитиком?
– Примаренков установил?
– Да нет! В книге написано. «Путешествие из Петербурга в Москву» называется.
– Мда-а…
Словно ошпаренный, я вышел от него.
Делиться больше не с кем – рассказал все жене.
– Ну что ж… раз так надо…– безжалостно произнесла она.
– И… как Радищев – тоже?
– До Радищева тебе далеко!
Да, человеку обычному в наши дни ничего не светит! И никогда не светило!
– Но ты уверена, что если бы… удалось, я, точно бы, стал преуспевающим автором?
– С тобой – ни в чем нельзя быть уверенным! – вскричала жена.
Через два дня, когда я вернулся с прогулки, она встретила меня радостно:
– Тебе звонили… из этой самой… колонии подростков!
– Как?! И что?
– Просили выступить.
– В качестве кого?
– Сказали, что ты сам все знаешь. Ты что, никогда не выступал?
– В колонии – нет. А кто звонил?
– Воспитатель Савчук. Голос молодой, ломкий. Сказал, что заплатят.
– Да? И когда?
– Завтра. В семь выступление, потом – танцы.
– Замечательно!
Утром перелистал «Флаги на башнях». Врет все Примаренков. Не может быть! И что я – Максим Горький? Зачем я им?
К вечеру стал собираться. Непонятно даже, какой галстук надеть.
– Ладно уж, не ходи,– вздохнула жена.
За убогого меня считает! Нет уж, пойду! Я им их «флаги на башнях» поотрываю, а там хоть трава не расти!
…Поздней ночью, прикрыв спящего завуча одеялом, я вышел в канцелярию, позвонил жене.
– Ну что? – проговорила глухо она.
– Ничего страшного. В смысле, воспитатель Савчук – обычная женщина. Причем неплохая.
– Идиот! Опять за старое! – Жена бросила трубку.
Так что не удалось повторить путь Максима Горького – если, конечно, это был его путь. Насчет Радищева пока не зарекаюсь, но откуда ж знать – повезет, не повезет?
Стакан горя
Под эти воспоминания я снова задремал, но тут дунуло холодом, хлопнула дверь, и ко мне, бодро цокая, приблизился пес – свежий, холодный после прогулки, с ярким веселым взглядом. Хоть кому-то везет!
– Эта… не звонила? – вскользь поинтересовалась жена. Имелась в виду дочь.
– Нет, не звонила.
– В такой-то хоть день могла бы позвонить!
– Да она и не знает!
– Ну что ж… поехали.
И потянулся этот грустный маршрут.
Когда-то мы этим маршрутом отвозили-привозили дочь, на выходные забирая у деда с бабкой. В воскресенье отвозили – не до нее. Своя жизнь слишком радовала. Дорадовались! Вот – результат!
Впрочем, надо добавить, что и к деду с бабкой, вырастившим ее, она тоже не прониклась особой нежностью: не в воспитании тут дело!
Помню, как она, толстая, неуклюжая, сидела напротив меня на таком же толстом, надутом автобусном сиденье. Не могу сказать, что было особенно спокойно каждое воскресенье увозить ее: совесть в нас, видимо, начинала уже пробуждаться… но так, видимо, и не пробудилась. Помню, как рвало сердце, когда она говорила серьезно и вдумчиво: «Нет, не буду телевизор смотреть: так время очень быстро летит!» И после этого – все равно отвозили! Помню, как я вложил в рот сложенные автобусные билеты, закрывал и раскрывал губы с листиками, пытаясь ее развеселить. «Уточка!» – улыбнулась она. Помню, как вспыхнула радость: значит, мыслит образно, соображает, значит, все станет хорошо!.. Стало!
Но, судя по последним мыслям, главное все-таки не воспитание? Все не главное – судя по последнему!
Вот здесь мы как раз тогда и ехали…
И в электричке в хмурый ноябрьский день оказалось битком! Неужто все на кладбище?!
Пошли желтые вокзалы этой некогда царской линии – и вернулись снова мучения тех наших поездок. Только закоптились эти славные домики за это десятилетие до неузнаваемости – особая чернота под сводами, под архитектурными излишествами. Все движется к худшему!.. Или это день такой? Не просто – день похорон, но вообще тягостный. Не хотел бы я хорониться в такой день! Впрочем – в какой бы хотел?
Выйдя из готического вокзала, мы втиснулись в автобус… что ли, специально еще надо мучить – в день похорон одного мало, что ли?
Мы ехали молча, глядя в разные стекла автобуса, но думая об одном.
– Наверное… уж сразу в морг? – с трудом выговорила жена.– Потом уже домой?
Я молча кивнул. Мы пошли через больничный двор. Хорошо, что хотя бы морг старый, красивый… Хорошо?
Думал ли он, въезжая в этот дом, что морг совсем рядом? Думал, когда вселялся: мол, морг совсем рядом? Думал, конечно, но исключительно как о шутке, не веря, конечно, что будет лежать здесь… но где же еще?
Надо сосредоточиться, собраться, слегка окаменеть. Мы уже видели его мертвым… Вызвала теща. Сидели молча. Потом раздался звонок. Вошли двое «носильщиков» – один наглый, пьяный, как и положено, другой почему-то стеснительный, как бы суперинтеллигент…
– Ой, боюсь, я вам тут наслежу!
Теща посмотрела на него.
– Ладно, хозяйка, давай две простыни! – просипел наглый.
– Почему же две? – встрепенулась теща.
– Сейчас увидишь.
Интеллигент как бы смущался. Одну простыню они постелили на пол, свалили его с дивана, второй простыней накрыли, слегка их перекрутили, затянули, подняли. Вот и вся человеческая жизнь – между двумя простынями.
…Все почему-то толпились на пороге морга, внутрь никто не хотел – уже нагляделись!
– Почему же еще простыня? – Теща уже начала приходить в обычную норму.– Я дала ведь уже две простыни!
– Но надо же накрыть! – увещевала ее сестра.
– А где же те простыни?
Молча поздоровавшись, мы вошли внутрь. Он лежал, всеми оставленный, абсолютно один. Почему в сандалетах-то – ведь ноябрь!
Мы стояли, хотя подмывало выйти. Мой брат, патологоанатом, рассказывал мне, что, казалось бы, повидал уже все, но когда ему в благодарность за быстрое вскрытие преподнесли кремовый торт, почувствовал, что возможности рвоты безграничны! Сладковатый запах… Да… была жизнь. И начиналась ведь не хуже другой и даже лучше – в красивом дворянском доме. После… и после ничего! Вот он, красивый, мускулистый, щегольски расчесанный, сидит, хохоча, в каком-то декоративном курортном водопаде, в воротничке на голое тело и в галстуке, и среди этих же бурных струй красивые друзья и подруги… Молодой специалист! Видел ли он оттуда, тогда эти своды?
Потом, конечно, работа, армия… тусклые воспоминания… «И помню – были стрельбы на шестьсот метров… на шестьсот и на восемьсот… нет… на шестьсот не было… только на восемьсот… Точно! Ну, не важно».
Потом – в рваной шерстяной жилетке сшивает картонный абажур вместо разбившегося, что-то бормоча под нос. Неужели каждая жизнь так печальна?
На кладбище автобус остановился посередине дороги – вокруг была непролазная грязь. Богатыри лопаты стояли в отдалении, насмешливо поглядывая: ну что – сами будете таранить или поговорим конкретно? К водителю всунулась какая-то старая пигалица, злобно пискнула: «Рапорточек будет!»
Да, всюду жизнь… Но – какая?
Дальше все было как-то просто… потом – жена присела, приложила ладошку к холмику, подержала… и все.
– Эта так и не появилась! – возвращаясь ко мне, прошептала она.
Да, жизнь продолжается… Но – какая?
Обратно я ехал один, все еще оставались там, но я больше не мог: срочная работа, срочная работа!
Впрочем, и дома ждет ад… Единственная радость и отдохновение – проезд по уже пустынному Невскому. Чисто, красиво, и почти уже никого! Бело-зеленый магазин «Ив роша», величественный, сдержанно освещенный подъезд «Невского паласа», охраняемый полицией неизвестно какого государства в серо-мышиной форме. Да – теперь туда уже не войдешь. Как же мы проехали мимо ярмарки? Ведь все начиналось хорошо! Талант! Та-ла-лант! Как же получилось так, что единственное денежное поступление, на которое я конкретно надеюсь,– крохотный гонорар за составление сборника похабных частушек? Остальное – нэ трэба! Только это. «Мою милую… только серьги брякают!»
Вздрогнул, увидав у метро грязную толпу этих хиппи… И эта дура с такими, смотрит сейчас на какое-нибудь раздувшееся, немытое ничтожество, задыхаясь от восторга! О-хо-хо!
Двор, как всегда, был забит бывшими «мерседесами», переванивающимися между собой… А в чем им, собственно, сомневаться? Их пора!
И как тут прикажете пробираться? Боком? «Твои дела!» Хозяева снуло глядели из-за тонированных стекол… «Это еще кто?» Я их не интересовал – даже как субъект убийства. На лестнице сунул руку в ящик. Вытащил конверт… Не деньги, увы, и даже – не напоминание о них! Какой-то текст… Я тупо смотрел… «Нравится – не нравится, спи, моя красавица!» И все? Как это понимать?.. Корректура? Да нет! Это ответ на мои отчаянные просьбы – выслать хоть какие-то деньги!.. Ответ! «Спи, моя красавица!» И ответ абсолютно в жанре – не сборник же трубадуров ты составлял, и вспоминать о благородстве тут даже глупо… «Спи, моя красавица!» Я выбросил бумажку.
Войдя, я долго сидел в кресле в прихожей. Может, хоть сейчас позвонит?.. Тихо! И пес как-то придавленно спит, и на него давит!
И главное, чего я боюсь,– чтобы не позвонил мой лучший, единственный друг! Удивительное, конечно, желание, но я уже больше не могу с ним разговаривать бодро, как будто бы все отлично и просто у меня нет времени вернуть ему сорок тысяч, и притом я будто бы легкомысленно не понимаю, что те сорок тысяч – это уже не теперешние сорок! Тишина. И за это спасибо ему.
Звонок! Праздничный гул в трубке – и голос известной светской львицы:
– Ну, где же ты?
– А что?
– Ты же обещал!.. День рождения!
Ах, да!
При разъезде гостей мне досталась одинокая красавица – теперь уже одинокая! – о которой я когда-то мечтал… Теперь я вздрогнул, провожая ее, лишь тогда, когда почувствовал, что в кармане всего одна перчатка вместо двух! Так… этого еще не хватало! Ползти обратно? А как же красавица? Ладно, так и быть, благородно доведу ее до стоянки – и помчусь обратно, искать перчатушку! А как же?
«…Прости, ты не сердишься, что я не приглашаю тебя домой?» Не сержусь? Да я бы ее убил, если бы пригласила!
Часа, наверное полтора я ползал по бульвару… Ничего!
Ну, почему, почему так надо, чтобы все сразу?.. Сам все делаешь! Ослабел.
Во дворе стоял единственный «мерседес», но зато самый омерзительный – с темными стеклами, как бы глухой, как подводная лодка, с тусклым зеленоватым светом внутри. Газует прямо мне в нос! И не протиснуться! И не шелохнется!
Я жахнул в переднее стекло ключами. Существо подняло голову. Я приподнял кепочку и прошел.
Ну, что? Можно наконец ложиться – или подождем?
Звонок. Та-ак… Я огляделся, взял старую, пятидесятых годов, настольную лампу… Недавно кинул ее в жену – с тех пор не горит. Не жалко. Я выдернул ее из штепселя и вынес в прихожую.
Гость темнел в темноте… вытянул руку.
– Ну, ты…
– Я! Я! – Я дважды жахнул его лампой, потом захлопнул перед его носом дверь. Тишина… видимо, думает. Я включил лампу – и неожиданно она загорелась… Вот и чудо!
Я решил лечь спать и, почти заснув, услышал, как уезжает машина.
Осень, переходящая в лето
Но друг все-таки позвонил!
«Ах так! – услышав наконец его голос, взбеленился я.– Мало ему? Ну, что же! Попрошу у него сейчас в долг еще полторы сотни тысяч рублей, чтобы он понял, что такое настоящая дружба!»
Но он сказал:
– Слышал, организуется круиз по Эгейскому морю?
– Слышал. И что?
– Тебя нет в списке.
– Так я и думал. И что?
– Ну и что думаешь делать?
…А что? Раньше надо было думать, когда давали места! Каких мест только не было! «Смелый писатель»! «Смелый писатель – этот тот, который смело говорит то, что и так всем уже известно».
Вот и дошутился!
…Писатель-прогрессист, верящий в будущее,– тем более считалось, оно наступило… ведь ясно было указано: «Прикоснуться к мечте!» Прикоснулся?.. Побрезговал? Ну, о чем же жалеть теперь? Отдыхай, любимец валидола! Спи, на радость людям!
…Правда, когда приезжал организатор круиза, Урман, он заходил, и я даже, напившись, подарил ему мне не нужный баян, тоже мне подаренный. Повеселились! Но помню и свой холодный расчет. «Сыграй, мой баян!»… Но, похоже,– не сыграл!
– Перезвоню! – не дождавшись вразумительной моей речи, рявкнул мой друг и повесил трубку.
Не то что поверить – я даже представить не мог, что где-то сейчас существует лето и имеет какое-то отношение ко мне. Сидя в валенках, душегрейке, я тупо смотрел в заледенелый двор. Снова задребезжал звонок. Я медленно поднял трубку.
– Собирайся! – рявкнул мой друг.
Новые, незнакомые города, о которых столько слышал и мечтал, любят появляться неожиданно, как бы ни с того ни с сего выскакивать из холодной мглы, причем в неожиданном ракурсе, как бы раскинувшись домиками по вертикальной стене,– самолет заходил на посадку, ложился на крыло.
У москвича, сидящего передо мной, вдруг пронзило лучом солнца ухо, оно стало рубиновым и прозрачным.
– Афины! – выдохнул обладатель уха, прилипнув лбом к иллюминатору. – Афины!
Как всегда после приземления, все казалось фильмом без звука: уши после посадки еще не откупорились.
Утыканный мачтами яхт берег от Афин до Пирея. Плоские, как ступени, крыши, поднимающиеся на холмы. Серое небо и – вдоль шоссе – сплошные деревца с темно-зелеными глянцевыми листьями и ярко-желтыми мандаринами – их едва ли не больше, чем листьев.
Наш теплоход – «Мир ренессанса». Греческая команда и писатели более чем из ста стран вылезают из автобусов, поднимаются вдоль борта по наклонному трапу, выкрашенному в сине-желтые греческие цвета. Маршрут: из Афин по Эгейскому морю, через Дарданеллы, Босфор в Черное, в Одессу, обратно в Стамбул, потом в Измир, в Салоники, в Афины, из Афин – в Дельфы.
Нам с другом досталась шикарная каюта наверху, с огромным окном на палубу… «Досталась»! Ему – досталась! Мой друг честно завоевал высокое свое нынешнее положение: он был и смелым писателем, и писателем-победителем, торжествующим победу… моих циничных сомнений он не признавал и лавры свои выстрадал честно. А я, как всегда, подсуетился, оказался в лучшем месте в лучшее время – это приспособленчество еще скажется на моем даровании, скажется… но значительно позже.
– Давай. Быстро! – проговорил мой друг, чувствуя себя, естественно, главным.
– Счас.– Я расстегнул свой чемоданчик. Чемоданчик-то был крохотный, но в нем удалось создать давление около десяти атмосфер. Вещи как бы взрывом раскидало по всей каюте.
– На полюс, что ли, собрался? – пробурчал мой друг.
Он честно заслужил свои лавры. Он верил, что будет жара!
Главный салон оказался, естественно, возле нас. Под его уходящими вдаль зеркальными сводами уже бурлила толпа. Заграница узнается по запахам, и я с наслаждением погрузился в них: сладковатая пахучая жвачка, медовейший табак, тонкие, словно серебряные, пряди дыма уже струились по салону. Я рухнул в огромнейшее кресло. Порядок!
Я благожелательно осматривал толпу… Иностранцы и есть иностранцы. Постоянное радостное возбуждение, красивая громкая речь, уверенные жесты (лучше всего с дымящейся трубкой в руке), высокий, лысеющий лоб, очки в тонкой оправе. Как бы небрежная, но дорогая одежда… Думаю, заплатки на локтях этого пиджака стоят дороже всего моего гардероба… Ну что ж!.. Зато у нас – самобытность! Я, конечно же, взял, что положено для самобытности: складень, сбитень,– но пока что не вынимал. Погодь!
Тем временем определилось неторопливое движение к длинному столу поперек салона – вносили еду. Небольшая элегантная очередуха. Еду несут и несут! Хрустящие на жаровне тонкие листики грудинки… скользкие шестеренки ананаса… покрытые сверху дымкой небывалые сыры… Кто последний?
Прослушивалась всюду и русская речь, но я деликатно не встревал в нее, понимая: это по-русски они общаются между собой, и разоблачать их, встревая в разговор, не совсем будет ловко. Русский язык – это у них для отдыха: на официальных встречах они будут говорить с нами по-эстонски, по-грузински, по-белорусски… А как же?! Для этого и приехали – преодолевать рознь, но, чтобы преодолевать, надо эту рознь обозначить… Для того и круиз. Кто бы вкладывал деньги, если бы розни не было? Придется поработать. Где мои сбитень и складень? А пока что – «шерше ля харч»!
Все явственнее обозначалась дрожь – машины разгонялись. Завибрировали, звеня, бокалы. Между огромным стеклом салона и берегом стал расширяться треугольник: мы отходили кормой вперед.
Все высыпали на верхнюю палубу… Берег отходил… Вот она, знаменитая «пятерня Пелопоннеса» – неожиданно суровая, каменистая!
Радостные восклицания, хохот, плоские фляжки в руках… Путешествие началось. Один грузин (или абхазец, или грек? В этом еще предстояло разобраться) отстегнул сетку, закрывающую пустой бассейн, и прыгнул туда, и стал изображать, что он купается. Всеобщее оживление, аплодисменты!.. Отличное начало!
Тем временем берег скрывался в дымке, солнце вопреки уверенности моего друга в лучшем так и не появлялось. Все спускались в салон. Продолжились объятия, поцелуи – все почти оказались знакомы, может быть, не так уж глубоко… но хорошим тоном, как я уловил, считалось уж лучше расцеловаться лишний раз с незнакомым, чем кого-то обидеть. Для поцелуев и плывем!
Я тоже наметил одного: вот этого финна я, точно, знаю! И он раскинул объятия. Тут палубу накренило крутой волной – он помчался ко мне, но неожиданно промчался мимо и впился поцелуем совсем в другого! Да, не все так однозначно… Поэтому и плывем!
Уже довольно четко обозначились главные проблемы: грузины и абхазы летели с нами вместе, но здесь, в салоне, сидели подчеркнуто отдельно. Проблема! Для этого и плывем. Правда, каждые по отдельности вели себя мило – оживленно переговаривались, смеялись, веселили своих дам,– всячески показывая, что они-то как раз нормальные, дело не в них… И темные курды пока еще держались отдельно от русых шведов, хотя и жили на одной территории… Для этого и плывем!
Но главное, честно говоря, расстройство – это полная изолированность наших. На грузин и абхазов хотя бы все смотрят, а на нас – ноль. И как вошли мы сюда, так и держимся настороженной стайкой – и никто к нам не стремится. Увы! Все как-то притерлись уже, а мы отдельно, стоим, как гордые глыбы, и нас не видят. Ведь не пустое же мы место, ведь каждый сделал кое-что – с десяток книг… Но все сугубо наше, свое… Неконвертиру-е-мое!
Стеклянные стены уже сделались темными. Качало все круче. Ленч плавно перетек в «капитанский коктейль», но то один, то другой из пассажиров вдруг посреди речи озадаченно замолкал, прислушивался.
– Однако! Как сильно раскачивает! Все нормально?
Я пошел было в каюту, но коридор мой поднялся передо мной, на меня налетел толстый эстонец, стриженный ежиком, пробормотал:
– Там ужасноват-то!
И мы вернулись.
В толпе у бара я заметил знакомую по имени Хелена: однажды на книжной ярмарке мы сплясали с ней быстрый танец. Но сейчас я лишь приветливо пошевелил пальчиками и промчался мимо… Знаю себя: истратишь всю валюту в первый же день!.. Обождем! Рано еще! Побережем силы для финиша…
Все понемножку задремывали в салоне. Залезать при такой волне в свои узкие гробики никому не хотелось…
Тусклый рассвет… и лупит сплошной дождь!
– Пошли.– Друг растолкал меня. Мы надели куртки и вышли.
Слева за пеленой дождя из наклонного берега торчал целый лес минаретов.
– Турция?
– Стамбул!
Дождь аж отпрыгивал от палубы. Однако внизу, прямо под нами, раскачивались на изогнутых фелюгах рыбаки, время от времени вытаскивая гирлянды серебристых рыбок. Да, тут сурово, как и везде!
Берега с обеих сторон сходились. Плоскими ступнями поднимались по склонам крыши, припадая к мечетям с круглыми приплюснутыми куполами. По бокам торчали минареты. Качка на время прошла, все стояли на воздухе.
– Это Айя-София?
– Нет. Айя-София отсюда не видна.
– Почему это?
Мы уворачивали от Стамбула вправо.
– Гляди!
Высоко в сером небе тянулась черная нитка птиц – она надувалась ветром, как парус, потом порвалась.
– Гляди – еще!
Вторая нитка… третья… четвертая… Как высоко! Куда это они?
Мы прошли под высокими, натянутыми в небе мостами – один, потом второй… берега расходились. Плоские домики на склонах становились все мельче.








