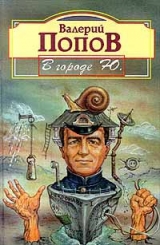
Текст книги "В городе Ю. (Повести и рассказы)"
Автор книги: Валерий Попов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
Еду я однажды в тяжелом раздумье, вдруг вижу – старый друг мой Слава бредет. Усадил я в машину его, расспросил. Оказалось, в связи с разводом лишился он любимой своей машины. Остался только гараж, но гараж хороший.
«Колоссально! – вдруг мысль мне пришла, острая, как бритва.– Поставлю мою машину в его гараж, пусть возится с ней – он это любит».
Загнали машину к нему в гараж, потом в квартиру к нему поднялись. Он порывался все рассказать, как и почему с женой развелся, а я успокоиться все не мог – от радости прыгал.
Замечательно придумал я! С машиною Славка теперь мучается, с бывшей женой-дурой – Леха, с композитором… не знаю кто! А я – абсолютно свободен. Какой-то я виртуоз!
Тексты за меня – нашел – один молоденький паренек стал писать. Врывается однажды сияющий, вдохновенный:
– Скажите, а обязательно в трех экземплярах надо печатать?
– Обычно,– говорю,– и одного экземпляра бывает много.
Потом даже выступление мое состоялось по телевидению.
В середине трансляции этой – по записи – выскочил я на нервной почве в магазин. Вижу вдруг в винном отделе двух дружков.
– О!..– Увидели меня, обомлели.– А мы тебя по телевизору смотрим!
– Вижу я, как вы меня смотрите!
Подвал наш с Региной отделал к возвращению ее. При моих заработках, кажется, могу я себе это позволить?
Бархатный диван. Стереомузыка. Бар с подсветкой.
Неплохо!
Правда, в подвале этом раньше водопроводчики собирались, и довольно трудно оказалось им объяснить, почему им больше не стоит сюда приходить. Наоборот – привыкать стали к хорошей музыке, тонким винам.
Приходишь – то один, то другой, с набриолиненным зачесом, с сигарой в зубах, сидит в шемаханском моем халате за бутылочкой «Шерри».
По Регине, честно говоря, я скучал. Но и боялся ее приезда. Много дровишек я наломал – с ее особенно точки зрения.
Конечно, ужасным ей покажется, что я из стихотворения, посвященного ей, песню сделал для хора!
И вдруг читаю однажды в газете: вернулся уже с гастролей прославленный наш оркестр! А ни Регина, ни Дзыня у меня почему-то не появились.
Звоню им – никого не застаю.
Мчусь в филармонию на их концерт.
Регина! Дзыня!
Дзыня обернулся перед концертом и вдруг меня в зале увидел, почему-то смутился. Взмахнул палочкой, дирижировать стал. Дирижирует, робко взглянет на меня и палочкой на пожилую виолончелистку указывает.
В антракте подошел я к нему.
– Почему это ты все на пожилую виолончелистку мне указывал?
Дзыня сконфуженно говорит:
– Хочешь – познакомлю?
– Как это понимать?! – На Регину смотрю.
– Понимаешь…– Дзыня вздохнул.– Ты так доходчиво объяснял, как жениха мне Регининого изображать, что я втянулся как-то. Мы поженились.
Вот это да!
И это я, выходит, уладил?
Ловко, ловко!
Можно даже сказать – чересчур!
Пошел к себе в подвал, выпил весь бар.
Ночью проснулся вдруг от какого-то журчания. Сел быстро на диване, огляделся – вокруг вода.
Затопило подвал, трубы прорвало!
Всю ночь на диване стоял, к стене прижавшись, как княжна Тараканова. Утром выбрался кое-как, дозвонился Ладе Гвидоновне (единственный вот остался друг!).
Она говорит:
– В Пупышеве с завтрашнего дня собирается семинар, поезжайте туда!
Ну, что же. Можно и в Пупышево. Все-таки связано кое-что с ним в моей жизни!
Перед отъездом не стерпел – соскучился,– зашел в старую свою квартиру, навестить бывшую жену и Леху… Главное, говорил мне, что проблемы быта не интересуют его, а сам такую квартиру оторвал! Нормальная уже семья: жена варит суп из белья, муж штопает последние деньги.
Потом уединились с Лехой на кухне.
– Плохо! – говорит он.– Совершенно не хватает средств.
Обещал я с «Романтиками» его свести.
Три часа у них просидел, больше неудобно было – пришлось уйти. Ночевал я в ту ночь в метро – пробрался среди последних, спрятался за какой-то загородкой – больше мне ночевать было негде.
Утром пошел я к Славке в гараж – поехать хоть в Пупышево на своей машине!
Но и это не вышло. Машина вся разобрана, сидит Славка в гараже среди шайбочек, гаечек. Долго смотрел на меня, словно не узнавая.
– Это ты, что ли? – говорит.
– А кто же еще?
– Что – неужели дождь? – На плащ мой кивнул.
– А что же это, по-твоему?
– А это вино, что ли, у тебя?
– Нет. Серная кислота! Не видишь, что ли, все спрашиваешь?
Но машину собрать так и не удалось.
Пришлось поездом ехать, дальше – автобусом. Долго я в автобусе ехал… и как-то задумался в нем. Не задумался – ничего бы, наверно, и не произошло. Вышел бы в Пупышеве, и покатилось бы все накатанной колеей. Но вдруг задумался я. Пахучий портфельчик свой вспомнил. Как там хозяин-то новый – ставит его в холодильник-то хоть?
Очнулся: автобус стоит на кольце, тридцать километров за Пупышевом, у военного санатория.
Водитель автобуса генералом в отставке оказался. Другой генерал к нему подошел, из санатория. Тихо говорили они. Деревья шумели.
Оказывается, генералы в отставке хотят водителями автобусов работать.
А я и не знал.
И не проехал бы – не узнал.
Вышел я, размяться пошел.
Стал, чтобы взбодриться чуть-чуть, о виртуозности своей вспоминать. Ловко я все устроил: то – так, это – так…
Только сам как-то оказался ни при чем! Можно сказать – излишняя оказалась виртуозность! Э, э! В темпе, понял вдруг я, все назад! Я быстро повернулся и, нашаривая мелочь, помчался к автобусу.
И вырвал грешный мой язык
Все, чего удалось добиться к сорока годам,– это дачка, поделенная к тому же на три части. Общая прихожая, заваленная всяким хозяйственным хламом – ржавыми керосинками, лыжными креплениями; чистенькая маленькая кухонька, деревянный туалет с круглым отверстием и маленьким окошком под потолком.
Иногда, особенно вдали, можно слегка погордиться – все-таки ценят! – но когда живешь здесь, особенно третий день подряд, ясна вся ничтожность твоего успеха!
Узкая комната с жестяным цилиндром печки в углу, тахта, круглый столик с липкой клеенкой и много едкого дыма, появляющегося при попытке хоть как-то нагреть это помещение!
Дача! Работа! Семья! Сцепка слов, напоминающая те тончайшие паутинки, которые плел упорный паучок над бездной между перилами двенадцатого этажа гостиницы в Пицунде. Как он упорно сцеплял свои кружева, так и я пытаюсь сплести паутинку из слов, заткать ими провалы – но безуспешно.
Я сошел с черного мокрого крыльца, пошел по тропинке голых кустов. Самая яркая мысль за последние дни: что здесь, в загородных магазинах и не в сезон, должно скопиться некоторое количество дефицита,– и я третий уже день хожу по промтоварным магазинам в округе, поднимаюсь по лестницам в душные помещения с запахами одеколона и лежалой одежды, сонно брожу в синеватом дрожащем свете трубок и, не обнаружив ничего привлекательного, ухожу – как ни странно, удовлетворенный: ведь, попадись там нечто такое, что заставило бы мое сердце учащенно биться,– это было бы трагедией: денег у меня всего полтора рубля. А так – ничего нет, и я доволен. И я упорно шляюсь по магазинам уже не с целью найти нужную вещь, а наоборот, с желанием, чтобы нигде ее не было,– и на такой зыбкой, извращенной основе держится моя жизнь последних дней, а может быть, и последних лет!
Телефонная будка у платформы тягостно напоминает мне о делах, оставленных в городе. Я захожу, набираю первый номер – самый легкий,– и в будке начинает нетерпеливо пошевеливаться бодрячок-весельчак, который сразу же начинает плести слова-паутинки над бездной:
– Здорово! Ну как ты? Все путем? (Что – путем? Что он несет?) Надо бы увидеться – есть кое-какие мыслишки! (А мыслишка – всего одна: в какой теперь пойти магазин, где бы не встретить ничего такого, что бы меня взволновало!)
Дальше все раздвоилось: мрачные мысли мои пошли тяжелым темным строем куда-то, как эти тучи над платформой, а язык немолодого, дряблого, почти пятидесятилетнего, но одетого в молодежном стиле бодрячка в будке нес свое:
– Понял, понял! (Уже вроде бы с другим абонентом?) Значит, работа моя вам не подошла? Понимаю! (Что, интересно, он может тут понимать?) Значит, когда вам позвонить?.. Двадцать шестого?.. Что?.. Двадцать восьмого?.. Двадцать девятого? А во сколько?.. Когда угодно?.. Понял, понял! Огромное вам спасибо! (За что это, интересно?)
На лице еще блуждает радостная улыбка, язык, еще несколько раз дернувшись в гортани, успокаивается.
Боишься бездны?! Плетешь над нею паутинку? А из чего она?!
Что хорошего может быть в том, что статью, над которой ты работал два года, в которую ты вложил все самое ценное, что у тебя сейчас есть,– зарубили? Что в этом хорошего – объясни?
Но радостная, восторженная, мальчишески непосредственная (такие ценятся вдвойне!) улыбочка еще продолжает почему-то блуждать по почти уже беззубым устам. Три зуба сверху, два внизу – последние мостики над темнотой. Скоро не станет их, и тьма все захватит.
Я шел по сырой извилистой улице среди пустых дач, с нарастающим отчаянием нащупывая языком обломки зубов: хорошо еще, что совпадают верхние и нижние, так что с закрытым ртом лицо сохраняет еще остатки вытянутой надменности, не превращается в шамкающую гармошку, в пустой кошелек,– но рухнут еще два зуба, и ты старик.
Вдруг в голубеньком домике с надписью «Промтовары» блеснуло окно – или это отразился закат? С кем торговать тут, в пустом поселке?
Я поднялся на сырое крыльцо, рванул набухшую дверь, вошел в тускло освещенное помещение, со вздохом посмотрел на полки.
Зачем я пришел сюда? Я уже объяснял зачем! Я пошел в дальний угол магазина. Сердце пару раз прыгнуло: а вдруг? Что – вдруг? Схема уже известная – хожу повсюду, чтобы ничего не найти. Боюсь найти – нет у меня ни на что сил и средств! Так зачем же хожу? Какие пустые, перекрученные наизнанку чувства движут мной,– странно, что их хватает для того, чтобы жить и передвигаться!
– Закрываемся – будете чего брать?
Я принюхался – может быть, обоняние, как чувство почти забытое, атавистическое и поэтому менее всего истрепанное, сохранило какие-нибудь желания? Волнующий запах дегтя – но деготь как-то странно покупать? Для чего? Умирать будем – и то не решимся ни на что такое, чего нельзя было бы объяснить решительно всем, хотя большинству – в том числе и этой продавщице – абсолютно безразличны твои поступки. Деготь отпал. Остались еще какие-то простые физические радости: гнуть, тянуть, крутить – что-нибудь такое. Вот это, пожалуй, подойдет: клей «Момент»,– можно будет что-то склеить, а потом с удовлетворением подергать: не оторвать! Здорово повезло – в городе этого клея не бывает. Большая удача!
Продавщица молча подала тюбик – могла бы, кстати, и завернуть… Но я давно уже ни с кем не скандалю – только улыбаюсь!
Когда я вышел из магазина, было уже темно: светилось только небо, улица и дома исчезли. Тем лучше – не надо их рассматривать, возбуждать мысли по поводу этих домов и их отсутствующих хозяев.
У платформы я посмотрел на освещенную изнутри телефонную будку – единственный кубик света, храм, где можно еще раз попытаться сплести над бездной паутинку слов,– уходить на всю ночь за платформу, в темноту пока еще страшно. Презирая себя, я все-таки подошел к будке. Громко скрипнула дверь в вечерней тишине. Открыл перед телефоном свой кошелек – стыдно в моем возрасте иметь такой, почти игрушечный кошелечек. Я всунул в дырочку палец, стал сворачивать по кругу тугой диск. Хорошо, если бы диски эти вообще можно было бы повернуть лишь в момент крайнего отчаяния или крайнего счастья – насколько содержательнее стали бы разговоры,– а легкость поворачивания диска позволяет нам не ценить своих слов, говорить что попало, лишь бы говорить, лишь бы стоять в освещенной будке среди тьмы!
– …Здравствуйте!.. Вы помните меня?.. Да, да!.. Когда перезвонить?.. В следующем году? Огромное вам спасибо, всего доброго!
Как ненавижу я свою легкость! Другому не могут дать что-то немедленно – он уходит в ярости, хлопнув дверью, а мне надменно и рассеянно обещают что-то, может быть, года через два – и я выхожу абсолютно счастливый, мелко кланяясь, глубоком проникновенно понимая все трудности того, кто не может мне сейчас ничего дать: «Конечно, конечно!..» Какой удачей я считал свой легкий характер раньше – и как я ненавижу его теперь, когда четко и безжалостно оказываюсь вытесненным на периферию людьми мрачными и тяжелыми. Но уже нет сил не улыбаться, когда отталкивают тебя – маска легкости уже приросла! – это тем более обидно, что никакой легкости нет, есть тонкая блестящая паутинка над бездной, на которой я балансирую, как паучок – а зачем? – по всем делам мне давно уже положено упасть, но я не упаду, буду улыбаться, пока останется хоть один зуб, говорить: «Ничего, ничего! Огромное вам спасибо!» и «Когда перезвонить? Двадцать шестого?.. Ах, двадцать восьмого?.. Тридцать девятого?! Все понял! До свидания!»
…Это человек легкий, с ним можно не церемониться – он зайдет и тридцать девятого, ну и что из того, что такого числа нет,– он человек легкий, он согласился!
С такими мыслями я шел к даче. Только глубокой осенью за городом понимаешь истину: как мало на земле света и как много тьмы! Это мысль тяжелая, мы боимся ее, слетаемся на свет фонаря, как мошкара, пытаемся внушить себе, что это еще день, хотя день наш давно уже прошел,– и я не выдержу и завтра же, наверное, полечу к какому-нибудь фонарю, чтобы поскорей забыть то печальное, что понял я, побывав в темноте, и язык мой, празднословный и лукавый, который я никак не решусь вырвать, снова начнет обманывать всех, и в первую очередь – меня самого.
Я вошел в темный дом, принюхался, положил замечательную свою добычу – клей «Момент» – в стакан возле умывальника, прошел в узкую комнату, потрогал жестяной цилиндр печки – еще теплится – и, не зажигая света, разделся и лег. Не надо света, слабого и обманного, пусть будет темнота!
Нет, никогда я не решусь обнаружить свою мрачность перед людьми – с детства был хорошо воспитан, часами со светлой улыбкой смотрел на абсолютно неподвижный поплавок, боясь своим недовольством обидеть – кого? Рыбу? Поплавок? Того, кто привел меня на это место и посадил? Абсолютно непонятно! Но я сидел и сидел. Так и теперь: ни в коем случае нельзя, чтобы кто-то догадался, что терпение мое кончилось, наоборот – улыбка, радостный тон: «Тридцать девятого? Договорились! Всего вам доброго! Кланяйтесь своим!»
Голова расходилась, никак уже не заснуть! Выпить, что ли, казенного? Под столом в коричневой бутылке с бумажкой, прижатой резинкою, плескалось немного спирта. На бумажке, помнится, написано карандашом «Проявитель», но в бутылке спирт – неделю назад я кинул туда горсточку рябины… Я нашел в темноте чашку, нагнул бутылку, нашел чашкою в темноте рот… Бр-р-р! Гадость! Может, спирт превратился в проявитель, согласно надписи? Но вскоре по разгоревшейся в холоде коже лица, по вспышке ликования (все отлично, ничего страшного, все живы, дела идут!) почувствовал – нет, нормальный спиртяга! Теперь бы подобрать уютный сон – последнее время на сны главная надежда, только вот на языке уж больно погано, все-таки он сделан не из стекла, как те линзы, на протирание которых в достаточном количестве отпускается этот спирт! Я поднялся, вышел в прихожую к умывальнику. Может быть, все не так уж и плохо – побежали блудливые мыслишки. Может, моя любимая статья, в которую я вложил все оставшиеся силы, не зарублена еще окончательно? Почему, собственно, силы беды должны быть лучше организованы, чем силы счастья? Наверняка у противников моих тоже есть сомнения, угрызения совести, приступы неуверенности – зачем отказывать им в таких всеобщих человеческих проявлениях? Может быть, именно сейчас, когда вроде бы все уже кончено, ветер понемножку начинает тянуть в обратную сторону?.. Как же! Жди! Вместо того чтобы крепко спать, противники твои угрызаются совестью! Тем более из-за того, что сделано, по их убеждениям, абсолютно справедливо!
Хватит себя успокаивать! Почему мы боимся хоть раз заглянуть в глаза беде? Беда от этого, понятно, не изменится, но, может, изменимся мы, станем покрепче?
…А может, еще сбегать позвонить – еще не поздно что-то сформулировать иначе, что-то представить полуудачей, договориться на будущее?
Нет уж, хотя бы здесь, когда ты один в темноте, имей силы почувствовать неудачу сполна, не порти такую крупную беду мелкой суетой! Буквально сам себя изловил за шиворот у двери, впихнул обратно: не будь дерьмом! Почисть свои оставшиеся зубы и спи! И не болтай хотя бы здесь: «Утро вечера мудренее!» Утро вечера мудрёнее – вот это правильно. Господи, ну и пасту стали выпускать – клейкая, к тому же отдает спиртом,– а как раз от вкуса спирта во рту я надеялся с ее помощью избавиться! Ладно. Я вернулся в комнату, свернулся в комок, согрелся и начал засыпать. Самое пошлое, что можно подумать, что сейчас, ночью, кто-то занимается улучшением твоих дел. Ничего этого нет. Все у тебя очень плохо! Спи.
Будильник задребезжал как будто сразу же, будто ночи и не было. Все было так, как я и предчувствовал: за окном серая мгла, настроение отвратительное, рта раскрывать не хочется, тем более – какое счастье! – и незачем его раскрывать: еды больше нет, «гуд монинг» говорить некому.
Сполоснуться немного можно, но снова лезть щеткой в рот лень, да и как-то неуютно – сырость и холод проникнут в организм, хоть немного прогревшийся под одеялом. Я поставил пасту обратно в стакан рядом с универсальным клеем «Момент», столь удачно купленным вчера. От желудка поднялся зевок, но зевнул я почему-то только ушами – рот не открывался. Пригнувшись к мутному зеркалу на стене, я развел губы в японской улыбке, напряг, как штангист, мускулы на затылке – рот оставался закрытым, верхние и нижние зубы не разнимались!
Уже догадываясь обо всем, я выхватил из стакана тюбик клея – так и есть, с двух сторон вдавленности от пальцев, никто, кроме меня, их сделать не мог. Я быстро понюхал щетку – так и есть,– вот откуда необычный вчерашний вкус! Я стал лихорадочно перечитывать инструкцию: «Изделие намазать тонким слоем и сжать!» Так я и сделал: намазал зубы и сжал. «В случае правильного выполнения инструкции склейка сохраняется практически навечно». Замечательно! Я стал глухо, с закрытым ртом, хохотать. Довольно странный получился хохот – я испуганно умолк. В прихожей стоял стол с разным хламом, я вытащил ящик, начал копаться там… хотя что я надеялся найти? Тисочки? Но куда их вставлять? Ацетон? Ацетон, наверное, растворит клей, но ведь и зубы он, наверное, растворит? Вот то, что нужно,– резиновая груша! Можно вечно молчать – но не голодать же? Я вставил грушу острым кончиком в дыру между зубами. Отлично! С клизмой, торчащей между зубов, я вернулся в комнату. Надо теперь купить жидкой пищи. Я оделся, вышел на улицу. Утром, оказывается, был заморозок – трава побелела.
Проходя мимо будки на платформе, я глухо, с закрытым ртом захохотал: не дождетесь от меня больше жалких слов – лучше и не ждите!
В магазине я молча набрал кефиру, суповых пакетиков, молча, не отвечая на необязательные вопросы продавщицы, прошел контроль – с утра мы начинаем болтать и размениваем, быть может, то великое, что созрело бы в голове или в душе.
Я шел обратно, стараясь не замечать тех мелких явлений дачной пристанционной жизни, что раньше умиляли меня, приводили в восторг. Хватит трепаться по пустякам – пора хотя бы помолчать!
Сны на верхней полке
Ну и поезд! Где такой взяли? Такое впечатление, что его перед тем, как подать, три дня валяли в грязи. Только странно, где ее нашли – всюду давно уже лег снег. Видимо, сохранили с лета? Впрочем, над такими тонкостями размышлять некогда – толпа понесла по платформе вбок, нумерация вагонов оказалась неожиданной – от хвоста к тепловозу! Мой первый вагон оказался последним – для него платформы уже не хватило, пришлось спускаться с нее, бежать внизу, потом подтягиваться за поручни. Проводник безучастно стоял в тамбуре, зловеще небритый, в какой-то вязаной бабской кофте… видеть его в белоснежном кителе я и не рассчитывал, но все же…
– Это спальный вагон? СВ? – оглядывая мрачный тамбур с дверцей, ведущей к отопительному котлу с путаницей ржавых трубок, неуверенно спросил я.
Проводник долго неподвижно смотрел на меня, потом мрачно усмехнулся, ничего не ответил… Несколько странно! Я вошел в вагон… В таком вагоне хорошо ездить в тюрьму – для того, чтобы дальнейшая жизнь не казалась такой уж тяжелой. Облезлые полки, затхлый запах напомнили мне о самых тяжких моментах моей жизни – причем не столько бывших, сколько о будущих!
При этом – хотя бы купе должны быть двухместные, раз уплачено за СВ,—вместо этого спокойно, не моргнув глазом, запускают в купе явно четырехместные! Что ж это делается?! Я рванулся к проводнику, но на полдороге застыл… Не стоит, пожалуй… Еще начнет разглядывать билет – а это, как говорится, чревато… Дело в том, что на билете написано «бесплатный». Мне его без очереди взял старичок с палочкой (очередь была огромная, а билетов не было) – и только когда он получил с меня деньги и исчез, я заметил эту надпись, встрепенулся, но старичка уже не было… Видимо, ему, как знатному железнодорожнику, положен бесплатный, но я-то не знатный… так что этот вопрос лучше не углублять. Не настолько мы безупречны, чтобы качать права… поэтому с нами и делают что хотят. Минус на минус… Пыльненький плюсик. Я попытался протереть окно, но основная грязь была с внешней стороны. Главное – было бы хоть тепло… уж больно сложный и допотопный отопительный агрегат предстал передо мною в тамбуре… Я подул на пальцы. Толстая шерстяная кофта на нашем проводнике внушала мне все большие опасения. Наверное, и не бреется он ради тепла?
Я сдвинул скрипучую дверь, вышел в тамбур. Сразу за мной, тоже решившись, вышел пассажир из соседнего купе.
– Скажите, а чай будет? – дружелюбно обратился он к проводнику.
– Нет,– не поворачивая головы на толстой шее, просипел проводник. Слово это можно было напечатать на облаке пара, выходящего изо рта.
– Как – нет?
– Так – нет! Можешь топить без угля?
– А что – угля нет?
– Представь себе! – усмехнулся проводник.
– На железной дороге нет угля?! – воскликнул я.– Да пойти к паровозу…
– Хватился! Паровозов давно уж нет!
– А вагон этот – с тех времен? – догадался я.
Проводник, как бы впервые услышав что-то толковое, повернулся ко мне.
– С тех самых!
– Так зачем же их прицепляют?!
– А у тебя другие есть? – Усмехнувшись, проводник снова уставился в проем двери, выходящей на пустую платформу.
– Так мы же… окоченеем! – проговорил сосед.– Снег ведь! – Он кивнул наружу.
– Это уж ваша забота! – равнодушно проговорил проводник.
– Возмутительно! – не выдержав, закричал я.– В каком вагоне у вас начальник поезда? Наверное, не в таком?
Дверь из служебного купе вдруг с визгом отъехала, и оттуда выглянул румяный морячок в тельняшке (заяц?).
– Ну что вы, в натуре, меньшитесь? – проговорил он.– Доедем как-нибудь, ведь мужики!
Пристыженные, мы с соседом разошлись по нашим застылым купе. Да, к начальнику поезда, наверное, не стоит – может всплыть вопрос с сомнительным моим билетом… Наконец, заскрипев, вагон медленно двинулся. Пятна света в купе вытягивались, исчезали, потом эти изменения стали происходить все быстрее – и вот свет оборвался, все затопила тьма.
Электричество хотя бы есть в этом купе?
Тусклая лампочка под потолком осветила сиротские обшарпанные полки, облако пара, выходящее изо рта.
Я посидел, обняв себя руками, покачиваясь,– сидеть было невозможно, кровь стыла, началось быстрое, частое покалывание кожи, предшествовавшее, насколько я знал, замерзанию.
Нет, так терпеливо дожидаться гибели – это глупо! Я вскочил.
Не во всех же вагонах такой холод – какие-то, может, и отапливаются? Хотя бы в вагоне-ресторане должна быть печка – там ведь, наверное, что-то готовят? Точно, я вспомнил надпись «Ресторан» – где-то как раз в середине состава! Я открыл дверь, согнувшись, перебрался через лязгающий раскачивающийся вагонный стык… Следующий вагон был еще холоднее. Люди, закутавшись в одеяла, неподвижно сидели в темных купе (свет почему-то зажигать не хотелось, это я тоже чувствовал). Только струйки пара изо ртов говорили о том, что они живы. В следующем вагоне все было точно так же… Что такое?! Какой нынче год?!
Я шел дальше, уже не глядя по сторонам, только автоматически – в который уже раз – открывая двери на холодный переход, там я стоял на морозе, опасливо пригнувшись, пока не удавалось открыть следующую дверь. Я попадал в очередной вагон, такой же темный и холодный.
И вдруг на переходе из вагона в вагон я застрял: я дергал дверь, она не поддавалась – видимо, была заперта. Железные козырьки, составляющие переход, лязгали, заходили друг под друга, резко из-под ног уходили вбок. Паника поднималась во мне снизу вверх. Я дергал и дергал дверь – она не открывалась. Я повернул голову назад – двигаться задним ходом еще страшнее. Я стал стучать. Наконец за стеклом показалось какое-то лицо – вглядевшись во тьму, оно стало отрицательно раскачиваться. Я снова забарабанил.
– Чего тебе? – приоткрыв маленькую щель, крикнуло наконец лицо.
– Это ресторан? – прокричал я.
– Ну, ресторан. А чего тебе?
– Как чего? – Я потянул дверь.– Не понимаешь, что ли?
– Это нельзя! – Лицо оказалось женским.– Проверка работы идет!
Она потянула дверь, я успел вставить руку – пусть отдавят!
– Какая же проверка работы без клиентов? – завопил я.
Она с интересом уставилась на меня – такой оборот мысли ей, по-видимому, еще в голову не приходил.
– Ну, заходи! – Она чуть пошире приоткрыла дверку.
Я ворвался туда. Никогда еще я не проходил ни в один ресторан с таким трудом и, главное, риском! Да, здесь было не теплее, чем в моем вагоне, но все же теплее, чем на переходе между вагонами.
К моему удивлению, мне навстречу из-за отдельного маленького столика поднялся прилизанный на косой пробор человек в черном фраке, крахмальной манишке, бархатной бабочке.
– Добро пожаловать! – Делая плавный жест рукой, он указал на ряд пустых столиков.
Недоумевая, я сел. Неужели это я минуту назад дергался между вагонами?.. Достоинство, покой…
– Через секунду вам принесут меню. В ресторане ведется проверка качества обслуживания – о всех ваших замечаниях, пусть самых ничтожных, немедленно сообщайте мне!
– Ну, разумеется! – в том же радушном тоне ответил я.
Метрдотель с достоинством удалился и с абсолютно прямой спиной уселся за своим столиком. Минут через двадцать подошел небритый официант.
– Гуляш,– проговорил он, словно бы перепутав, кто из нас должен заказывать.
– И все? – произнес я реплику, которую обычно произносит официант.
– Холодный! – уточнил он.
– А почему? – глупо спросил я.
– Плита не работает! – пожав плечами, проговорил официант.
Я посмотрел на метрдотеля. Тот по-прежнему с неподвижным, но просветленным лицом возвышался за своим столиком. В мою сторону он не смотрел.
– Ну хорошо,– сдался я.
В ресторане было сумеречно и холодно. За темным окном не было ничего, кроме отражения.
Наконец появился официант и плюхнул передо мною тарелку. Кратером вулкана была раскидана вермишель – в самом кратере ничего не было. Я посидел некоторое время в оцепенении, потом кинулся к застывшему в улыбке метрдотелю.
– Это гуляш?! – воскликнул я.– А где мясо?
Метрдотель склонил голову с безупречным пробором, прошел в служебное помещение – оттуда сразу донесся гвалт, в котором различались голоса официанта и метрдотеля. Потом появился метрдотель с той же улыбкой.
– Извините! – Он взял с моего столика тарелку.– Блюдо будет немедленно заменено! Официант говорит, что кто-то напал на него в темном коридорчике возле кухни и выхватил из гуляша мясо!
– Мне-то зачем это знать! – пробормотал я и снова застыл перед абсолютно темным окном.
Наконец минут через сорок мне захотелось пошевелиться.
– Так где же официант?! – обратился я к неподвижному метрдотелю.
Он снова вежливо склонил голову с безукоризненным пробором и скрылся в служебке.
– Ваш официант арестован! – Радостно улыбаясь, появился он.
– Как… арестован? – произнес я.
– Заслуженно! – строго, словно и я был в чем-то замешан, проговорил метрдотель.– Оказалось – он сам выхватывал мясо из гуляша и съедал!
– А, ну тогда ясно…– проговорил я.– А теперь что?
– А теперь – к вам незамедлительно будет послан другой официант! – с достоинством произнес он.
– Спасибо! – поблагодарил я.
Второго официанта, принявшего заказ, я ждал более часа – может, конечно, он и честный, но где же он?
– Ваш официант арестован! – не дожидаясь вопроса, радостно сообщил метрдотель.
– Как… и этот? – Ноги у меня буквально подкосились.
– Ну, разумеется! – произнес он.– Все они оказались членами одной шайки. Следовало только в этом убедиться – и нам это удалось.
– Ну, замечательно, конечно…– пробормотал я.– Но как же гуляш?
Он презрительно глянул на меня: тут творятся такие дела, а я с какой-то ерундой!
– Попытаюсь узнать! – не особенно обнадеживая, холодно произнес он и скрылся в служебке. Через час я, потеряв терпение, заглянул туда.
– Где хотя бы метрдотель? – спросил я у человека в строгом костюме с повязкой.
– Метрдотель арестован! – с усталым, но довольным вздохом произнес человек.– Он оказался главарем преступной шайки, орудовавшей здесь!
– Замечательно! – сказал я.– Но поесть мне… ничего не найдется?
– Все опечатано! – строго проговорил контролер.– Но… если хотите быть свидетелем – заходите.
– Спасибо,– поблагодарил я.
Я сидел в служебке. Приводили и куда-то уводили официантов в кандалах, потом метрдотеля… все такого же элегантного… мучительно хотелось есть, но это желание было явно неуместным!
Я побрел по вагонам обратно.
«Хоть что-то вообще… можно тут?» – с отчаянием подумал я, рванув дверь в туалет.
– Заперто! – появляясь за моей спиной, как привидение, произнес сосед.
– Что… насовсем? – в ярости произнес я.– А… тот? – Я кивнул в дальний конец.
– И тот.
– Но – почему?
– Проводники кур там везут!
– …В туалете?
– Ну, а где же им еще везти?
– А… зачем?
– Ну… видимо, хотели понемножку в вагон-ресторан их сдавать, но там проверка, говорят. Так что – безнадежно!
– И что же делать?
– А ничего!
– …А откуда вы знаете, что куры?
– Слышно,– меланхолично ответил сосед.
Я посидел в отчаянии в купе… но так быстро превратишься в Снегурочку – надо двигаться, делать хоть что-то! Я снова направился к купе проводника. Когда я подошел, дверь вдруг с визгом отъехала и оттуда вышел морячок – он был тугого свекольного цвета, в тельняшке уже без рукавов, с голыми мощными руками… Он лихо подмигнул мне, потом повернулся к темному коридорному окну, заштрихованному метелью, и плотным, напряженным голосом запел:
– Прощайте, с-с-с-скалистые горы, на подвиг н-н-н-нас море зовет!




