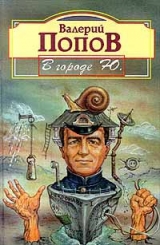
Текст книги "В городе Ю. (Повести и рассказы)"
Автор книги: Валерий Попов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
– …таварищ таракой,– вывел меня из прострации говорок Фила.– Фсе рапотаете, рапотаете, нато и от-тыхать! – Он пихал меня в пикап.
– Да нет, я пойду… Я уже как-то устал отдыхать.
– Да встряхнемся давай. К Ирише заедем. Хочу с ней крепко потолковать – пора на уши ее поставить!
– Не надо! – Я метнулся в пикапчик.
– В контору! – захлопывая за мной дверцу, скомандовал Фил.
Снова нас мотало на поворотах. Я как-то боялся, что отдых с Филом окажется еще тяжелей, чем работа. Фил гнусавил под нос лихой джазик, время от времени дружелюбно подмигивая мне – он был абсолютно уверен, что купил мою привязанность навсегда (причем, что характерно, за мои же деньги!).
Мы подъехали к конторе, стали вылезать. Все как раз дружными толпами выходили на обед.
– Мадам что-то не видать! – сказал Филу молотобоец.
– Видимо, говеет! – усмехнулся Фил.
Уйти?.. Но мне кажется – когда я с ним, что-то все же сдерживает его!
И тут появилась наша Ириша – она шла с гордо поднятой головой, игнорируя нас. Рядом с ней крутился какой-то чернявый парень на высоких каблуках. Фил стоял неподвижно, глядя в землю, и у меня мелькнула безумная надежда, что он не видит ее. Но по той абсолютной неподвижности, с которой он стоял, было ясно, что он видел. Взяв себя в руки, она хотела было проплыть мимо, но в последний момент сломалась и резко подошла.
– Филипп Клементьич, я вам зачем-либо срочно нужна? – подчеркнуто официально проговорила она.
Он продолжал стоять абсолютно молча и неподвижно. Ситуация явно становилась напряженной. Это молчание и неподвижность пугали даже больше, чем шум и скандал. Проходящие мимо стали умолкать, останавливаться, с изумлением смотреть.
– Русланчик! Подожди меня, я сейчас! – ласково сказала она своему спутнику, несколько демонстративно прикоснувшись к его плечу.
Русланчик сделал несколько шагов и, не оборачиваясь, стоял.
– Ну? – прошипела она.
– На рабочее место, пожалуйста,– безжизненно проговорил Фил, указав рукой.
Ирина довольно явственно выругалась и, повернувшись, пошла в контору. Фил абсолютно без всякого выражения на лице, шаркая надувными пимами, медленно прошел в свой кабинет, уселся за стол. Ирина, явно куражась, с блокнотом и ручкой подошла к нему. Фил молчал, не обращая на нее никакого внимания.
– Может быть, я все-таки могу пойти пообедать? – наконец, не выдержав, проговорила она.
– Будешь выступать – сниму с пробега! – еле слышно проговорил Фил.
– А что я такого сделала? – уже явно сдаваясь, проговорила она.
– Слушай, ты… Если бы не этот… слишком нежный паренек,– кивнул он на меня,– я бы сказал тебе – что!
Ну что ж, хоть в качестве «нежного паренька» пригодился, подумал я.
Открылась дверь, и появился взъерошенный Русланчик.
– Иди, Русланчик, у нас с Филиппом Клементьичем важные дела! – капризно проговорила Ириша.
– О! – привстав, радостно завопил Фил.– Вот кто сбегает нам за водкой! Пришлите червончик,– вскользь сказал он мне.
С какой это стати я еще должен оплачивать его дурь?.. Но я не мог больше видеть стоящего, как столб, Руслана – я протянул последний червонец.
– Ну, вы даете, Филипп Клементьич! – вдруг расплылся в улыбке Руслан и, топоча, выбежал.
– Коз-зел! – вслед ему презрительно произнес Фил.
– А ты – человеческий поросенок! – кокетливо ударяя его карандашом по носу, проговорила Ирина.
Вскоре вбежал запыхавшийся Руслан, радостно отдал бутылку шефу. Шеф зубами сорвал жестяную крышечку, сплюнул, разлили по стаканам.
– Я не буду,– сказал я, но он не среагировал.
– Филипп Клементьич! – деликатно прихлебнув водки, произнес Руслан.– У меня к вам производственный вопрос!
– Ты бы лучше о них на производстве думал! – усмехнулся Фил.
– Но можно?
– Ну?
– Мы сейчас дом отдыха по новой технологии мажем…
– Знаю, представь…
– Ну, и многие отдыхающие от краски отекают, их рвет… одному даже «скорую» вызывали…
– Это их личное дело. Дальше!
– …Так мазать?
– Тебя конкретно не тошнит?
– Да нет… я уж как-то привык…
– Так иди и работай!
С ним все ясно! Там, где нормальный человек засовестился бы, заколебался, задергался – этот рубит с плеча: «Так иди и работай!» И все проблемы, которые других бы свели с ума, им решаются с ходу, «в один удар». С ним ясно. За это его и держат на высоком посту, и будут держать, сколько бы нареканий на него ни поступало – именно за то, что он сделает все, даже то, чего делать нельзя!
Появился молотобоец.
– Филипп Клементьич…– Он столкнулся со мной взглядом и слегка запнулся.– Так делать… для японца? – он смотрел то на Фила, то на меня.
– Иди и работай! – хрипло произнес Фил.
Молотобоец вышел.
Вскоре послышались звонкие удары – рушилось мое состояние. Фил был мрачен и невозмутим.
Ну все – я вроде был больше не нужен. Круг на моих глазах четко замкнулся. С чего начиналось все – с разбивания раковин,– к этому и пришло. По пути я сумел успокоить Фила, матерей с детишками, обэхээсэсника, теперь обрадую ненасытного японца, а что я сам немного расстроился – это несущественно!
– Швыряло давай! – Фил кивнул на Иркин стакан.
– Поросенок! – Она игриво плеснула в него остатками водки.
Больше я находиться здесь не мог. И даже, как «нежный паренек» я уже абсолютно был не нужен: нежность и так хлестала тут через край!
– Чао!
Я двинулся к выходу.
Фил даже не повернулся в мою сторону. Может, ему был безразличен мой уход? Но тогда, наверное, он бы рассеянно кивнул мне вслед и даже бросил какую-то малозначащую фразу, но в этой полной его неподвижности, абсолютном безмолвии читались огромная трагедия, неслыханное оскорбление!.. Он ввел меня в святая святых, распахнул душу (пусть не совсем стерильную), раскрыл методы работы (пусть не совсем идеальные), а я свысока плюнул на все это и ушел. Как говорится: такое смывается только кровью!
Ириша четко уловила состояние шефа.
– Конечно, когда не о его делах речь, ему неинтересно! – бросила она мне вслед.
Как это – речь не о моих делах? Ведь именно мои раковины сейчас в угоду японцу звонко разлетаются вдребезги! Парадокс в том, что Фил отдает их японцу, а если бы я отнял их – я отнял бы их у детей! Но – хватит! Еще помогать матерям с детишками я хоть со скрипом, но согласен, но поднимать своими скромными средствами и без того высокий уровень японской промышленности – пардон!
Я взялся за дверь.
– Да куда он денется! – хлестнула меня на выходе вскользь брошенная реплика Фила.
…Как это – куда я денусь?! Да хоть куда!
Я вышел на улицу, в слепящий день. Водитель пикапа бибикнул мне. Я подошел.
– Садись, подвезу!
– Денег нет! – Я сокрушенно развел руками. Опричники Фила мне тоже были как-то ни к чему.
– Да садись! – горячо сказал водитель. Я понял, что это зачем-то нужно ему, и сел. Поехали.
– А если шеф позовет?
– А! Он сейчас с места не стронется, будет пить до посинения – но зато на посту! Вечером другое дело – вози его!
– А куда – вечером-то?
– По ресторанам – куда же еще? Сперва объедем, всех зверей соберем, а после – в кабак. Но все – мне надоело уже: столик в салоне я отвинтил.– Он кивнул назад, на пустое пространство между креслами.– Тут у меня они пить больше не будут! Сказал, что крепления не держат! Они нешто разберутся? И убрал. А то сиди жди их, пока они с кабака выберутся, потом заберутся сюда и на столик все вынимают из сумок! Раньше двух ночи домой не прихожу – жена уже разговаривать перестала. И главное: хоть что-то бы имел, хоть раз угостили бы чем, предложили – попробуй. Я, может, тоже хочу рыбкой красненькой или икорочкой дочку угостить!.. Никогда! Сожрут, выпьют все, расшвыряют – «Вези!» После каждого еще до дому волоки! Все – распивочная закрыта! – Он снова кивнул назад.
– И с кем… он тут? – поинтересовался я.
– С кем! Понятно, с кем – у кого все в руках! А им такой, как Фил, позарез нужен: при случае и посадить можно, а потом вытащить! Исполкомовские да еще покруче кто. Вот уж действительно – нагляделся я на них в упор: свиньи свиньями! Нажрутся до усеру да еще баб норовят затащить! – Он сплюнул.– А те раковины, что вы оплатили, Гриня наш расфуячил уже, японцам отдадут – те из них какой-то редкоземельный элемент берут. А нашим – плевать! Но у меня тут больше они пить не будут – конец!
Мы свернули.
– А жена дочку в садик через весь город таскает, к ее заводу – трехлетку в полшестого приходится поднимать! А детсада нашего как десять лет не было, так нет и сейчас… Дай им волю – они все разнесут!
«Так уже дали им волю»,– подумал я.
– И в общежитии нашем до сих пор раковин нет на третьем-четвертом этажах!
– И у меня нет раковины! – сказал я.
– И у тебя нет? – Он обернулся.
…Ремонт, который сделали мне ребята, встал мне ровно вдвое дешевле той суммы, которую у меня взял и не собирался, видимо, возвращать мой в буквальном смысле драгоценный друг.
Хоть мы теперь и не виделись с ним, я, как ни странно, все четче видел его. Водитель Николай, появляясь у меня по делам ремонта, каждый раз рычал, что опять до глубокой ночи развозил пьяных клиентов. Все они, и особенно рьяно Фил, требовали обязательной доставки их домой, в каком бы состоянии они не находились. Дом, оказывается, для них – это святое!.. Выходит – тогда, заночевав у меня, Фил сделал редкое исключение?.. Как трогательно! По словам Коли, дома у Фила был полный порядок: квартира отлично отделана, три сына-спортсмена, красотка жена. Значит – дом его держит на плаву, там он отдыхает душой? Но я как-то не верю, что жизнь можно поделить перегородкой на два совершенно разных куска.
…Сейчас он исчез, как бы смертельно обидевшись, что я бросил его, пренебрег духовной его жизнью (если можно назвать духовной жизнью то, что происходило тогда в конторе)… Одновременно, как бы вспылив из-за обиды, можно было не отдавать и деньги… очень удобно! Но главное тут, несомненно, его оскорбленная душа! Мол – как только мои корыстные интересы не подтвердились, я тут же немедленно ушел, наплевав на узы товарищества. Примерно так он объясняет это себе… Версия, конечно, весьма хлипкая, и чтобы Филу поверить самому, что все рухнуло из-за поруганной дружбы, а не из-за украденных денег, ему все время приходится держать себя в состоянии агрессивной истерики: все сволочи, зверюги, к ним с открытой душой, а они!.. Жить в таком состоянии нелегко – я сочувствовал ему.
Только в невероятном напряге, раскалив до полного ослепления все чувства, можно проделывать такие безобразные операции, как он проделал со мной, и при этом считать себя правым и даже оскорбленным! Легко ли? И все для того, чтобы потом в грязном пикапчике глушить с крепкими ребятками водку, снова накаляя себя до состояния правоты?
Ежедневное преодоление непреодолимого, перепрыгивание всех устоев, может, и позволяет ему чувствовать себя человеком исключительным… но к чему это ведет? Может, и мелькнуло в день нашей встречи с ним что-то светлое – и тут же было разбито вдребезги, как раковина. Окупится ли?
А теперь ему особенно нелегко. Раньше он имел хотя бы утешение – марать меня: мол, знаем мы этих идеалистов… но теперь и этого (как и столика в пикапчике) он лишен.
Казалось бы, при его образе жизни всякого рода переживания давно должны были бы исчезнуть, но он явно не был уверен, что взял надо мною верх, и фанатично продолжал разыскивать доказательства своего морального (или аморального?) превосходства.
Одним из таких доказательств должен был быть довольно поздний его звонок, примерно через полгода после того, как мы расстались.
– Слушай, ты! – прохрипел он даже без тени прежней теплоты, словно я все эти месяцы непрерывно оскорблял его (а я и действительно, наверное, его оскорблял, даже не пытаясь требовать с него деньги, ясно давая понять, что с такого и требовать бесполезно). Мог ли он это простить? – Слушай, ты…
Далее следовало сообщение: все, что он обещал мне, он достал, причем финское, все ждет на базе, а сейчас мне надлежит привезти в ресторан «полторы тонны», а завтра безвылазно ждать дома. Я не сомневался, что судьба этих денег будет такая же, как у предыдущих… Но что его снова толкало ко мне?.. Неужели только ощущение безнаказанности? Да нет, наверняка его скребли сомнения, что я не уверен в абсолютной его честности, в абсолютной его верности дружбе, и это бесило его. Желание доказать свое совершенство в сочетании с привычной необходимостью воровать и составляло главную трагедию его жизни.
Но все-таки хорошая закваска в нем была, раз он еще что-то пытался доказывать. И именно мне-то и стремился доказать свою честность – всех остальных в его окружении не занимал этот вопрос, и тут вдруг – я. Может, я и был его последним шансом на спасение? Полярной звездой на фоне тьмы? Наверняка в общении со мной он тайно надеялся обогатиться духовно, а я обогатил его лишь материально и на этом успокоился!
Конечно же, с виду он суров – на любое подозрение ответит оскорблением, на нападение – зверским ударом, на обвинение – обвинениями гораздо более тяжкими… Неужто уже нет хода в его душу? Похоже, единственный крючок, которым еще можно его поднять,– это крючок «верной дружбы», «дружбы, не знающей пределов»… Правда, этим крючком он тянет, в основном, вниз, на себя, но может, еще можно его поднять этим самым крючком наверх?
Что-то, наверное, все-таки сосало его, если уже больше чем через год он вдруг остановил у тротуара рядом со мной свой «жигуль».
– Ну, ты, зверюга, куда пропал? – распахнув дверцу, оскалился он.
Все зубы уже золотые… молодец!
На заднем сиденье маялся мужик, одетый добротно, но без претензии.
– Клим! – пробасил он, сжимая руку.
– Из Сибири пожаловал! – усмехнулся Фил.
Значит, была у него потребность: показать, какие у него друзья? Выходит, не успокоился он, иначе зачем нужно было ему останавливаться, а не ехать мимо?
– Зарядил тут ему отель, приезжаем – болт на рыло! – прохрипел Фил.
– Да чего уж там… уеду, если так! – пробасил Клим.
– Может, ко мне? – неожиданно проговорил я.
– Валер-кин! – Фил потряс меня за плечо.
Неужели все повторится?
Божья помощь
Несчастен человек, не получающий от Бога подарков! Бог вовсе не задабривает нас, он просто скромно показывает, что он есть.
Когда мы благодаря своей злобе и нерадению падаем со стула на пол и удар, по всем законам физики, должен быть жестким – Бог обязательно подстелит матрасик. Нужно совсем не любить себя и ничего вообще, чтобы не заметить матрасика и грохнуться мимо, на голый бетонный пол. А между тем есть немало людей, что не замечают – и не хотят замечать – руки помощи, простирающейся к ним. И, пожалуй, именно по этому признаку люди и делятся на счастливых и несчастных. Одни учатся понимать помощь, которая приходит к ним в отчаянные моменты непонятно откуда, другие всю эту «иррациональность» злобно отметают и если уж грохаются, то в кровь – не по законам добра, но уж зато по законам физики!
А ведь нужно лишь не быть заряженным злобой и неверием, уметь чувствовать «веяния воздуха» – и помощь почувствуется очень скоро. Я давно уже замечаю, что нечто всегда поддерживает – почти в самом низу: обнаружится пятачок в кармане, в который ты многократно и безуспешно заглядывал, и на этот пятачок ты доедешь в то единственное место, где тебе могут помочь. Другое дело, что ты уж будь любезен подумать, куда тебе нужно на этот пятачок поехать… Если ж ты придумаешь лишь поехать в пивную, украсть бутылку и потом подраться… ну что же – сам дурак и не говори потом, что тебе никогда не было в жизни никакой поддержки!
Думаю, что при всей своей бесконечной милости Бог тоже имеет самолюбие и охотнее делает подарки тем, кто их любит и ждет, а не тем, кто их использует во зло или не замечает.
С детства я как-то плохо воспринимал банальности, разговоры о неминучих суровостях жизни, о неизбежных и жестоких законах – больше мой взгляд был направлен куда-то туда… в туманность, неопределенность… Законы я понял сразу, но ждал чего-то и сверх. И почувствовал почти сразу ветерок оттуда. И самые тяжелые периоды моей жизни – когда я под ударами реальности забывал про тот ветерок, не ждал его и поэтому не ощущал. Надо уметь выбраться из-под обломков, выйти в чистое поле, радостно открыть душу и ждать!
Пожалуй, первая поддержка, почувствованная мной… ниоткуда, была связана еще со школой. Вспомните свою жизнь – возьмем жизнь обычную, не обремененную тюрьмами, но и не богатую особыми внешними событиями… Что есть тяжелей школы? Потом ты хотя бы выбираешь место, где тебе быть, а тут жестко сказано: будь только здесь! Сиди, и слушай, что тебе говорят, и повторяй слово в слово – как бы ты ни был с этим не согласен! И всегда чувствуй за спиной взвинченного, больного Гену Астапова, который в любой момент может опрокинуть тебе на голову чернильницу, но сиди и не смей поворачиваться! И, держа все это в душе, каждый день, тем не менее поднимайся в предрассветную фиолетовую рань, прощайся под холодным краном с последним своим сонным теплом… Но это еще ничего, это все еще дома, среди своих, но вот выходить на ледяную улицу и на своих собственных ногах нести себя навстречу мукам, которые – можешь быть уверен – ждут тебя в классе!.. Что бывает тяжелей?! Ясно, что выход из теплого дома под всяческими предлогами затягивался до последнего возможного предела и с чувством запретной сладости – за возможный предел.
Наконец я выходил, поворачивая тяжелую дверь парадной, в холодный звонкий Саперный переулок, медленно шел к широкой Маяковской – здесь обязательно ударял порыв ветра с мокрым снегом или дождем, выбивающим слезы. Тусклый свет фонарей усиливал отчаяние… Неужели же так будет всю жизнь?!
И, опаздывая, точно опаздывая – вышел на пять минут после предельного срока! – я не мог заставить себя идти быстро – кто же может заставить себя быстро идти навстречу мукам?
Я сворачивал на узкую, темную между высокими домами улицу Рылеева. Часов у меня не было, но я знал, что опаздываю… А это значило, что к издевательствам, идущим с парт, прибавляются издевательства сверху, с учительского пьедестала. Учителя тех лет находили простую и надежную платформу для контактов со школьными бандитами: вместе с ними – как бы в воспитательных целях – издевались над слабыми. Это объединяло их сильнее всего, позволяло им найти общий язык. Объединенная экзекуция была намного страшнее раздельной, но тем не менее я не мог себя заставить ускорить шаги! Впереди во мгле начинала проступать белая гора Спасо-Преображенского собора, и вот я уже шел мимо ограды из свисающих тяжелых цепей и черных морозных стволов пушек. Ограда вела меня по плавному полукругу. Шаги учащались, сердце начинало биться в радостном предчувствии чуда. И вот я выходил к фасаду церкви и нетерпеливо поднимал голову вверх, к белой массивной колокольне, где под нежно-зеленым куполом летел на фоне светлых облаков белый циферблат с черными цифрами и стрелками. Всегда в это время спереди, со стороны улицы Пестеля, через Литейный шел радостный утренний свет и всегда на торжественном циферблате было начертано мое спасение – стрелки всегда показывали на пять минут меньше, чем должно быть! Я успевал, хотя никак, по реальным законам, успеть не мог! Ликуя, я перебегал дорогу, вбегал в школу… и к этому моему состоянию, ясное дело, гораздо хуже липли издевательства и несчастья – так постепенно с Божьей помощью они и отлипли! Откуда вдруг у меня при входе в класс прорезалась улыбка, загадочное веселье в лице, озадачивающее врагов?.. Ясно откуда – от того циферблата! Так я встал на ноги благодаря ему!
И, конечно (как это ни пытались вдолбить атеисты тех лет), Бог никогда не опускался до мелкого, утешительного обмана – мол, на циферблате покажу тебе, утешу, а в школе вдарит по тебе настоящее, московское время! Разумеется, время и было настоящим – я успевал войти, весело сопя, вытереть ноги, не спеша раздеться в гардеробе, неторопливо подняться в утренний класс, уютно усесться, разложиться – и лишь тогда ударял звонок.
Куда как приятнее было жить, ощущая поддержку! «А мне вот не было никакой поддержки, никогда не было!» – с отчаянием скажет кто-то, и скажет правду. И я мог вполне лишиться ее тогда, начав проводить, например, злобные эксперименты, издевательски пытаясь «выжать» из циферблата сначала десять минут, потом двадцать, полчаса… Ответ мог быть только однозначным и по-русски откровенным: «А иди-ка ты! Не будет тебе в жизни добра!»
Но надо же иметь совесть и чутье – не ссориться с Богом спозаранку, не тянуть из него жилы, не издеваться, ведь он же старичок. Кто издевается – то же получает в ответ!
Вспоминаю те годы – ведь именно тогда уже полностью складываются твои дела с окружающей тебя бесконечностью: как сложишь сам – так и пойдет, уже тогда надо все сбалансировать и понять.
Однажды в конце уроков, уже когда за окнами темнело, за мной вдруг прислали гонца от завуча. Его все знали очень хорошо, и вызов от него, да еще экстренный, не сулил ничего доброго. Класс замер. Я медленно вышел. В коридоре я старался вспомнить свои грехи – грехи по отношению к школе, но ничего, кроме тайных, невысказанных мыслей, припомнить не мог… В кабинете меня ждала молчаливая и мрачная группа учителей. Настрой – такие вещи ощущаются и в детстве – был нехороший. Чувствовалось, что они долго и бесплодно сидели тут, в духоте, взаимно раздражая друг друга, бродили, как брага в бочке, с натугой соображая, как же все вокруг резко исправить (такие думы, все более тяжкие, сопровождают всю нашу историю), бубнили, бурлили, закипали – и вдруг возник случайный выплеск, случайно направленный в меня, и все за неимением прочего стали радостно раздувать язычок.
– Так… может, ты расскажешь все сам? – сладострастно проговорил тучный, весь в черных родинках завуч.
Все от нетерпения заскрипели стульями – наверняка этот пугливый мальчишка, не участвующий во всем понятной жизни, а постоянно погруженный в какую-то отвлеченность, знает что-то еще, кроме фактов, известных им, вдруг расколется?
– А что я сделал-то? – уныло проговорил я, с тоской понимая, что что-нибудь да найдется.
– Что ты делал сегодня до школы? – спросил завуч.
– А что я делал? Шел сюда! – с некоторым уже облегчением произнес я, достаточно четко уже понимая, что ни о каких чудесах, подобных чуду циферблата, им знать не дано, такое они давно уничтожили в себе… Так о чем же речь? Наверняка о какой-нибудь нелепости, ерунде, клевете! Я взбодрился.
– Так ты не помнишь? – произнесла классная воспитательница. Все они взглядами проницали меня, вольно или невольно подражая работникам того учреждения, которое поднималось на Литейном совсем неподалеку. Такой стиль общения был тогда в моде, а кто может устоять против моды? Это мало кому дано. Не устояли и они…
– …Не можешь или не хочешь сказать? – подхватила «химия». И эту практику – допрос всеми по очереди – тоже они впитали из воздуха: такой был воздух тогда. Но я был спокоен. Главной тайны им не понять, даже узнав ее, они не поймут, отвергнут, не поверят… Чего ж мне бояться? Так, пустяки, какая-нибудь чушь!
Я весело посмотрел в окно, на высокий циферблат.
– Да-да! – как бы наконец уличая, цепко ловя меня на признании, вскричал завуч.– Ты правильно смотришь, правильно! Ну, расскажи, кто тебя научил этому, откуда это берешь? – ласково продолжил он.
Я понимал, что я мог порадовать их только доносом… но на кого? На Бога? Да нет, это невозможно, так на кого?!
– Я давно говорила твоим родителям,– вспылила воспитательница,– что ты парень не наш, парень чужой, оторванный от нашей жизни!.. Они не хотели понимать, подтверждений хотели – что же такого в тебе плохого… И вот – пожалуйста! Курил! На виду всей школы, перед окнами всей школы нагло курил и даже не прятался в подворотню, как это делают другие мальчики, у которых все-таки есть стыд!
Они торжествующе переглянулись – разоблачили тайного шпиона, особенно приятно, что очень тайного, скрывающего свою шпионскую сущность за хорошими отметками и тихим поведением! Открытые бандиты – это все-таки наши. Да, они невыдержанны, но они всем понятны… а этот… особенно опасен… и вот – пойман за диверсией! Огромный успех!
– Курил? – Я был поражен. У меня, наверное, как и у всякого, были грехи, я даже пропустил недавно урок, ушел тихо домой, и никто вроде не заметил, но – курил?!
– Но вы ведь знаете, я же не курю,– забормотал я.– Ведь вы же видели, наверное… знаете… я же не курю! – Я посмотрел на Илью Зосимовича, нашего математика. Время от времени он, как коршун, врывался в уборную для ребят и там, ликуя, вырывал папиросы и выкрикивал фамилии: «Федотов! Я тебя узнал, узнал! Можешь не закрываться в кабине! Надо было думать раньше!»
И другие учителя-мужчины тоже нередко врывались в уборную с внезапной облавой, да и учительницы, честно говоря, не особенно стеснялись врываться. При этом они, правда, возмущенно демонстративно отворачивали головы от писсуаров, как бы подчеркивая, что ради истины вынуждены пойти на нарушение морали, но и это нарушение приплюсовывалось ребятам, их преступление становилось двойным. Поэтому вопреки созревающим половым чувствам все-таки мы чувствовали себя лучше, когда в уборную врывались учителя-мужчины, моральное наказание в этом случае было как-то легче, поэтому учителей-мужчин ненавидели меньше – они не заваривали такого стыда, как бесстрашные и принципиальные наши учительницы. Поэтому я и обратил свой взор в сторону Зосимыча. К тому же и вообще он был мужик неплохой. Под моим вопрошающим взглядом он сначала было потупился, но потом, согласно общему настою, гордо поднял голову – мол, ваши уловки бесполезны!
– Но, Илья Зосимыч,– заныл я, понимая, что общее мнение уже создано и его не поколебать.– Ведь вы же… бываете… у нас… видите… видели меня хоть раз?
Учительницы снова надменно выпрямились – зона обсуждения была вопиюще неприличной, и вина за это, как тогда было принято, вешалась не на них, а на меня, словно я завел этот разговор. И тем более все было оскорбительным, что я запирался: другие быстро признавались, чувствуя, что это порок не страшный, а свойский – многие учителя тоже курили, было как бы тайное соглашение, сочувствие… признайся, простим! А я скрывал истину, запирался… Но что делать, если я действительно не курил?!
– Да когда ж я курил?.. Кто видел?!
– Видели, не беспокойся! – Завуч при всей своей выдержке не мог вскользь не обласкать взглядом осведомительницу. Учительница химии смущенно потупилась под поощрительным взглядом… Я понял, кто видел и кто родил это собрание. Но что она видела?
– Что она видела?
– Ты шел… от ограды (наверное, чуть не сорвалось – «церкви»)… шел от ограды к школе… и нагло курил!
Я вспомнил солнечное морозное утро, свое состояние… Еще в такое утро – курить!
– …Да это пар! Пар шел изо рта! – воскликнул я.
Странно – у других не увидели, а у меня увидели. Может, потому, что шел позже и попал на солнце лишь я? Или, может, вообще я был под тайным прицелом давно. Преступление подозревалось и вот – какая удача! – подтвердилось.
– …Пар это… честное слово! – Уже почти спокойно я посмотрел на всех.
– Пар… не может так валить! – сосредоточившись, проговорила химичка.
Все удовлетворенно закивали. Все правильно! Не может так быть, и даже думать такое вредно – чтоб один наглый ученик мог быть умней – и, главное, честней – педагогического коллектива.
Господи, сколько ненависти скопилось в людях – причем, что поразительно, в учителях!
– Ну… хотите…– Я посмотрел в окно, но там было уже темно.– Но хотите… завтра посмотрите… я буду переходить, а вы посмотрите!
Все вопросительно повернулись к завучу – достойно ли педагогическому коллективу участвовать в таких возмутительных, унижающих их коллективное мнение экспериментах? Да и нужны ли какие-то еще доказательства в этом абсолютно ясном деле?
– Давайте, давайте убедимся, правду он говорит или лжет,– произнес Илья Зосимович как бы осуждающе, но на самом деле, я думаю, дав ход своим сомнениям.– Мы же будем завтра утром в учительской? – Он оглядел коллег.
– Я не буду, у меня с одиннадцати! – оскорбленным тоном произнесла химичка, как бы подчеркивая свою незаменимость: мол, без нее результаты могут быть и ошибочны.
– Ну, ничего, Зоя Александровна, мы как-нибудь разберемся! – весело произнес Илья Зосимыч. Та метнула на него гневный взгляд. Я почувствовал, что вообще могу пасть жертвой в междоусобной войне среди учителей, и понял, что мне желательно стушеваться.
– Ну все, Попов, ты можешь идти,– произнес завуч (ясно, мне нельзя было присутствовать при ссорах взрослых),– иди и не думай, что ты оправдался, наше мнение по этому делу однозначно! Я думаю, достаточно, что мы тебя предупредили! Иди!
Со строгими лицами они проводили меня. Подразумевалось, что, конечно же, они не намерены на следующее утро торчать у окна… Конечно же, нет. Они сделали предупреждение – и приличному школьнику этого хватит! Вина моя как бы была уже доказана. И в то же время я понимал, что они не пройдут завтра мимо окна и непременно, тайно или явно, будут смотреть, как я прохожу булыжную площадь от церковной ограды до школы,– и мне важно, чтобы пар шел!
Сосредоточенный, я пришел домой, сделал уроки и, как боксер перед ответственным матчем, пораньше лег спать. Но без драм не бывает – перед самым уже сном бабушка сказала мне:
– Ой, как все болит, сердце ломит – прямо такое предчувствие, что не проснусь!
– Что же такое, бабушка, с тобой? – всполошился я.
– Да оттепель, видно, идет! – заохала бабушка.– Давление меняется – вот и болит.
Я стал уже засыпать и вдруг вскочил как ужаленный.
– Что значит… оттепель? Это значит – воздух потеплеет… и пар не будет идти изо рта?
Тяжело, с какими-то черными провалами-обмороками я засыпал… Что же это… значит (по имени я никого не называл и даже не подразумевал, это было неназванным чувством)… значит, никому… нет никакого дела?! И пусть бабушке плохо, и я так и останусь в глазах моих торжествующих врагов преступником – пусть? Значит, ничего нет?
Проснулся я собранный, решительный, говоря себе: нет, что-то же должно быть!
Поев супу, я выскочил на улицу, прошел Саперный, замедлил шаг… Ну, что? Морозец вроде бы есть – щеки пощипывает, но в темноте как-то плохо ориентируешься, вот появится солнце – все будет понятнее! Я шел быстро к решительной точке… Не могу соврать, что я не боялся, больше того, скажу, что я все не делал полного выдоха, боясь неудачи. Мелко, часто дышал – ну, этот выдох не в счет, этот – тоже не в счет, можно даже и не смотреть – ну, какой уж тут пар?! Я думал так: если мне светит удача, зачем заранее расходовать ее?
И только когда я вышел на простор, к ослепительно белой колокольне, освещенной светом через темный еще Литейный, я набрал полную грудь колкого, холодного воздуха, подержал его некоторое время в раздутой груди и выдохнул. Толстая, курчавая струя пара, просвеченная солнцем, вырвалась изо рта! Вот так вот, ликуя, подумал я, а ты решил – помощи нет! Вот она, помощь,– холодное утро вопреки тяжелым предчувствиям!




