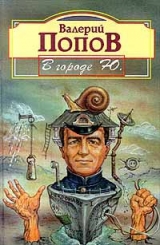
Текст книги "В городе Ю. (Повести и рассказы)"
Автор книги: Валерий Попов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
Я быстро сгонял на хлебозавод, погрузил две машины, пожевал хлеба, вернулся. Конечно, я понимал, что делать мне там абсолютно уже нечего – просто интересно было посмотреть, чем все это кончится.
«Не сон ли это?!» – мысленно воскликнул я, когда вернулся.
…Леха, осоловевший от бессонной ночи, покачивался за столом, снова в шапке, и все перед выходом из зала бросали в прорезь шапки пятак, как в автобусную кассу – судя по звуку, там было уже немало. Паня строго следила, чтоб ни один не прошел, не бросив мзды. Время от времени обессилевший Леха с богатым звоном ронял голову на стол.
– Тяжела ты, шапка Мономаха! – еле слышно бормотал он.
Тут же к столу кидались Синякова и Ясномордцев, с натугой поднимали корону и возлагали ее на голову встрепенувшегося Лехи. Вдруг взгляд его прояснился. Он увидел покрашенный белой масляной краской сейф, быстро направился к нему, обхватил, встряхнул, как друга после долгой разлуки.
– Да нет там ничего, только печать! – пробормотал Синякова, отводя взгляд.
Леха перевел горящий взгляд на Ясномордцева.
– Шестьдесят тысяч девяносто рублей одиннадцать копеек! – отчеканил тот.
– Молодец, далеко пойдешь! – Леха хлопнул его по спине…
– Ключа нет! – проговорил Синякова.– Директор в отпуске, ключ у него.
– Так… ты здесь больше не работаешь! – проговорил Леха. Повернулся к народу.– Пиротехник есть?
– Так точно! – Поднялся человек с рваным ухом.
– Сейф можешь рвануть?
– А почему ж нет?
– Тащи взрывчатку! – скомандовал Леха.
Я сам не успел заметить, как, распластавшись, встал у сейфа.
– Его нельзя взрывать!
– Почему это?
– Там может быть водка!
Пиротехник и Леха сникли.
Концовка совещания прошла вяло. Все разбились на группки. Рядом со мной оказался Синякова, почему-то стал раскрывать передо мной душу, рассказал, что у Хухреца в городе есть прозвище – Шестирылый Серафим, а что сам себя он давно не уважает – с того самого момента, как дрогнул и заменил свою не очень красивую, но звучную фамилию Редькин на женскую,– с тех пор почувствовали его слабину и делают с ним все, что хотят.
Потом появились Леха и Хухрец.
– Надоел мне этот театр! – заговорил Леха.– Я ведь, наверно, не только им в городе заведую?
– Да, с десяток заведений еще есть! – хохотнул Хухрец.
– Ну, так поехали! Здесь остаешься командовать! – приказал Леха Пане.
Машины у подъезда не оказалось, что возмутило Леху, Хухреца и, как ни странно, почему-то меня. Если эти вот ездят на машине – то почему я должен быть лучом света в темном царстве? Отказываюсь!
Машина, правда, тут же подошла.
– Все халтуришь? – усаживаясь, сказал шоферу Хухрец.
– Стараемся! – усмехнулся тот.
– Куда поедем-то? – икая, проговорил Леха.
– Да, думаю, женский хор проверим.
– Можно,– кивнул Леха.
Мы вошли в ослепительно белый зал. На сцене уже был выстроен хор – женщины в длинных белых платьях. К нам кинулся дирижер в черном фраке и с черными усиками.
– Пожалуйста, гости дорогие! – На всякий случай он ел глазами всех троих.– Что будем слушать?
– Да погоди ты… не части! Приглядеться дай! – оборвал его Леха.
Дирижер умолк. Леха ряд за рядом оглядывал хор.
– К плохим тебя не приведу! – ухмыльнулся Хухрец.
Мой взгляд вдруг притянулся к взгляду высокой рыжей женщины с синими глазами – не стану выдумывать, но, по-моему, мы оба вдруг вздрогнули.
– А чего они словно в саванах у тебя? – повернувшись к дирижеру, проговорил Леха.
– Да, как-то недоглядели! – торопливо проговорил дирижер.
– Ножницы неси! – икнув, проговорил Леха.– Мини будем делать!
– С-скотина! – вдруг явственно донеслось со сцены.
Все застыли. Я не оборачивался, но знал точно, что произнесла это моя. Сладко заныло в животе. «Вот влип!» – мелькнула отчаянная мысль.
Дирижер испуганно взмахнул руками. Хор грянул. Сразу чувствовалось, что это не основное его занятие.
После концерта Хухрец и Леха безошибочно подошли к ней.
– С нами поедешь! – сказал Леха.
– Не могу! – усмехнулась она.
– Почему это?
– Хочу тортик купить, к бабушке пойти! – издевательски проговорила она.
– Эта Красная Шапочка идет с тортиком к бабушке уже третий год! – хохотнул Хухрец.
– Пойдемте! – сказал я ей.
Она глядела на меня неподвижно, потом кивнула. Под изумленными взглядами Лехи и Хухреца мы прошли с ней через зал и вышли. Взбудораженный Леха догнал нас у служебного выхода.
– Ну, хочешь… я жену свою… в дурдом спрячу? – крикнул он ей.
«Странные он предлагает соблазны!» – подумал я. Она без выражения глянула на Леху, и мы вышли.
Дом ее поразил меня своим уютом.
– Так ты чего на этой должности подвизаешься? – удивился я.– У тебя муж, видно, богатый?
– Да я бы не сказала! – усмехнулась она.– Сама зарабатываю!
– Чем?
– Бисером вышиваю, в одном кооперативе. Одна вышивка – тысяча рублей.
– Одобряю. А зачем же тогда… в этом хоре шьешься?
– А может, нравится мне это дело! – с вызовом проговорила она.
– А… муж все-таки есть?
– Заходит… Сын сейчас придет.
– О! – Я причесался.– А сколько ему?
– Шестнадцать.
Зазвонил телефон. Она подняла трубку, ни слова не говоря, послушала и выдернула шнур из гнезда.
– Странно ты разговариваешь! – удивился я.
– Да это дружок твой звонил. Сказал, что, если я соглашусь, даст мне пачку индийского чая.
«Да-а… широкий человек! – подумал я.– Ему что пачку чая подарить, что жену в дурдом посадить – все одно».
– Вы, наверное, торопитесь? – заметив, что я задумался, сказала она.
«Ну, ясно, я ей не нужен! – горестно подумал я.– Конечно, ей нравятся молодые и красивые, но ведь старым и уродливым быть тоже хорошо! Не надо только слишком многого хотеть».
Неожиданно хлопнула дверь – явился сын.
– Боб, ты будешь есть? – крикнула она.
– Судя по ботинкам сорок пятого размера в прихожей – у нас гость. Хотелось бы пообщаться.
– Это можно! – Поправляя галстук, я вышел в прихожую. Больше всего из ребят мне нравятся такие – очкастые отличники, не лезущие в бессмысленные свалки, но все равно побеждающие. Может, я и люблю их потому, что сам был когда-то таким – и таким, в сущности, и остался. Жизнь, конечно, многому научила меня, в разных обстоятельствах я умею превращаться и в наглеца, и в идиота, но, оставшись наедине с собой, снова неизменно превращаюсь в тихоню отличника.
Мы поговорили с ним обо всем на свете, потом Боб сел ужинать, и я ушел.
Леха одиноко сидел в номере, смотрел телевизор. Телевидение показывало бесконечный сериал «Про Федю» – как тот приходит домой, снимает пальто, потом ботинки, потом идет в туалет, потом в ванную…
– Все! Глубокий, освежающий сон! – радостно проговорил я и вслед за Федей улегся. Некоторое время в душе моей еще боролись Орфей и Морфей, потом Морфей безоговорочно победил, и я уснул.
Проснулся я оттого, что Леха тряс меня за плечо.
– Просыпайся, счастливчик! Долго спишь!
– А сколько сейчас времени? – пробормотал я.
– Самое время!..– Леха торжественно вышагивал по номеру.– Твоей-то укоротили язычок – из хора вычистили ее!
– Как?!
– Обыкновенно. Дирижер толковым малым оказался, с ходу все просек.
Леха торжествовал. Я звонил ей по телефону – телефон не отвечал.
В комнате стояли два ведра пятаков (подарки восхищенных аборигенов?). Я подумал, что Леха будет носить их на ушах, в качестве клипс, но он хозяйственно высыпал их через отверстие в шапку.
Шея у него уже стала крепкая, как у быка.
Он бросил горделивый взгляд в зеркало. Он явно считал разбухшую свою шапку лавровым венцом, который местные музы возложили на него в благодарность за умелое руководство.
На лестнице нам встретились несколько вагоновожатых с ведрами пятаков – Леха благосклонно принял на себя «золотой дождь»,– дело явно было поставлено с размахом. У гостиницы стояла очередь трамваев, набитых людьми, из них выходили вагоновожатые с ведрами…
– Не забывает Геха кореша! – размазывая слезы, проговорил Леха.
Потом мы были в бане, где Леха прямо сказал старику гардеробщику, что шапку Мономаха он снимать не собирается. Впрочем, гардеробщик и не особенно удивился – многие уже мылись, не снимая шапок.
– Мой бывший завлит! – высокомерно представил меня Леха многочисленным подхалимам, мылившим его. Впрочем, в бане было холодно – праздник не получился.
Хухреца на рабочем месте не оказалось, после долгих поисков мы нашли его в вахтерской, где он скрывался от многочисленных посетителей. Он злобно назвал происходящее «разгулом демократии».
– Достали вопросами! Разговорились вдруг все! – измученно пробормотал он, усаживаясь в машину. Мы ехали вдоль тротуаров, запруженных народом, все поднимали руки, умоляя их подвезти – видно, за время своего руководства «батька» сумел полностью развалить работу транспорта.
Мы устало подъехали к ресторану.
– Ну, так покажем ему его королеву? – глумливо глянув на меня, сказал Леха Хухрецу.
– Покажем… ненадолго. Самим нужна! – ухмыльнулся Хухрец.
Швейцар услужливо распахнул дверь. Мы вошли в зал. Все сидели за столами в пальто и шапках – так было модно и, кроме того, тепло – лопнули трубы, город не отапливался, изо ртов посетителей шел пар. Оркестр, потряхивая погремушками, исполнял модную в том сезоне песню: «Без тебя бя-бя-бя!» Она стояла у микрофона и, развязно кривляясь, пела. Она была почти обнажена. Видимо, было решено резко догнать Запад, хотя бы по сексу. Руками в варежках все глухо отбивали такт. Увидев нас, она стала кривляться еще развязней.
– Теперь, я думаю, ломаться не будет! – по-хозяйски сказал Хухрец. Как старый меломан, он выждал паузу в исполнении, поднялся на сцену и потащил ее за руку вниз. К счастью, у нее была и вторая рука – раздался звонкий звук пощечины.
– Ча-ча-ча! – прокричали музыканты.
Хухрец замахнулся. Я сорвал шапку с Лехи и метнул в Хухреца. С тяжким грохотом Хухрец рухнул.
Служебной лестницей мы сбежали с ней вниз, одеться она не успела, я накинул на нее свое пальто.
У выхода меня ждал газик с милиционером.
– Старшина Усатюк! – откозырял он.– Приказано вас задержать для доставки в суд – на вас поступило заявление о нарушении общественного порядка в общественном месте!
– И что ему будет?! – воскликнула она.
– Да, наверное, сутки,– прокашлявшись на морозе, сказал Усатюк.– А вы, гражданочка, поднимайтесь обратно!
Он отобрал у нее мое пальто.
Суд прошел гладко – без свидетелей, без вопросов, без бюрократических и каких-либо других формальностей. Судьей была Тюнева (или похожая на нее?). Я с огромным интересом наблюдал за происходящим – ведь скоро, наверное, такого не увидишь?
Работал я на химическом комбинате, разбивая ломом огромные спекшиеся куски суперфосфата. Вдруг хлопнула дверца уже знакомого и родного газика, Усатюк высадил Леху… Вот это друг – не бросил в беде!
Мы сели покурить на скамейку.
– Геха, подлец, засадил меня! – хрипло заговорил Леха.– Певичка эта, вишь ли, понадобилась ему самому! Ну, ничего, я такую телегу на него накатал, такое знаю про него – волосы дыбом встанут!
«Не сомневаюсь!» – подумал я.
Леха с обычной своей удачливостью кинул окурок в урну, оттуда сразу же повалил удушливый дым. Некоторое время мы, надсадно кашляя, размазывая черные слезы по лицу, пытались еще говорить, но потом я, не выдержав, сказал:
– Извини, Леха, больше не могу! Должен немного поработать!
Я пошел к суперфосфатной горе. Хлопнула дверца – я обернулся. Из такси, пригнувшись, вылезала она. Близоруко щурясь, она шла через территорию, перешагивая ослепительными своими ногами валяющиеся там и сям бревна и трубы. Чтобы хоть немножко успокоиться, я схватил лом и так раздолбал ком суперфосфата, что родная мать – химическая промышленность не узнала бы его.
Боря-боец
Интересно, вспомнят нас добрым словом наши потомки за то, чем мы сейчас занимаемся? От усталости тяжелые мысли нашли на меня. Я стоял в почти пустой деревне на берегу Ладоги, и на меня дул резкий, словно враждебный ветер, треплющий пачку листовок в моей руке. Ну, ладно. Раз уж я забрался в такую глушь, то надо хотя бы сделать то, ради чего я заехал сюда!
Я сделал несколько нелегких шагов навстречу прямо-таки озверевшему ветру и вышел на самый берег – правда, самой воды за бешено раскачивающейся белесой осокой не было видно, но Ладога достаточно заявляла о себе, и будучи невидимой,– ревом и свистом.
Ну… куда? Я огляделся по сторонам. На берегу не было ничего, кроме вертикально врытого в почву бревна, ставшего почти белым от постоянного ветра и солнца. Я еще некоторое время вглядывался в невысокий этот столб, испуганно соображая, не является ли он остатком креста… но нет – никаких следов перекладины я не заметил. Просто – столб.
Я вынул из сумки тюбик клея, щедро изрыгнул его на листовку, потом прилепил ее к столбу… тщательно приткнул отставший было уголок… Вот так. Я смотрел некоторое время на свою работу, потом повернулся и пошел. Все! Одну листовку я прилепил на автобусной станции, вторую – на доске кинотеатра, третью – у почты, четвертую – у правления, пятую – здесь, на берегу. Достаточно – я исполнил свою долг!
Но все равно я несколько раз оборачивался назад, на бледную фотографию моего друга, страдальчески морщившегося от ветра на столбе, друга, согласившегося выставить свою кандидатуру на выборах против превосходящих сил реакции… Да – одиноко будет ему… на кого я оставил его тут?
Когда я обернулся в пятый или шестой раз, я увидел, что листовку читает взлохмаченный парень в глубоко вырезанной майке-тельняшке, в черных брюках, заправленных в сапоги.
Ну, значит, не зря я мучился, добирался сюда, с облегчением подумал я, все-таки кто-то читает!
– Эй!.. Профсоюсс! – вдруг донесся до меня вместе с ветром шипяще-свистящий оклик.
«Профсоюсс»?.. Это, что ли, меня? Но при чем – профсоюз? Я ускорил шаг.
Когда я глянул в следующий раз, парень, сильно раскачиваясь, шел за мной.
– Стой, Профсоюсс! – зловеще выкрикнул он.
Но почему – профсоюз, думал я, не ускоряя, но и не замедляя шага. А, понял наконец я: в тексте написано ведь, что друг мой является преподавателем Высшей школы профсоюзного движения – отсюда и «профсоюсс»… Ясно, этот слегка кривоногий парень за что-то ненавидит профсоюз – да, в общем-то, и можно понять за что! Но при чем тут, спрашивается, мой друг и тем более при чем тут я, вовсе ни с какого бока к профсоюзу не причастный!
– Эй! Профсоюсс!
Ну, что он затвердил, как попка? Потеряв терпение, я остановился и резко повернулся к нему. Он остановился почти вплотную. Взгляд у него был яростный, но какой-то размытый.
– Ну, что надо?
– Эй! Профсоюсс! – Он кричал и вблизи.– Ты куда рыбу дел?!
– Какую рыбу? – проговорил я.
Он кивнул головой в сторону Ладоги.
Я отмахнулся (я-то тут при чем?), повернулся и пошел.
…Конечно, думал я, симпатичного мало в здании Высшей профсоюзной школы, величественно поднимающейся на пустыре среди безликих серых пятиэтажек. Своими как бы греческими аркадами она, видимо, должна была внушать мысль о какой-то высшей мудрости, царящей здесь, и непрерывно, вот уже десять лет, пристраивалась, разрасталась. Среди жителей зачуханного нашего района она была знаменита лишь тем, что в нее была встроена единственная в нашем районе парикмахерская, а также тем, что оттуда иногда выносили лотки с дефицитом – видимо, когда там был перебор и могло стухнуть. Вообще, если вдуматься, в наше время сплошной демократизации сама идея эта выглядела дико – что значит Высшая профсоюзная школа? Уже ясно, по-моему, всем, что уж по крайней мере профсоюзные лидеры должны выдвигаться из глубоких масс, из самых непричесанных и самых непримиримых, а тут их не только причесывали – их явно прикармливали! Нередко, едучи на троллейбусе из центра, я рассматривал представителей, а также представительниц этой академии мудрости – в основном, из ярких южных национальностей. Как правило, они ехали группой с какого-нибудь эстрадного концерта, одеты были богато, но несколько безвкусно (безвкусно – я имею в виду для наших скромных широт) и громогласно, ничуть не стесняясь певучих своих акцентов, может, слегка нескромно среди умолкнувших пассажиров делились своими мнениями о популярной певице или певце. На «чужих» они не смотрели, а если и замечали кого-либо, во взгляде их была спокойная, иногда добродушная уверенность: я-то последний год волокусь на такой вот гробовине, через год пересяду куда получше – а ты-то так будешь маяться всю жизнь! Главное, чему их учили,– уверенности!
И мой друг, уже три года преподающий им эстетику, говорил о них с изумлением, как о каких-то марсианах… Вывели такую породу людей или отобрали? Перед экзаменом, как рассказывал он, они были готовы на все, главное в их характерах было – победа любой ценой! Все, включая женщин, предлагали любые свои дары – но как только экзамен был сдан, они тут же переставали здороваться, проходили, как мимо призрака, ты для них просто не существовал!.. Ну, ясно – не первых же встречных, а именно таких отбирают, чтобы править! Тип этот достаточно был известен в народе и достаточно ненавидим… И то, что к другу моему внезапно вдруг прилипло это клеймо, вряд ли будет способствовать его популярности.
– Эй! Профсоюсс!
Но друг-то мой чем виноват?! Он-то, наоборот, преподает им эстетику и искусствоведение, поднимает, насколько это можно, их грубые души!
– Эй! Профсоюсс!
Да – сердце у меня колотилось,– есть же типы! «Эй, профсоюсс!» Очень ему надо разбираться в тонкостях: все гады, нахлебники – и весь разговор!
Кого-то он мне напоминал… Неохота вспоминать неприятное, но оно было неотступным, навязчивым – и я вспомнил!
В нашем замусоренном новостройками дворе… не дворе, а огромном пространстве между домами-кораблями и магазином… тоже есть своя иерархия – к вершинам ее прорваться трудно, да и зачем, думал все время я, это нужно: делать карьеру во дворе? Но даже, проходя тут изредка, знал тем не менее местных знаменитостей. Среди них выделялся, несомненно, Боря-боец.
В разные эпохи, которые у нас внезапно сменяют одна другую, и облик Боба резко менялся. Неверно говорят, что пьяницы следуют лишь в одну сторону – опускаются, и все… это далеко не так. В этом я убедился, время от времени встречая Бориса в какой-то абсолютно новой, неожиданной ипостаси, и ошарашенно понимал: это не просто Боб изменился – пошла другая эпоха. С тех пор, как я живу в безобразном этом районе, таких эпох я заметил несколько. Может, в масштабе мира или страны эти повороты и не были заметны – но тут они изменяли все в корне. Но поскольку ничего другого тут нет, поворот диктовался магазином, в основном, винным,– ранее я даже не догадывался, что он может так круто диктовать!
Первая эпоха – еще при прошлом лидере, все это время отлично помнят: когда вино всюду лилось рекой, когда пили, казалось, всюду и все – и в цехе, и в научной лаборатории, и в поездах,– вся страна говорила заплетающимся языком. Естественно, что Боб с товарищами не отставали от прочих, а шли впереди. Был ли он уже тогда обладателем почетного прозвища Боря-боец, выделялся ли из общей не вяжущей лыка массы? Может быть, только большим буйством, большей степенью опьянения: огромный, фиолетово-одутловатый, в измазанной одежде, оглушительно орущий, всегда с кем-то ссорящийся – таким он был тогда. Но был ли он фигурой? Не могу сказать. Трудно быть вождем в неподвижном времени, трудно возглавить толпу, которая никуда не движется…
Так бы Боря и сгорел, размазался в этом квадрате жизни, расположенном между домами и магазином (больше он, кажется, нигде не бывал, даже и работал где-то тут же, если это можно назвать работой),– но обстановка резко изменилась.
Внезапно иссяк алкогольный водопад, резко и без обсуждения высохли алкогольные реки, открылось сухое и неказистое дно, захламленное каким-то мусором. Чувство смертельной жажды и обиды охватило всех – даже людей, покупающих вино раз в год. Но раньше они хоть имели эту возможность, хоть такую степень свободы: могли не хотеть выпить или могли хотеть и выпить,– теперь и этого выбора все были лишены. Но ясно, что активный протест это вызвало лишь у Бори и его компании. Именно тут-то они и выделились из общей массы как наиболее пострадавшие, сделались как бы общественно активны: их возмущенный пикет (разве что без плакатов на груди) всегда теперь стоял возле винного магазина, и к ним то и дело подходили люди, которые раньше с ними не общались, но теперь подходили заявить, что думают так же, как они. Над этой бурлящей, но пока бездействующей толпой Боря возвышался, как скала. Не каждый мог пробиться к нему и поделиться своими кровными обидами лично с Бобом, таинственно и величественно ухмыляющимся,– обычно новообращенные удовлетворялись душевной беседой с его заместителями. В те сухие времена в той бурлящей и разрастающейся толпе количество отчаявшихся потенциальных пьяниц резко возросло – и именно тогда Боб как-то незаметно, но бесспорно стал лидером: все клубилось вокруг него, огромного и величественного. Вот видите, что с нами делают, говорила его оскорбленно-насмешливая мина, и все жались к нему, тем более он всегда был на месте – и в дождь и в холод стоял скорбным изваянием, гордым монументом. Именно тогда, в те суровые месяцы, Боря и выстоял свою славу – мало кому другому это было по плечу, другие все-таки отлучались.
Но король без действия – это не совсем все же король… Однако начались и действия. Полился ручеек, сначала робкий. Толпа, бесплодно митингующая, пришла в движение и, как это ни странно, в еще большее возмущение. Где прежние любимые вина? Где прежние, хоть и кошмарные, но все же уже привычные цены? Теперь снимают последнюю рубашку, да и дают, когда захотят и что захотят… Что делают?!
Бурление вокруг Бори нарастало – все с какой-то надеждой смотрели на него: он единственный не боялся говорить то, что думает, и зажиревшим продавцам, и наглым мильтонам, делающим вид, что они соблюдают порядок, хотя сами создали бардак!
В те времена именно Боря со своими ближайшими помощниками чаще всего находился на острие борьбы, на острие скандала – где-то там, в гуще, в эпицентре, куда непосвященному было не пробиться… «Давай, Боря, вмажь им! Хватит, сколько можно терпеть!» – сочувственно восклицали все, даже оказавшиеся, как и я, на периферии…
Однако время шло, времена года менялись, а оскорбительное и невыносимое существование оставалось прежним… Боря если не понимал, то чувствовал, что бездействие губительно, что именно от него измученные жаждой массы ждут наконец поступка – чтобы им как-то духовно разрядиться, почувствовать, что хоть Боря-боец сражается за них!
И в начале очередной осени, когда все съехались из отпусков, из деревень и увидели, что жизнь их не только не стала легче, а еще и тяжелей, святой этот момент настал. Пронесся вдруг слух (а слухи редко бывают пустыми), что именно наш квартал и именно наш магазин посетит седой и величавый «отец города». Цель его визита была ясна: убедиться, что принятые меры мудры и успешны, что с отвратительным пьянством в городе благодаря вовремя принятому постановлению полностью покончено, но зато теперь граждане имеют широкий выбор различных соков, напитков, кваса и пепси-колы, а также благодарно, но неторопливо приобретают товары значительно улучшившегося ассортимента. И в том, что магазинщики эту картину ему изобразят – на те десять минут, что он будет в магазине,– ни у кого не было и тени сомнения!
– Но Боб им покажет! Боря им устроит! – передавалось с радостной усмешкой из уст в уста.
И Боб с ужасом и азартом понял, что все взгляды с последней надеждой устремлены на него – что-то он должен был совершить, чтобы наконец-то и там врубились! Но что же он мог?! Представляю сомнения его, постепенно вытесняемые все более громким и отчаянным зовом долга.
– Ну, Боря им устроит! – все более радостно и таинственно повторялось во дворе. Было абсолютно всем непонятно, что же тут можно устроить, но с присущим толпе суеверием считалось, что идея определилась, просто хранится до поры до времени в тайне, как секретное оружие.
День икс приближался – Боб выглядел все величественнее, толпа вокруг него была все подобострастнее, хотя на душе его, наверное, скребли кошки.
Однако ждущие бенефиса явно недооценивали тех, которые управляют. Другое дело, что они невидимы, что их как бы нет, что почти никому из нас, грешных, не удается их видеть воочию, но это, как недавно понял я, вовсе не значит, что их не существует. Нет – они существуют, более того, они размышляют, и ходы их, как правило, непредсказуемы и хитры. И уж тем более несложно им было переиграть Борю-бойца, фактически уже пропившего свой мозг.
В один из предполагаемых дней вдруг пронесся ошеломляющий, сокрушающий сознание слух – в универсаме, в двух остановках от нас, дают все и в любых количествах, без всяких ограничений и оскорблений! Это был ураган, всех умчавший туда во главе с торжествующим Бобом: «Ага! Испугались!»
Как же прост и, если вдуматься, чист был этот богатырь, которого некоторые чопорные люди считали опустившимся, пропившим все принципы! Отнюдь! Как жадно и, главное, как легко поверил он в победу справедливости и добра! И вся толпа с какой-то наивной радостью: «Дожили-таки! Не зря надеялись!» – с какой наивной радостью толпа расхватывала внезапно и отнюдь неспроста спустившуюся на них манну небесную.
Тем временем седой и величественный, скромно, но достойно одетый «отец» – в окружении совсем небольшой охраны – с удовольствием прохаживался по нашему магазину, чистому, немноголюдному; вполне достойные, приличные люди потребляли, конечно же, скромный, но вполне достойный и доступный ассортимент товаров – два сорта сыра, ветчина, сосиски… Где те толпы ободранных пьяниц, которые в прежние времена бушевали здесь? Умными, своевременно принятыми мерами удалось изжить! Гость, слушая сопровождающего его начальника торга, благодушно кивал. Он увидел то, что хотели ему показать и что он сам хотел – и рассчитывал – увидеть.
Слух об этом простом – и поэтому особенно подлом – обмане ударил Борю в самое сердце. Главное – он находился в самом центре ликующей толпы, считаясь как бы вождем победителей, добившихся наконец справедливости! Что скажут они ему через час, каким презрением обдадут! Боб стал отчаянно проталкиваться к выходу – наивные, обманутые счастливцы перли навстречу ему, не давали выбраться. «Ты чего, Боря, ошалел от радости?» – со снисходительностью победителей улыбались они.
Когда Боря – страшный, рваный, на скрипучем костыле (за неделю до того еще угораздило сломать ногу!) – в сопровождении лишь самых верных своих ординарцев домчался к нашему магазину, нехитрая операция по превращению его в дурака уже заканчивалась; толпы озверевших домохозяек врывались в раскордоненный, но еще не разграбленный магазин; «отец» в сопровождении благодарных, довольных, удивительно гладких «покупателей» уже подходил к своему лимузину, а Боря, обманутый, как мальчик, стоял перед магазином, даже в своих собственных глазах стремительно превращаясь в ничтожество, в полный нуль!
Сейчас отъедет лимузин – и жизнь Бори, его значение прервутся навсегда!
Боря с отчаянием поглядывал то на лимузин, то на магазин. Мгновения таяли. Потом вдруг раздался громкий звон – «отец», несмотря на всю свою фантастическую выдержку, не выдержал и обернулся. Огромная стеклянная стена магазина осыпалась зазубренными кусками. Перед ней, обессиленно покачиваясь, стоял Борис, метнувший в стеклянную стену бутылку водки, которая почему-то сама не разбилась и косо лежала теперь на декоративной гальке, насыпанной каким-то экономным дизайнером между стен, одна из которых была разрушена.
Покачав головой, «отец» сказал что-то строгое побелевшему директору торга, сел в свой лимузин и медленно отбыл.
Боб стоял неподвижно и не думал убегать. Шаг был слишком серьезным, чтобы портить его мелкой суетой. И все поняли это. Медленно – куда было спешить – к нему подошли серьезные люди (милиция, все понимая, толпилась в стороне), они коротко и как бы уважительно поговорили с Бобом, и тот, с достоинством согласившись с их аргументами, последовал в их машину.
Стояла тишина. Никто не крикнул, скажем, «прощай, Боб!» – все понимали, что мелкая чувствительность снизит значение момента.
Тишина царила довольно долго – думаю, недели полторы. Потом пошли шепоты, слухи. К сожалению, я не мог безотлучно присутствовать в эпицентре событий, но какие-то основные стадии помню.
Недели через две после события я шел в магазин исключительно за хлебом, ибо живительная влага снова иссякла – но это было уже несущественно, все отлично понимали, что главное уже не в этом. На ступеньках магазина я пригнулся, чтоб завязать все-таки шнурок, который я поленился завязать дома, и вдруг увидел перед своими глазами грязные синеватые ноги двух старух алкоголичек, голос одной из них я сразу узнал, ибо он звучал тут всегда:
– Пойдем счас с тобой пива попьем, и я тебе такое скажу – ты о ш е л о м у н д и ш ь с я!
Заинтригованный как формой их беседы, так и содержанием, я свернул со своего маршрута и последовал за ними. Они быстро, игнорируя огромную очередь, взяли пива («Что же вы, женщин, что ли не пропустите?») и, отойдя чуть в сторонку, сели на покривившиеся ящики. И я, с независимым видом пристроившись неподалеку и навострив ухо, услышал действительно ошеломляющую легенду: Боря-боец не сдался и там боролся, встретился с первым, с главным, и – что самое ошеломляющее – понравился ему, добился справедливости, и теперь через день-другой справедливость должна победить!.. Ведь не сразу же доходит до низов царский указ – чиновники стараются спрятать: мурыжат народ!
Я как зачарованный последовал за этими пифиями, принявшими – видимо, для конспирации – столь жалкий и оборванный вид. В дальнем углу двора, возле ларька Союзпечати, клубилась совсем другая толпа, очередь чистых, презирающих толпу грязных и предпочитающих в эти волнительные дни иное наслаждение: опьянение газетами.
Старухи с презрением шли мимо – на хрена им эти газеты, какая разница, что там пишут? – но вдруг на мгновение задержались и устремили взгляды туда. В чистой очереди в числе первых стояла пышная – пышная сама по себе и пышно одетая – дама, как ни странно, мать Боба, совершенно, в отличие от многих, не ценившая его и даже презиравшая, хоть и вынужденная жить с ним вместе… да, не признают у нас пророка в своем отечестве!
– Ну что, Порфирьевна, что там про Борьку слыхать? – с ехидцей проговорила одна из старух.
Мать оскорбленно откинула голову: эти спившиеся ведьмы специально пытаются ее опозорить в глазах интеллигентных людей, но она не из таких, она себя в обиду не даст, если понадобится, морды разобьет всем тем, кто бросает тень на ее интеллигентность!
– Бандит и есть бандит,– высокомерно ответила она.– Ему дадут, ему хорошо дадут!








