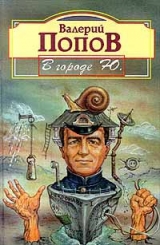
Текст книги "В городе Ю. (Повести и рассказы)"
Автор книги: Валерий Попов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
Ванька-встанька
Ноу-хау
Лучшее время вахты – с ночи на рассвет, потому как в эти часы, чтобы не заснуть, разрешается ловить рыбу. Свесив с борта голову, я смотрю, как на прозрачной глубине тычется в наживку бычок, развевая бурые перья,– абсолютно знакомый, словно приплывший сюда за нами.
Заглядевшись на него, я даже на минуту забываю, что яхта наша стоит на рейде Канн. Вот город, о котором мечтают, наверное, все – в эти часы еще тихий, пустой. Ряды яхт вдоль набережной, знаменитые белые отели, зеленые пальмы.
Я счастливо вздыхаю. И вспоминаю, как это плавание началось.
…Мы выплыли из Ковша, вышли на Галерный фарватер. Будто весь дым из труб уселся на воду, даже Кронштадтский купол, сияющий всегда, растворился.
Мы высадились в форте, разложили снедь на бетонном круге, оставшемся от поворотной платформы пушки.
Высочанский, наш любимый гость, нежно радовался тому, что все – тьфу-тьфу-тьфу – по-человечески. Он бодро вскарабкался на крепость и, оглядывая оттуда простор, всячески вдыхал полной грудью, внушая и нам: вот это жизнь! Вот это красота! Может, хватит вам уродоваться в ваших железных душегубках, пора зажить по-настоящему!
Спустился он вовсе умиротворенный. Ласково выпил…
– Ладно уж! – Он с веселым отчаянием махнул рукой.– Пока не имею права вам говорить, но по старой дружбе: на октябрь утверждена регата, и ваша «Венера» – в реестре!
Он эффектно откинулся, огляделся. Все тихо молчали. Конечно, нам полагалось ошалеть, но только я вяло выкрикнул: «Неужели?» – остальные не реагировали.
– Ладно уж! – окончательно расщедрившись, добавил гость.– От вас, старых пьяниц, не скроешь: регату эту организуют крупнейшие винные фирмы Европы. Как это вам?
Все молчали еще более тупо.
– Только сомневаюсь,– вдруг Гурьич прохрипел,– что нам хоть стакан нальют, если у нас не будет самых свежих военных тайн. Какой смысл?
– Вы плохо думаете о наших партнерах! – воскликнул Высочанский.
Уже укупоренная подводная лодка, стоящая на кильблоках,– не самое лучшее место на свете. Нагнешься к слабо сипящему под ногами шлангу, всосешь чего-то теплого, пахнущего резиной,– и живи!
Но особенно тяжко, если лето и жара, и стоит едкий дым от сварки, а еще лучше – от резки металла, желательно – покрашенного! Стоишь, размазывая грязные слезы, и что-то пытаешься еще понять в едком дыму.
Высочанский, приехавший, чтобы устроить красивое отпевание, был поражен – что тут, напротив, кипит такая жизнь! Работяги, теснясь в гальюне, прожигая искрами собственные штаны, вырезали из железного пола литой унитаз. Зачем? В знак протеста? В подарок гостю? Высочанский плакал вместе со всеми, но явно не понимал, почему.
…Унитаз – вообще один из самых коварных агрегатов на лодке. Чуть задумаешься, недосмотришь за шкалами, не довыровняешь давление – и даст золотой фонтан, и ты выйдешь из места уединения весь, с ног до головы, в говне. И, что греха таить, такие казусы с нашим гостем происходили. Но сейчас назревало что-то другое.
Дышать становилось невозможно, концентрированные слезы буквально прожигали кожу. Высочанский не хотел выглядеть дураком, но и понять что-либо не мог… И тут наши пролетарии поднапряглись и низвергли с грохотом трон, как в семнадцатом, прямо к ногам отскочившего Высочанского. Зазубренный край железа хрипел и сипел, огненные пузыри медленно угасали, синели, слепли, словно глаза повергнутого дракона. Все повернулись и, едко кашляя, потянулись на выход. Никто ничего не объяснял.
И только я, сжалившись над гостем, и предложил эту прогулку, оказавшуюся роковой.
– Вы плохо думаете о наших партнерах! – воскликнул Высочанский. А что ж еще он, посвятивший сближению с Западом всю жизнь, отсидевший сначала в кочегарке, потом за решеткой, мог восклицать?
– Напротив – о них-то я думаю хорошо! – презрительно обрубил Гурьич и ушел на яхту, показывая, что не видит смысла в продолжении всего этого блаженства!
Обратно мы ползли еще медленнее. Лопотал лишь движок – все молчали. Находила тьма.
– Я все-таки хочу сказать!..– проговорил я в глухую темноту.
– Что ты хочешь сказать? – напрягся Кошкин.
– Все! – с отчаянием выкрикнул я.
– Ты не скажешь ничего! – Он выдернул руку из кармана.
Ослепило пламя – и я упал в темноту.
Когда я пришел в себя, вокруг по-прежнему была тьма, из левой половины жилета с бульканьем выходил воздух. Я не стал зажигать лампочку, верещать в свисток, а быстро и тихо погреб в сторону – снова оказываться с Кошкиным мне вовсе не хотелось!
Лишь через некоторое время я оглянулся. На яхте горели те же огни – ходовые. Даже не остановились! Спасибо, друзья!
Я не знал, сколько мне плыть, и на поверхности меня, покуда я плыл, поддерживали огни: я читал их и потому не впал в отчаяние: вот зеленый на невидимой мачте, и тихой стук оттуда – подводные работы. Дальше – два зеленых на мачте, один под другим,– водолазные работы; целый ряд красных вдоль воды – дноуглубительные по краю фарватера. Длинный ряд красных с белыми, высоко – целый невидимый состав судов с нефтью.
Мачта с тремя белыми друг над другом – буксир с длиной троса более 200 метров.
Читая огни, я и доплыл.
Тяжело дыша, я выполз на мокрые блестящие камни недалеко от спасалки.
Оттуда доносился радостный женский визг, видно, в основном, там занимаются спасением души!
Я встал, пошатываясь, подошел. Стянул дырявый прожженный жилет и кинул им на крыльцо, как тяжкий немой укор: может, хоть утром что-то поймут! Я вломился в пыльные кусты, сохраняющие дневную духоту, не разбирая дороги, прорвался через них и вышел к даче.
Темнота! Жена мирно спала, и пес с ней (в смысле наша собака).
Я пошел на террасу, поставил чайник на плитку, обессиленно сел.
Да – Кошкин всегда был сволочью… и однажды в меня уже стрелял. В тот раз, к счастью, неудачно. Не знаю, как ему покажется в этот раз!
Да – Кошкин всегда был наглецом, еще когда я только узнал его, когда мы с ним из параллельных групп оба оказались на подводном Северном флоте, отчасти по горячему нашему желанию, отчасти вопреки ему.
Я долго неподвижно сидел на террасе, тупо надеясь, что, может, хоть по телефону он позвонит, поинтересуется, извинится… Как же!
Стояла абсолютная тишина. Интересно – даже у соседей сегодня не бузят. Обычно каждый вечер у них гульба, огромное стечение родственников, заканчивающееся, как правило, дикой дракой. Все в каких-то сложных родственных отношениях и все называют друг друга Сясей. «Сясь! Ну, скажи! Ну, что ж ты ляжишь?» Странный вопрос! Если он жахнул ему по башке – так что же он хочет? «Сясь! Ну, что ж ты молчишь!» Старший Сяся, владелец дома, иногда строго заходит ко мне: «Когда ж вы, демократы, порядок наведете?» Почему-то ярым демократом меня считает, но для него демократы все, кто когда-либо чему-либо учился. «Как же,– думаю,– с вами наведешь!» Но сейчас и там тишина.
Оказавшись на флоте, Кошкин примерно полгода тупо тянул лейтенантскую лямку, потом вдруг дерзко явился к комбригу, капитану первого ранга Гурьеву, и заявил, что хочет создать духовой оркестр – на том основании, что в институте играл в джазе на трубе.
Гурьич, конечно, прекрасно понял, что молодой офицер явно хочет из грязи в князи: руководить оркестром на северной базе лодок, где развлечений нуль, все равно что быть модным тенором в Неаполе.
– Кру-гом!
Музыки, как считалось тут, и так вполне достаточно: утро, в тумане темнеют туши подводных лодок и разносится – та-та, та-та-та-та! Что еще?
Но Кошкин все-таки добил это дело! Как-то выпросился в Мурманск, где сводный оркестр, собранный, в основном, из штатских, встречал новобранцев, и, радостно надудевшись, исчез. Явившись через три дня, прямо с такси явился к Гурьичу: так, мол, и так, испытываю невыносимые муки совести! Позвольте, чтобы загладить свою вину, создать в нашем соединении духовой оркестр! Ну, если загладить – то как можно отказать?
И с той поры нашу лодку на причале встречал не только традиционный жареный поросенок, но и непременно машина с директором ДОФа (дома отдыха офицеров): куда прикажете отвезти? На какое назначить танцы? Сколько пригласительных вам потребуется? Какие вообще пожелания? И обращались со всем этим не к командиру лодки, а к Кошкину!
Еще одна история его. Однажды: ветер два. Оторвало от якорной «бочки» отжимной трос – и понесло лодку на пирс. Мы с Кошкиным на катере с двумя матросиками – туда. Покувыркались изрядно, вымокли, но закрепили конец, дрейф остановили.
Вызывает Гурьич: что хотите за это?
Естественно, что. На берег.
– Но чтобы в восемь ноль-ноль на вахте!
– Есть!
– Колоссальные бабы, колоссальные бабы! – Кошкин бубнил, пока мы с базы в Североморск добирались.
Колоссальные! Одна еще ничего: нос-кнопка. Зато другая! Просто вылитая молодая ведьма: нос фактически загибается к подбородку – может быть, пролезет тонкий бутерброд, но едва ли. Кошкин с порога говорит:
– Эта – твоя!
Или еще… Мы, как вчерашние студенты, проводники прогресса, пытались поначалу и среди льдов за новое бороться.
Один старшина, списанный по психической линии, модернистом-художником себя объявил. Как же нам в стороне? Надо в политуправление идти, юному дарованию (неполных пятидесяти шести лет) дорогу пробивать! В восемьдесят втором году! На флоте! Где в каюте, как в камере тюремной, и только лишь в ленинской комнате чисто и светло!
– Знаешь,– Кошкин говорит.– Пожалуй, двоим нет смысла собою жертвовать! Давай на спичках.
Вытянул, естественно, я! Кошкин коротал время, купаясь в проруби. Возвращаюсь с набитой харей, Кошкин нежится в ледяной воде, и рядом лежит его спичка: тоже без головки, как и моя!
Наконец-то немножко задремал сидя. Да, никаких радостных сообщений сегодня не светит – пошли спать. Посидел еще немного. Телефон в ночи молчит. Зато комар зазудел, зазудел над ухом, пока я снайперским ударом не оглушил его (или себя).
Развесил мокрую одежду перед террасой, пошел в комнату. Тепло. Тихое сопение жены и пса! Не реагируют!
Но в результате всех этих дел Гурьич не то что Кошкина невзлюбил, наоборот – как брата, приблизил. Однажды понял я, что уже давно они в общей связке химичат: командир соединения и придурок-лейтенант. Хорошо, что и я вовремя к ним присоседился: оказались втроем в военном представительстве в Абу-Даби: вилла, бассейн – это из полярных-то льдов!
Походил по террасе…
Ну что ж – для убиенного я не так уж плохо себя чувствую! Стукнула дверь уборной во дворе: Сяся пошел по-крупному. Тоже проблема. Прежние кадры этой промышленности разбежались – новые не пришли. Некому выкачивать! Полным-полно.
Помню, в прошлый приезд сюда Кошкина с Высочанским Кошкин, слегка выпив, предлагал Высочанскому гениальный проект: использовать изобретенные мною с ним вакуумные балластные цистерны (которые нынче в связи с конверсией никому не нужны) для выкачивания данного содержимого. По прежней глупой нашей задумке они водою должны были заполняться, но кому это нужно? А тут ямы можно очищать – любую яму высосет за один всхлип!
Помню, бешено преследовали Высочанского этой идеей – он на пляж от нас подался, потом в лес, а мы все за ним: раз конверсия пошла – давай наши цистерны на колеса, говнобусы делать!
Еле тогда ноги унес. Потом еще в Москву звонили ему: как с идеей говнобуса? Искренне переживали! Но он же ничего не разведал, а нас винит!
Что-то я тут разбушевался в ночи. Хватит! Глубокий освежающий сон!
Потом, уже перед рассветом, наверное, проплыла вдруг в сознании, словно стайка облаков, гирлянда фамилий: Устенкин, Ойтанепотопитытато, Тымойродной, Куприянов, Ладневич, Голован, Жасний… Откуда? Куда? Даешь мозгу отдохнуть, а он вместо того какой-то непонятной деятельностью занимается…
…Проснулся, резко сел в темноте, отбросив шерстяное одеяло с зарницами. Встал, вышел на террасу и даже зажмурился: освещенная низким солнцем, жена с ведрами на коромысле плывет – ну прямо как лебедушка!
– Ну, просто я залюбовался тобой – надо будет новое коромыслице справить тебе, полированное!
– А не боишься, что я коромыслицем этим – по башке тебя? – Пощупала вещи мои, развешанные на веревке.– Вчера вплавь, что ли, добирался?
Знала бы, насколько права!
Тут телефон зазвонил. Голос смутно знакомый: «Ну, как дела?» Хотел было начать отвечать, что сложно все, неоднозначно, как слышу уже – голос мой: «Нормально все! Отлично!» «Что,– думаю,– он городит? Что отлично-то? А-а-а,– думаю потом,– ему видней!»
Крякнув, облился из ведра, гикнув, выпил чашечку кофе.
После отражением своим в зеркальце залюбовался: в лице кровь борется с молоком, уши чуть оттопырены попутным ветром, в быту – ровен, в выпивке – стремителен. Морально уклончив.
– Ну, все! Подай мне те портки, зеленые. Сказочные. Я понесся.
– Когда будешь-то?
– Видимо, к вечеру…
– Значит – видимо или невидимо, но к вечеру будешь?
– Да!
За дом заскочил. Горячая струя треплет листья, серебряными узорами поднимается пар, просвеченный солнцем.
Все! Рванулся вперед – и тут еще пес на меня набросился, вернувшийся с удачного утреннего рандеву. Прыгал на грудь, из ноздрей его закручивались струйки пара. Насобачился.
– Ну, все, все! Для вас я слишком элегантно одет! Отвалите!
Ласково его отшвырнул. Помчался.
– Э, э! – жена вслед кричит.– Сегодня же выходной! Ты куда?!
– Я знаю, знаю!
К морю бежал по темной наклонной улице, между высокими глухими заборами. Раньше были партийные, теперь не знаю чьи. Вдруг стукнула дверца, вылетела позолоченная струйка пацанов. И снова тьма.
Пляж был еще туманный, жемчужно-серый.
Перепрыгнул бурый, как чайная заварка, ручей. Из спасалки по-прежнему радостный женский визг раздавался. Рано начинают! Или поздно заканчивают? Мой рваный жилет – мой немой упрек – остался на крыльце без движения.
Пошел по валунной гряде в мой катер, сел и, не оборачиваясь, приветственно сжал-разжал кулак. Может, хоть кто-то в щель смотрит за тем, что делается в хозяйстве?
Никакой реакции! Крутанул за веревку мотор, тот, как припадочный, затрясся, зачихал. Потянул ручку газа по зубчикам назад – одновременно реверс плавно вперед. Шестеренки ударились, корпус встряхнуло, поволокло. Медленно набавляешь газ – и по широкой дуге в залив!
Рыбаки, застывшие на резиновых лодках, выразительно поглядывали – слегка их заколебал.
Оставляем по борту Кронштадт с собором, форты. А вот уже и город вылезает из воды. На далекий высокий балкон мужик выскочил, схватил что-то быстро с веревки – и назад. Судя по торопливости – голый.
…А вот это уже ближе к делу! Качается понтон, по жестяному его борту играет золотая, отраженная от воды сеть, и два стройных ныряльщика с аквалангами, красиво выгнувшись, мечут себя в воду спиной вперед… Неужто меня ищут? Зачем? Хотел было тормознуть, крикнуть: да вот он я, но скромность не позволила. Добрые порывы нельзя опошлять.
Да… далеко вчера меня шлепнул этот Кошкин, гад,– моего берега и не видать!
Даже разволновался слегка, чуть поворот не пролетел. Тут надо держать ухо востро: Нева нанесла в устье песка, и слева в двух шагах от тебя стоят рыбаки в воде по чресла, а справа впритирку идет трехэтажный сухогруз!
Дальше – к в глухом коридоре среди огромных, до неба, темных доков. Сворачиваешь – и уже как в надоевшей коммуналке среди привычного ржавого хлама – к плоскому мусорному мысу. Он слегка поднимается к завалившемуся светло-серому забору, и за ним – самое мое любимое место на земле: заросли, лопухи, словно на заднем дворе сумасшедшего дома. Островок свободы за двумя кордонами ВОХРа. Безветренно. Жара. После долгого давления на уши слух раскупоривается и входят треск пересыхающих стеблей, стрекот насекомых (как и все тут вокруг, строго засекреченных). Под старой кривой грушей стоит голая кровать со ржавым матрасом, рядом длинная ванна с дождевой водой. Сколько раз я безмятежно вытягивался на этом матрасе и, накалившись на солнце, скатывался в холодную воду. Удастся ли еще?
Высочанский кинулся ко мне в пустом коридоре.
– Вы?!
Он явно был переполнен впечатлениями…
После выстрела в меня яхта прошла минуты две безо всякого управления, заскребла килем о камни. Тут Кошкин вдруг приставил пистолет к своей груди и выстрелил. Покачнувшись, он упал, ударился головой о бакен и исчез. Гурьич бросил плавучий якорь, включил ревун, стал шарить прожектором, но в разыгравшихся к ночи волнах ничего не было видно. Их с Гурьичем там кидало почти всю ночь!
– Могу я что-то сделать? – спросил Высочанский, когда уже на свету они причалили.
– Исчезните! – рявкнул Гурьич.
Теперь у Высочанского от волнения зуб на зуб не попадал, называется, прокатились!
– Да-а-а! – произнес Высочанский, получив от меня новый удар, на этот раз полностью неожиданный.
Мы стояли с ним в пивной «Трюм», где все дышало морем, особенно пиво.
Я открыл ему тайну унитаза. После того как благодаря блистательному красноречию Высочанского нас перестало финансировать государство, на территории нашей верфи, построенной еще при Петре, пошли чудеса.
Сначала все поросло лопухом и стало тихо, потом вдруг возник отвратительный АОЯПП, полностью соответствующий своему мерзкому звучанию; взяв все, что его интересовало, он якобы лопнул, потом появился какой-то загадочный финско-японский Ексель-Моксель, который тоже взял все лучшее и исчез. И, наконец, появился таинственный заказчик, которому очень нравятся наши лодки, акромя унитазов – это исчадие дьявола они не хотят видеть вообще. В припадке откровенности я признался Высочанскому, что мы уже кормились некоторое время, искореняя унитазы и продавая лодки без них, но то все было старье, с которым расстаться было – одно удовольствие… А тут они потребовали нашу любимую «Акулу» – ее «очищением» мы и занимались вчера!
– Начинаю понимать,– пробормотал Высочанский.– Но я же встречался с официальными представителями этих стран… Мы поселили их в номера с унитазами… и ничего!
– Дипломатическое коварство! – воскликнул я.– На самом деле их религия запрещает прикасаться плотью к общему унитазу. Коварство их не поддается описанию!
– Значит, у них есть деньги? – вздохнул Высочанский.
– А у вас?.. Думаете, нам легко отдавать им в гарем «любимую дочку»? А что делать? Теперь вы, может, понимаете срыв Кошкина?!
– Срыв? – проговорил Высочанский.– Вы, едва не погибший, называете это срывом? По-моему, слишком мягкое слово!
– Всем этим мы обязаны вам, поэтому слово выбирайте вы, какое вам нравится! – любезно сказал я.
Мы умолкли. За открытой дверью тянулась улица Зольная, засыпанная золой, от нее отходило два крытых пролета, еще в прошлом веке названные Малый Сквозняк и Большой Сквозняк, сейчас своему названию не соответствующие: такая неподвижная там стоит жара!
Конечно, Высочанский тоже не виноват – ему еще в ранней молодости больше удавалась борьба, нежели созидание, и каждый выбирает то, что ему удается. И все мы помогали ему. У нас в России уважают борцов. И я всегда уважал. И остальные. Ну, раскидал студент на территории верфи, где практику проходил, листовки, призывающие не праздновать день Великой Октябрьской революции. Ну, раскидал и раскидал. Так нет – сам директор завода лично занялся им, на суде обвинителем выступал! Главное, директор завода, крупный, талантливый кораблестроитель – и на суд пошел, время выкроил, тайно мечтая на один уровень значительности встать: ему, известному человеку,– со студентом-недоучкой, который сразу же выше нашего директора взлетел, заслуженного строителя, члена-корреспондента и т. д. Зачем это было нужно ему? Чтобы со студентом сравняться! Абсурд – только в России возможный! Сколько бы Высочанскому кряхтеть пришлось, чтобы все баллы набрать, как наш Ефименко? А так – бац – и он даже выше! Все революции от этого и проистекают: кому охота шестнадцать классов чиновничьих поочередно проходить, а так – бац – и ты губернатор! Ну, не праздновал бы годовщину Октябрьской – и все. Ан нет!
И главное – должен был Ефименко сообразить: у нас в России он эту борьбу проиграет стопроцентно! Директором, может, и останется (и остался!), но борец с ним все равно выше его взлетит, у нас в России иначе не бывает, так зачем надо было свое высокое плечо ему подставлять?! И вот результат – приезжает закрывать нашу контору, с директорской плеши взлетев!
Вся беда нашей жизни в том, что не хватает в России умных консерваторов. Не модно это. Борцом – моднее. Демократам легче – они вестники будущего, они обещают только «завтра» (а «завтра», как известно, не существует – только «сегодня»). А умному человеку, да еще о своей репутации заботящемуся,– вдруг консерватором стать, говорить, что «сегодня» можно что-то сделать? Зачем? Позорно даже. Ясное дело – кому может нынешняя реальная жизнь понравиться? Фи! Лучше немедленно отмежеваться от нее! В «завтра» звать!
– …Вы когда уезжаете?
– Сегодня на «стреле»!
– Сегодня? Странно! А я почему-то думал – завтра.– Вы думаете… с Кошкиным… самое плохое? – наконец выговорил он.
– Да!
…Больше всего в этой истории мне не понравилось то, что Кошкин, падая, ударился о бакен головой. Случайность – самое опасное, что есть. Именно через случайности и прокрадывается все чуждое тебе, именно через случайности и смерть прокладывает свой путь, презрительно отвергая и как бы даже не замечая пути нашего. Плевать ей на наши сюжеты. Она сама – сюжет!
Наивно думать, что можно использовать ее в своих целях, командовать ею и даже сказать с ее помощью что-то свое! Никогда! Играться – можно, пока ее нет, но, когда она есть, ты – в ее сценарии, как правило, никому не понятном! И все непонятные, неожиданные случайности на самом деле – ее твердая поступь!
Все телефоны Кошкина, включая самые конспиративные, не отвечали. В связи с этим все больше как-то меня настораживало, что Гурьич на яхте до рассвета искал. Если бы думал, что Кошкин выплыл,– поиск только бы изобразил.
Вообще не так давно было дело – Кошкин из-за одной несусветной красавицы стрелял в себя. Работала она в какой-то иностранной конторе… Керолайн! Трудно тут не потерять голову, вот Кошкин и потерял. И однажды, уходя от нее, забыл у нее кейс с тактико-техническими данными! Прибегает через час. Керолайн, нагло покуривая, говорит, что все листы уже по факсу передала куда надо. Кошкин тут же вышел в сквер под ее окнами и застрелился! И надо сказать, что наша «Пиранья» здорово после этого на международном рынке пошла. Из-за ерунды человек стреляться не станет! Потом, к сожалению, «Пиранья» не такая уж мощная оказалась, как написано было в тех бумагах. В каких, впрочем, тех?
Через месяц мы с Керолайн случайно в «Клуб-дипломатик» зашли и буквально обомлели: Кошкин с какими-то мулатками отплясывает! Элементарная операция, называется «Ванька-встанька»,– обычно все четко по плану шло. А сейчас?
Неужели вопреки известной пословице сначала было фарсом, а повторилось – трагедией?
Уж сколько раз доказывали ему: все кончено! Послушно ложится, а через секунду – стоит, покачиваясь: «Забыл – что кончено-то?»
– Не бегите по эскалатору, не задерживайте отправления поезда!
Выскочил на метро «Пионерская». Где-то тут чугунные пионеры стояли. Убрали?
Если кто и мог его по-настоящему погубить – то только ОНА, чугунная пионерка!
Помню период страстной его любви: мы стояли на базе Гаджиево, а она в Североморске библиотекаршей была. Отсюда и не понять вам, как это далеко. Но это и разжигало. Нашему человеку только и подай что-нибудь недоступное. Тут рядом – нормальные были. Так нет: «Иду к ней!» – «Как?» – «Вот так!» Надевает обычный армейский полушубок. «Первый же патруль заберет!» – «Мне сказали – вездеходный!» – Кошкин с гонором говорит… И потом рассказывал, как шел. Полярная ночь. Северное сияние. Вдруг – патруль, озверевший от мороза. «С-стой!» Кошкин протягивает им свое скромное удостоверение. Те даже повеселели от такой наглости: «И все?» Вдруг начальник патруля лезет в карман кошкинского полушубка, выворачивает его – там какой-то черный штемпель. Цифры какие-то, буквы, к тому же размазанные. Начальник патруля вгляделся – и буквально оцепенел. Потом откозырял. «Ради бога, простите!» И так Кошкин и шел. Навстречу новому патрулю прямо заранее выворачивал карман: «Смир-рна!» Потом даже самосвал карманом остановил.
Такой был человек!.. Неужто – «был»? Так. Улица Степана Уткина. Тормози!
Я подошел к дому, поднялся по лестнице, позвонил.
Валя, бывшая первая красавица гарнизона, стояла в дверях.
Помню, как все возвышенно было у них. Может – излишне возвышенно? Дом их поначалу задуман был, как островок свободы, как место без вранья. Страшный эксперимент!
– Свобода приходит нагая! – с упоением Кошкин декламировал.
Д-а-а… «Свобода приходит нагая». Но уходит – одетая!
«Давай поглядим друг другу в глаза!»
Долго с ним пытались это сделать, но не смогли.
После Севера и Абу-Даби мы вместе три года на Ладоге служили, жили в одной деревянной избе, в двух больших, почти без мебели комнатах, топили печь…
Почему-то осталась в памяти картинка: низкое красное солнце светит в большую кухню. Их маленькая дочка, нажимая ручонкой, топит в тазу обрывки газеты. Почему-то любимое ее занятие было тогда. Где теперь та кухня и где дочь?
Странная была тогда жизнь, вроде бы переходная откуда-то куда-то, но теперь вдруг вспоминается как самая счастливая.
Ладога! Пора надежд! В июле – снег. Вьюга помыла окна.
Первая фраза их дочки: «Какое снежное лето!»
А сколько друзей было там! Больше так не было никогда… Друзья-коллеги, агрономы-луководы, колхоз «Легкий путь», великий селекционер Клыхнин: «Я на пороге открытия! Мои ученые бараны (с мешком под хвостом) срут больше, чем жрут!»
Наша секретная база, на которую то и дело забредали ягодники, грибники.
Скромные трибунки в глухом лесу, с которых партийные руководители уговаривали лосей, кабанов и прочную живность сдаться им…
Дело мы имели, в основном, с металлом, но неожиданно из нашей суровой повседневной работы явилась вдруг абсолютно неучтенная белоснежная яхта «Венера» из стеклопластика!
Кошкин на партийном собрании:
– …Как я мог? Как я мог?!
По тайной нашей договоренности с ним я против него общественным обвинителем выступал. Голос общественности всегда для меня был как родной.
– Как ты мог?!
Кошкин:
– Как я мог? Как я мог?!
В конце концов даже наш главный коммунист Сероштан не сдюжил.
– Ладно,– гаркнул,– значит, мог, коли сделал!
В это время уже гуманизм начинался, всяческая перестройка, разрядка. Американские врачи приглашали к себе в центр по излечению от алкоголизма: вся разнарядка почему-то, минуя штатских, к нам была спущена. Сероштан Кошкина вызвал (универсальный кандидат):
– Эт-та… ты за месяц от пьянки сможешь излечиться?
– А за сколько надо?
– Я т-тя спрашиваю: не за скока надо, а за скока можешь?
– За скока нада, за стока и смогу!
Тут даже Сероштан вспылил:
– Есть у тебя вообще что-то святое?
Кошкин резонно ответил:
– Ну, не пьянка же?
– Отвечай – алкоголик аль нет? – Сероштан, потерявший терпение, по-партийному кулаком грохнул.
– Как потребуется! – четко Кошкин отвечал.
В таких вот задушевных беседах годы и шли. Кошкин подрабатывал еще подпаском, на звероферме шкуры сдирал. Однажды в пьяном угаре накинулся на кабана.
Но почему-то не нравилось ему все это, решил боксом оттуда выбиться – провел двести боев, и все неудачно.
– Надо бороться, вырываться отсюда! Ты что?!
– …Да я даже смотреть на тебя устал, не то что бороться!
Помню, как однажды в дикий шторм подвсплыли на лодке: мотало чей-то катер, потерял управление. Двое, старик и молодой, в каюте по колено в воде, деликатно сделали вид, что не удивились нашему появлению, и вежливо попросили у нас медную проволочку – от всего остального отказались, что мы ни предлагали. С того раза интеллигентность я представляю именно так.
Помню, как наконец уплывали оттуда – ночью, на нашей яхте, молчаливо представляя себе, на скольких сразу экранах мы светимся: на ракетных планшетках ПВО, на инфракрасном ночном прицеле танков, в перископах, на экранах охраны дач…
Зачем уехал оттуда? Отлично бы жил, вторую корову уже менял!
Но для Вали, жены Кошкина, там, точно, была лучшая пора – местной суперинтеллигенткой была!
…Желтый теплый свет, отраженный от неподвижной воды, греет кожу. Голоса, долетающие по воде с невидимого берега. Вот оттуда пришли две волны, уютно хлюпнули под мостками: кто-то там, садясь в лодку, качнул ее.
– Ты, наверное, пришел звать его на очередную гулянку? Должна разочаровать тебя: по крайней мере один из вас свое уже отгулял!
Как?! Даже качнуло! И это она спокойно называет – разочаровать? Потом мелькнула дикая надежда: может, она меня имеет в виду, может, это я отгулял?.. Но почему?
Неужели смерть мужа вызывает в ней такое торжество? Вообще есть такие люди! Принципы – важней. Она – такая!
– Считаю, что он достойно ушел из жизни!
Не понимаю – как он раньше-то с нею жил?
– Достойно – это как?
– Действительно… Откуда тебе знать, что такое «достойно»?
Сделала свое дело – могла бы отдохнуть немножко, не оскорблять! За десять минут устал! Представляю – каково ему десять лет! Неужели действительно сломался?
– Сказал, что устал обманывать и уходит из жизни!
– Как?
– Это уже меня не интересует!
Странно! Могла бы помочь…
– Он что – звонил?
– …Да.
Врешь, косая, не возьмешь!
Никогда он ничего заранее не решал: «Откуда я могу знать, какое настроение там появится?» Умно.
– Впрочем, я его похоронила уже давно!
– Как?!
– С тех пор, как он начал лгать!
Ну, тогда можно считать, что он вообще не рождался!
Потом я ехал на трамвае и вспоминал, как мы однажды тут с Кошкиным ехали, смотрели в окно на запорошенные пустыри и говорили друг с другом: «Это Невский, что ли? Ну да – вон же Казанский собор. А вот Исаакиевский…» Пока кто-нибудь из соседей, потеряв терпение, не начинал орать: «Какой Невский! Что вы городите?..» Но то посторонние люди, а то – жена!
Потом на цоколе сидел у метро, возле чугунных пионеров… Чугунная пионерка! «…похоронила… давно!»
Совершенно обессиленный тут сидел… Что такое, ё-мое? Не принять ли мумие?
…Помню, оказались мы с ним в разлуке: я на солнечной Кубе лодки сдавал, он, как более ловкий, в солнечной Монголии. Переписывались. И тут придумал он мыльную марку! Наклеиваешь марку, осторожно намыливаешь, на нее ставят штамп – на том конце связи стираешь штамп вместе с мылом, снова намыливаешь марку, отправляешь.
Может, и жизнь можно намылить – чтоб много раз?
Ну что? На дачу? Сутуло попить чайку, после – глубокий освежающий сон?
Нет!
– Здравствуйте.
– О! Давно у нас не были!
Даже и этих заведений перемены коснулись. Раньше сами красавицы были строго одеты, а теперь даже кассирша-диспетчерша сидит нагишом.
– Друга моего нет?
– Давно уже не было. Раздевайтесь.
– …Попозже зайду.




