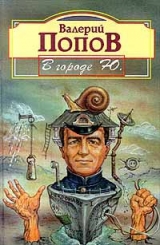
Текст книги "В городе Ю. (Повести и рассказы)"
Автор книги: Валерий Попов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
Он стоял рядом, улыбаясь. Весь вид его, как обычно, говорил о благополучии и довольстве. Мягкая панама, майка, старые брюки, которых не замечаешь, расстегнутые и разношенные сандалии; в веревочной сетке, надетой на руку, бутылка пива, полураздавленные помидоры, покрытый крупинками соли шпиг. Он опустился на корточки, выложил и выставил это все на газету, и мы прекрасно позавтракали на свежем воздухе, бросая мусор в наклонный темно-зеленый желоб с пупырышками для стока дождевой и мытьевой воды.
Мы просидели на палубе до темноты и к темноте уже были в Сочи и тихо остановились.
У трапа, как всегда, образовалась давка. Но я пошел позже, через все семь тускло освещенных этажей, спустился по трапу, чувствуя за спиной прекрасную, масляную, грустную тушу корабля.
В Сочи я бывал не раз, но все как-то не с того конца, и сейчас мне пришлось идти через длинный белый мост с согнутыми под прямым углом бледными фонарями.
Внизу, под мостом, широко была распластана галька, и только в одном месте бултыхался ручеек. За мостом – темная улица под густыми деревьями, и людей тут было полно, и всех била какая-то дрожь, все боялись, что скоро кончится это – теплота, темнота, любовь.
И было удивительно, что я оказался здесь, в таком важном месте, хотя мне полагалось сейчас под мокрым снегом вдавливать себя в автобус. А я стоял тут, на темной улице, и набухал счастьем, и думал с удовольствием, что вот как мне повезло наконец!
Но скоро, поднимаясь вверх по длинным мраморным ступенькам среди сладко пахнущих деревьев, я почувствовал, что дошел до предела, что больше не могу и сейчас все сломается, пропадет. Такой уж у нас инструмент – только чтобы не долго, только чтобы не сильно. Так мне тут стало грустно! Оставалось только напиться, что я и сделал – густым вином «Изабелла», которое продавали тут всюду, не видя друг друга, денег и стаканов, в полной южной темноте.
Проснулся я в саду, на скамейке, прямо под пятнистым деревом с нестерпимо красными цветами, и песок, который частично был и на мне, ровно покрывал весь сад, и еще росли такие же деревья, и даже чаще и выше. Хорош я был среди этой красоты со своим кислым похмельем! Я слез к морю по голубому, высохшему, осыпающемуся обрыву. На пляже было пустынно, плоско лежали топчаны. Только под навесом уже сидели двое, обмазанные синей размоченной глиной с обрыва. Море было тихое и кончалось на берегу совсем тонким-тонким слоем.
Тут я закричал что-то вроде «эх!» или «ах!» и, расшвыривая одежду, плюхнулся в воду и поплыл, переворачиваясь, шлепая по воде лицом и немного глотая ее, такую прозрачную и холодную. Я плавал сколько мог, и пляж заполняли люди, а потом я лежал в прибое, и меня било и поднимало, и тянуло назад, и опять поднимало выше, чем я сам мог бы подняться.
Я вытерся рубашкой до покраснения и полежал на топчане, чувствуя, как сняло с меня это купание всю усталость, всю тяжесть, всякий лишний опыт.
Теперь можно было догонять мой фрегат, барк, корвет. Во всяком случае, я оказался в электричке, и она сразу же ушла в тоннель, и стало темно, и в вагонах зажегся свет. Потом она выскочила на узкую террасу, вверху обрыв – морщинистые камни, и внизу обрыв, осыпается, и она лихо прокатила между ними, словно у нее кроме колесиков снизу появились еще колесики сбоку. И снова тоннель.
За тоннелем горы стали разглаживаться, а море – уходить, и электричка катила по ровному месту: рельсы, рельсы, посыпанный пылью асфальт.
Адлер. От Адлера снова стали набираться горы, сначала вдали, на горизонте, понемножку. В вагоне стоял громкий разговор, почти крик, хоть и по-русски, но с необычным нажимом, напором к концу фразы. Грузины. Их становилось все больше. Черные блестящие глаза, широкие плоские кепки. Электричка переехала через мутную речку Псоу, границу России и Грузии, и гул в вагоне тут же сменился, все перешли с русского на грузинский. Я не раз переезжал эту реку в ту и другую сторону и каждый раз замечал этот эффект: туда – с русского на грузинский, обратно – с грузинского на русский на половине фразы, на половине слова, на половине звука.
В электричке появились двое загорелых небритых нищих. Они трясли порванной соломенной шляпой, при этом на них временами нападал сильный смех, и они хохотали, прислонившись друг к другу спинами, а потом двигались дальше, насупившись, сдерживаясь, и вдруг снова прыскали и, приоткрыв рты с пленками слюны, снова весело хохотали, что довольно-таки странно для нищих.
Никто, однако, не удивлялся, и многие давали им деньги. Становилось между тем жарко, солнце через стекла нагрело электричку.
«Надо выйти»,– подумал я.
Тем временем электричка остановилась, как раз между двух тоннелей, хвост только что вылез, а нос уже увяз в следующем. Гагры. Выйти и смотреть, как поднимается вверх земной шар, покрытый густым лесом, и уходит в пар, в неясность.
За резными деревянными домами стоял белый заборчик, и за ним – медицинский пляж. Я уплыл от него далеко и там развернулся, увидел над берегом запутанную зеленую стену и в ней высоко – большой деревянный циферблат.
Я направился к нему по хрустящей теннисной площадке, по широкой спокойной лестнице. Возле циферблата была дверца, вроде как для кукушки, а за ней путаница витых лестничек, обвивающих друг друга и ведущих в огромный сумрачный зал ресторана «Гагрипш». Там я чуть не свалился от всех этих запахов мяса, перца, вина и дыма.
Я тут же сел за столик и для начала попросил принести хаши. Съев это хаши, я тут же заказал суп пити, и его тут же вывернули из потного горшочка – баранина, мясной сок, горошек, лук, перец.
Еще мне поставили вымытую и вытертую бутылку коньяка с размокшей и сползшей этикеткой.
Тут я решил вымыть руки, но так и не нашел, где бы это, и, вернувшись, увидел за моим столом трех грузин, евших мой суп и разливающих по рюмкам коньяк.
– Можно? – спросил я, подходя и берясь за спинку стула.
– Конечно,– закричали они наперебой,– конечно, можно! Садись! Выпьешь с нами? – предложили они.
– Пожалуй! – сказал я с иронией, совершенно ими не замеченной.– Между прочим, это мой коньяк,– добавил я, потеряв всякую надежду уколоть их намеками.
– О! – закричали они.– Прости!
И появились на столе еще три такие же бутылки, тяжелая бутыль шампанского и целый хоровод супов, от пара которых у нас запотели ручные часы.
Между тем набирался народ, и оркестр в нише начал играть – сначала, часа два, тихо, а потом все острей и азартней, и все повскакали с мест, и началась общая пляска, с бегом на носках по залу, с быстрым выставлением рук в одну линию вдоль плеч, хрипами и свистами, глухими хлопками в такт. И все было прекрасно, и только в конце вечера один молодой, по-старинному красивый грузин, которого я толкнул, пообещал меня зарезать, и хоть я, наверное, заслужил это, мне все-таки не было страшно – я знал, что уж если он сказал это, произнес, значит, ничего такого не будет. Как говорится – если услышал выстрел, значит, эта пуля тебя уже не убьет.
И действительно, когда утром я встретил его на пляже, он помахал мне рукой, засмеялся и прокричал:
– Прости, дорогой, никак! Я с этим делом уже десятерым задолжал.
И я его, конечно, простил. После этого он поехал на лодке и на виду всего пляжа устроил драку веслами с ребятами из соседней лодки, и его лодка перевернулась, и утонула его зеленая нейлоновая рубашка, и сами они все изрядно нахлебались, и побывали под лодкой и на дне, и, когда вышли, вдруг обнялись и пошли под душ. И я понял, что такой случай, который у нас бы расценился как нечто ужасное, повод для долгих мучений и обид, для них так, развлечение на пляже.
И еще – старый седой грузин, который стоял в столовой на выдаче вторых и на каждый звон падающей тарелки кричал:
– Так ее! Бей! Круши!
И на жалобы о малом весе порций мяса вдруг начинал метать на тарелку жалобщика кусок за куском с криком:
– На, поешь вволю, поешь на здоровье, не жалко!
– Послушайте,– спросил я,– чего вы такой веселый? Получаете много?
– Да,– сказал он,– девяносто рублей. Да еще за бой посуды вычитают. Так что прилично.
– Но зато у вас сад, наверное, лавровый лист?
– Лавр – хорошее дерево. Только нет у меня, замерзло.
Он засмеялся и ушел, еще раз утвердив меня в мысли, что на одни и те же деньги можно жить и богато и бедно. И что живут они, и никаких исключительных причин для радости у них нет, и веселы они так от тех же самых причин, от которых мы так грустны.
Потом я оказался совсем уже в пекле, и электричка, немного проехав по этой жаре, вдруг остановилась в нерешительности, словно спрашивая: «Что, неужели дальше?»
Потом дергалась, немножко ехала и снова вопросительно останавливалась. В вагоне все разомлели, блаженствовали.
Появились два контролера в расстегнутых кителях, по телу их стекал пот, холодные щипцы они прижимали к щекам. В вагон они не вошли, сели на резные ступеньки и тихо плыли над самой землей.
Вот простая облупленная будочка, на ней табличка с веселыми червячками – названием по-грузински. Сверху спускается деревянный желоб, по нему стекает мыльная вода, и под ней растут из земли большие полированные листья банана. Дальше поднимаются горы, уходят в облака, и уже там, где, по всем статьям, должно быть небо, вдруг открывается лиловая или фиолетовая плоскость, и на ней еще что-то происходит. Но жара – я вам скажу! Из крана хлещет вода, я подбегаю, и холодная вода течет по мне, я уезжаю, но она впиталась в рубашку, трясется капельками на волосах.
Южнее, южнее!
В Сухуми по улице шла высохшая старушка, вся обернутая в черную марлю, и старик, тоже весь в черном, в задранной кверху кепке. На груди у них круглые фотографии с изображением умерших родных. Они идут быстро, их лица и тела сухи, в них нет ничего лишнего.
Я купил в магазине, обвешанном липучкой, длинный, как палка, белый пресный батон и, грызя его, поехал дальше.
В Батуми тучи лежали прямо в городе, было пасмурно, тепло и влажно. Выше деревьев и домов стоял мой корабль, починенный, излеченный мной. Вода, наполнившая бухту, была светло-зеленая, прозрачная, и словно получалось так, что свет шел из нее. Я сидел в деревянном, полузатонувшем в этой воде ресторане и пил дешевое сухое вино, а вокруг кричали что-то непонятное аджарцы, они были светлее и добродушнее абхазцев. Потом они встали и под руководством метрдотеля, рыжего краснолицего человека, стали раскачивать ресторан, шлепая им об воду.
Насколько их легкомыслие серьезнее нашего глубокомыслия! Как много мелкого, занудного слетает с нас в этой стране!
По набережной ехал старик на ржавом велосипеде, толкая ногу рукой.
У берега пыльная машина уткнулась носом в портик, прекраснее которого я не видал.
Над ним висела вывеска: «Смешанные товары». Кто же, интересно, их смешал?
В порт по широкой дуге входил маленький катер «Бесстрашный». Ну ладно, бесстрашный. А чего, собственно, бояться?
Не спать, не спать
Хорошо, свесившись с верхней полки, вдруг увидеть, что за ночь оказался совсем в другом месте. Серые каменные круглые башни, редкая роща, за ней, фырча, отходит автобус. Под окном с непонятным разговором идут двое, в цветных кепочках с козырьками, одетые масляно, плохо, для работы, но не по-нашему плохо, по-своему. И так свежо вокруг, просторно, самое раннее утро…
Вот не забыть бы это, вспомнить перед смертью – уже и полегче…
Весь последовавший за этим день я провел в делах, в безуспешных хлопотах в разных душных помещениях и вечером приехал на автобусе в центр погулять, подышать. Вечер был теплый, солнечный. Огромная ровная площадь, большие серые шершавые плиты, иногда между ними трава, а в самом конце собор – высочайший, готический.
Солнце садится, холодновато. Надо погреться. Знаменитые кафе. Тесно, тестом пахнет, и эти крохотные чашечки, подносимые к губам… Немножко уже не то, немножко надоело.
Поднимаюсь по лестнице темного дерева. Стены – сосновая кора. Хвойный запах. Деревянный стол. Приносят в высоком бокале густую, зеленую, тягучую жидкость – ликер. Быстро расставляют уйму фарфоровых чашечек, цветных рюмок. И так я сижу. Неплохо…
Хочется спать, зевается. Автобус ныряет, приседает. Моя остановка. Вроде бы. В темноте все другое. Рядом море – тут, за заборами, его слышно. Оттуда несет песок, со свистом. Темно…
Минут сорок проблуждал на ветру. Калитки своей не нашел. Песку нажрался. Надо в город ехать, там хоть потише.
В такси тепло. Покачивает. Тихая музыка. Шофер молчит, но хорошо молчит, не напряженно. Вдруг встрепенулся.
– О! – говорит.– Смотри!
Я уже задремал в тепле, но тут очнулся.
– Что?
– Вон, гляди, машина. Водитель то ли косой, то ли еще что.
И действительно, впереди почти в полной темноте я разглядел легкую белую машину, она шла крутыми зигзагами, от одного края к другому, но очень быстро, все больше удаляясь. Шофер дал ходу, и мы стали нагонять, но тут она не вывернула с одного из своих виражей, с треском въехала в кусты, подпрыгнула на мягких кочках и врезалась левым крылом в пень, который оказался трухлявым, гнилым и от удара тихо взорвался. Машина, приподнявшись, повисла поперек бревна, и задние ее колеса вращались над канавой. Мы подбежали. Ее странный водитель мирно спал, похрапывая, как видно, уже давно. Все цело. Повезло.
Таксер что-то там повернул, и мотор затих.
– Пусть поспит до утра…
Он достал пачку, закурил. Шоссе поблескивало среди леса. Было очень тихо и странно. Потом он бросил окурок, и мы поехали…
Скоро мы въезжали в гулкий цементный гараж.
– Посиди пока там! – крикнул мне шофер и скрылся.
Я сидел в сторожке или конторке на деревянном топчане среди замасленной ветоши и опять пригрелся и засыпал, засыпал. Меня разбудил мой знакомый шофер. Он уже умылся, переоделся.
– Сейчас пойдет развозка. Развозка, понимаешь? Надо ехать.
Мы вышли во двор, там, ярко изнутри освещенный, стоял полустеклянный микроавтобус.
– Может, ко мне поедешь? – пробормотал мой шофер.
Я посмотрел на него и понял, какого труда ему стоили эти слова. Я не знал его обстоятельств, как там у него что, но я все понял по тому, как он сказал,– что это действительно очень сложно, почти совсем невозможно для его обычной, повседневной, с таким трудом налаженной жизни, если он опять среди ночи приведет на ночлег какого-то дружка… И вот он посопел, помучился, но все-таки предложил.
– Да нет,– сказал я,– у меня поезд в три часа…
– А-а-а,– сказал он с облегчением,– ну, ладно…
Я шел по мокрой, пустой, темной улице. Ничем не связанный, наобум… Стало даже интересно. Хотя, конечно, полагалось безумно расстроиться. Так уж принято: негде ночевать – расстройство. Кто же это так за меня решил? Я, наверно, и чувствовал бы себя лучше, если бы заранее не знал, с детства бы не усвоил: остаться без ночлега в чужом городе – неприятность. Я, может, распрекрасно бы себя чувствовал. Так прохладно, чисто, спать совсем расхотелось, и голова такая ясная, какая днем, в толкучку, и не бывает…
Так я вышел к реке. Ветхая деревянная пристань, и фонарь ржавый скрипит. Лег я на скамейку, попробовал заснуть. На спине – голова кружится, на животе – колени мешают… И чуть закроешь глаза – сразу начинают светлые кольца падать. Падают, падают… Много. Двадцать семь лет уже падают… Слегка задремал и вдруг такой страх почувствовал, просто какой-то толчок страха. Вскочил, уселся. Кругом темно, рядом река… Ну его, надо идти. Пошел и вообще непонятно куда забрался: кругом корабли старые, проржавевшие или сверху, прямо с неба, всякие веревки спускаются, с запахом. И где тут выход – непонятно, кругом каналы с мазутной водой, островки, не природные, а технические.
И тут, когда я вроде освоился, воспринял все это, переварил, тут-то я и оступился. Стою по пояс, вода керосином пахнет. Темно. Ночь. И тут еще одна конструкция, примерно так с лошадь, тоже в воду сыграла, рядом бухнулась, всего окатила.
Ну, теперь единственное – это плавать начать, нырять, отфыркиваться с наслаждением. Или прямо по воде побежать для согрева… Вот в двери толкнуться в кирпичной стене. Но нет, все заперты, это технические двери. Вот одна подалась, деревянная, мокрая, мягкая, шелковистая.
Большое помещение: тусклое, выдолбленные деревянные корыта над полом, и над ними краны медные, и из них капли свешиваются. Один кран отвернул, из него пар пошел, туго, с шипением, все сразу заполнил, а потом уж и вода – тонкой перекрученной струйкой. И такой кипяток – сразу видно: где-то там, в каком-то нечеловеческом месте используется, а здесь уж так, что осталось, дело десятое.
Влажно стало, а мне-то плевать. Я и так насквозь мокрый. Одежду в корыто бросил, кипятки толстые пустил, а сам на асфальтовом полу – очень приятно он босой ногой чувствуется – такой танец в пару устроил, развеселился, распелся.
И тут спокойно так входит человек, тоже раздетый.
– Ты,– говорит,– с какой смены? Потри мне между лопаток, никак не дотянусь, второй час мучаюсь.
Повел меня в другой зал, там скамейка, тазы. Он нагнулся, руками в скамейку уперся, напружинился. Видно, приготовился к сильному нажиму. И стоит так. А вокруг тихо совсем, пусто. Только капли где-то щелкают…
Он обернулся и через плечо, не разгибаясь:
– Так ты чего?
– А-а-а,– говорю,– да-да. Сейчас.
Стал тереть часто, крепко, сначала вдоль, потом поперек, на бока мыльной пеной залез, на шею.
– Молодец! – кричит он глухо, из-под себя.– Теперь смывай!
Я в тазу мочалку подержал, потом понес и вдруг руку опустил, стою. Потолок высокий, сводчатый. А под ним стекла цветные, только все выбиты. А стен не видно…
Тут он оборачивается, прямо оскалился.
– Да ты что? Издеваешься? Сказал, смываем, а сам?
Я очнулся, смыл с него мыло. Он распрямился с трудом.
– Спасибо.
– Ну…
Мы вытерлись полотенцем с черной печатью. Прошли стеклянную дверь, потом узкий коридор – коричневый линолеум, а по стенам на деревянных щитах разные инструкции.
– Понимаешь,– заговорил он,– устал сегодня сильно, две вахты отстоял. И потом спать лег, а никак не уснуть, так во мне эта усталость и стоит. Дай, думаю, хоть помоюсь. Пошел, прямо как спал, без всего. Лень было одеваться, так устал… Не дай бог теперь дежурного встретить. Подожди… Зайдем-ка.
Большая кухня. Кафельный пол, холодный. Посередине, на плите, кастрюли, и рядом кирпич, весь грязный, а один край стертый, розовый, свежий. И кастрюли все вычищены, исцарапаны. Тут же кружки дюралевые стоят, серые, большие.
– А,– говорит,– вспомнил, пойдем.
Вошли в маленькую комнатушку вроде буфета. Кефир в проволочных ящиках. А под столом две кастрюли. Вытащили их на середину, по кафелю, с писком. Сняли крышку. Там по дну, по стенкам и между собой слиплись макароны холодные, с мясом. Стали их есть.
– Подожди, надо запить.
А во второй кастрюле компот, остатки.
– Сейчас,– говорит,– со дна. На дне самый изюм.
Стал кружкой водить по дну, а там, в основном, песок, скрип.
Попили компоту. Ничего так, мылом пахнет.
Потом я надел свою скрученную, засохшую одежду, и он меня вывел.
Оказался я в морвокзале. Пустынно. Ходит человек с чемоданом. Хорошо бы разговор завязать, но что значит – разговор? Надо еще суметь подняться над существующей системой слов, где все настолько согласовано между частями, пригнано, что ничего уже не значит.
– Вы слышали…
– Что вы говорите…
Все уже готово. И вроде бы свои чувства выражаем, собственные, а на самом деле готовые заранее и нами уже только взятые…
Я поднялся со скамейки и чувствую – опять меня не туда несет, в такое место, где никого и днем-то не бывает. Дорога между двух стен, вверх, по битому кирпичу, а потом вообще стала загибаться спиралью, и сверху крыша появилась. Полная темнота, изредка только круглые оконца, бледный свет. И запах такой, смутно знакомый: грязной, подпорченной старины,– не очень приятный запах, но важный, многое я по нему вспомнил. Как в Пушкине после войны – много всяких храмов, церквей, старинных домов разрушенных, именно с таким запахом гнили, сырости и кое-чего похуже, прикрытого лопушком, хруст стекол, темнота. И так я живо все вспомнил – того мальчика нервного, с неискренней улыбкой, в коротких штанишках на лямочках… До сих пор я те лямочки чувствую. И вот уже – боже мой! – тело большое, везде не достать, щетина шею колет, зубов половины нет, можно влажным языком острые обломки ощупать,– неужели это я, тяжелый, неужели уже столько жизни прошло?!
Впервые так – пронзительно, свежо, страшно…
Побежал вверх, хрустя. А что под ногами – все там было: и кровати ржавые (по звуку), и картошка (на ощупь), потом в паутину влетел, маленький паучок по лицу побежал… Но ни разу не хотелось обратно, наоборот, с упоением лез. Я и раньше, когда у меня стопорилось все, застывало, по ночам на крышу вылезал, смотрел, железом гремел, ходил. Чтобы подальше отойти от той видимости законченности, полной определенности всего, что и принята нами наспех, для краткости, а вместо этого многим чуть ли не законом представляется, после которого ничего другого и нет. Конечно, иногда и как бы законченность нужна, и как бы определенность, но это же только так, на время, чтобы передохнуть…
И тут я поскользнулся и поехал по скользким обросшим ступенькам вниз – а стены тоже скользкие, влажные, не ухватиться. И только у края сумел в стены упереться, удержался на самом краю. Встал, выглянул туда. Там светло после всей темноты, и внизу – далеко, метров шесть – вода, ровная, спокойная. И с четырех сторон стены вверх уходят. И там небо, высоко, два облачка луной освещено. А в воде, прямо подо мной, дверь деревянная плавает, размокшая. И захотелось мне туда прыгнуть. Вообще, как я сейчас вдруг осознал, мне давно такого хотелось, но все случая не открывалось. Но страшно. Метров шесть лететь, и не в бассейне Вооруженных Сил, а в незнакомом помещении, гулком…
Но ясно: если сейчас не прыгну – значит, все, определилась моя жизнь, закончилась, теперь только по прежним, разученным кругам пойдет.
В этот момент упало что-то в воду, гулкое эхо, и волна пришла, подо мной шлепнула. Тут я крикнул, от скользкой стены оттолкнулся – как от нее можно оттолкнуться – и вниз полетел,– шесть метров счастья, волосы со лба ветром подняло…
Конечно, на доски прямо я не встал, но сел, и они утонули немножко подо мной, а потом медленно всплыли. И во все стороны волны пошли, о стены – хлюп-хлюп, хлюп-хлюп…
Я встал осторожно, ноги выпрямил, плот мой переворачиваться стал, я побегал по нему, побегал и нашел точку, остановился… Оттолкнулся я от стены, голову поднял, наверх посмотрел, откуда я появился,– высоко, темнеет провал. Странно, наверно, я там выглядел…
Тут, невдалеке, я себе посошок присмотрел – плавал, а за ним, между ним и стеной, пыльная сморщенная пленка образовалась. Достал я его, сполоснул.
Потом опускаю, опускаю. Сейчас упаду… Вот уперся. Дно твердое, каменное. Толкнулся. Нацелился в коридор, что уходил среди гладких стен и там, в темноте, сворачивал… Попал. Только слегка об угол стукнуло, развернуло. И по этому коридору поплыл. Посошок в воду, толкаешься, скользишь. Иногда о стену стукнешься деревом, потом оттолкнешься ладонью – и к другой. И все был этот коридор, только однажды выплыл в зал, круглый, и там совсем уже светло было: видно, в городе светало…
И так я плыл, коридоры сходятся, расходятся, сплетаются, водой о стены шлепают. И вот плыву я так по коридору, наверно, пятому, и вдруг вижу в стене окошко, маленькая рама, стекла пыльные, и вдруг там рожа показалась: видно, хозяин ее зевнуть собирался и, увидев меня, обомлел. Да и я тоже. А он повернулся в глубь комнаты, поговорил чего-то своим небритым лицом и исчез.
А я дальше поплыл. Следующее окно не застеклено, на каменной толще закругленной стоит тонкий стакан с водой, зубной порошок открыт, пленка пергаментная прорвана, и щетка изогнутая лежит. Остановился. Почистил зубы. Словно впервые это блаженство осознал. Белое облако за собой в воде оставил.
А стена стеклянная началась, из толстого непрозрачного стекла, и вся дрожит, гудит. А другая стена исчезла – простор, насколько видно. Островки, на них какие-то машины, домики с трубами, дым слегка. Паром ходит, и на всех островках люди стоят, руки вытянув, просят перевезти. И на всем от воды отсвет дрожит.
Это у нас тоже есть один комбинат, все цеха на островах, и переходить по длинным мосткам, хлюпающим. И вот сидит бухгалтер, и уже не так прост, как есть на самом деле, потому что за окном осока белесая мокнет и водная рябь уходит далеко под серым небом… Целый день я там ходил над водой, осенней, темной, а потом вернулся к себе в учреждение с какой-то кожей очень свежей, замерзшей, сел в столовой на стул, грудью к спинке, и заговорил, и неожиданно целую толпу собрал, смеющуюся. Сырое свежее облако любви…
И сейчас тоже. Хорошо. Выплыл я на такой квадрат: по краям стучат, железо пилят, и уже солнце пригревает, пар от воды, а я сижу на своей плавучей двери в середине воды, греюсь. А те, что стучат, надпиливают, в ватниках, беретах, тоже с удовольствием чувствуют, как ватник нагрело. Поглядывают на меня с удивлением, но спросить, окликнуть никто не решается.
Тогда я лег, вытянулся и проспал часов до двенадцати.
Потом совсем припекло, я проснулся оттого, что стало горячо. Плот мой к берегу прибило. И все ватники сняли, сидят у воды, молоко пьют с белыми булками, разламывают. И вообще это тот самый завод, на котором я вчера весь день провел… Вон и наш механизм осторожно на тележке к воде спускают, как положено. Только так на нем все болты стянуты – пьезопластины изогнулись, сейчас лопнут.
Соскочил я на берег и на бригадира накричал. Он даже булку выронил: приплывают всякие типы на дверях, спят до полудня, а потом вдруг начинают орать, и главное, что все верно! От удивления он даже сделал, что я ему велел. Но еще долго на меня оглядывался, головой тряс.
Потом я видел, как он в курилке обо мне рассказывал, жестикулировал, голосу подражал, и все слушали, щурились от дыма, пепел стряхивали. Потом он так разошелся, что и мне это рассказал, когда мы с ним на щепках сидели, спиной к лодке прислонившись, и сахарный песок из пакета сыпали в чашки с розовой ряженкой.
– Представляешь…– Он перестал сыпать.– Утро, туман, солнце, и вдруг появляется оттуда, где никого быть не может, фигура, молча, плавно по воде скользит, гладкой-гладкой, которой никто еще в этот день не трогал… А когда ты посередине спать улегся и похрапывал – тут уж никто глаз не мог отвести. А потом ты ворочаться стал, тянуться, ну, тут вообще все сбежались: ты повернешься, плот накренится, и все шестьдесят человек – ах! Но не зря полежал, лицо горячее, такой у тебя сейчас предзагар…
Он покрутил свою чашку и выпил ряженку. Наши вытянутые ноги доставали до воды. Хрустнув, мы встали. Глухая площадь, окруженная деревянными домами с непривычной пропорцией стен и окон, небо не в той раме, что я привык.
В одном из домов зазвонил телефон, и кто-то позвал меня. Никого там уже не было, и трубка лежала, растянув закрученный пружиной шнур, и отражалась в столе, и говорила голосом Сани, моего помощника.
– Алло,– закричал я,– алло!
– Алло,– сказал Санин голос совсем рядом.
Мы помолчали, подышали.
– Ну, как делишки?
– Да пока неясно. Не совсем пока проходит наша штука.
– Да ведь все верно.
– Но, понимаешь, пока все так запутано. Люди-то все разные, каждый по-своему…
– Значит, считай, не прошло,– сказал он.
– Ну, если все так останется, как есть. Если приемщики приедут такие, из белого мрамора, и все одинаковые.
– То есть, думаешь, пройдет?
– Ну…
Я вышел, присел на скамейку. Только тут я почувствовал бессонную ночь. Голова разболелась. Зевота…
Потом отвлечешься работой, и когда снова поднимешь глаза – снова их нет, исчезли.
Ветра все не было, и вдруг подул – еле успеваешь прихлопнуть вздувшиеся вдруг на столе листочки.








