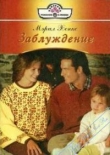Текст книги "Лгунья"
Автор книги: Валери Виндзор
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– И кредитные карточки.
Она захлопнула дверцу и завела машину.
– Влезай, – сказала она. Из‑под колес полетел гравий.
– Ты в состоянии вести машину? – спросила я.
– А что ж, нет, что ли? – Она включила фары. Деревья впереди с любопытством склонялись над
дорогой. Стало свежо. Бледные ночные бабочки летели на свет и разбивались о ветровое стекло. Мне вдруг стало нестерпимо грустно. Я опустила стекло со своей стороны и швырнула узел с несвежей одеждой в придорожные кусты.
– Вообще‑то, – сказала Крис, – меня немного мутит. – Она сидела неестественно прямо, вцепившись в руль и напряженно вглядываясь в дорогу, как будто ничего перед собой не видела. – Чертовы деревья.
Следить в темноте одновременно за картой и дорожными знаками оказалось трудно. Я то и дело теряла дорогу.
– Налево или направо? – спросила Крис.
– Не знаю, – сказала я. – Или туда, или сюда.
Она рассмеялась. Тони это никогда не смешило.
Мы свернули налево, и дорога быстро превратилась в тропу, изрытую колеями, а потом и вовсе затерялась в поле. Развернуться не было ни малейшей возможности. Крис попробовала дать задний ход, но ничего путного из этого не вышло.
– Вот черт, – сказала она.
Она ехала по тропе слишком быстро. Машина подпрыгивала на кочках и рытвинах. Я со всех сил уперлась руками в приборную доску.
– Ты слишком быстро едешь, – сказала я ей.
– Не нравится – вылезай, – ответила она.
Машина накренилась, наткнувшись на насыпь. Раздался стук, за ним последовал жуткий скрип: машина боком ударилась о каменную стену.
– Вот дьявол, – сказала Крис. – Ну, теперь‑то что?
Она заглушила мотор и пошла проверять повреждения, нежно, словно ушибленное место, трогая поцарапанный металл. Бок машины украшали длинные белые царапины.
– Я поведу, – сказала я.
– Ага, значит, это мы раньше делали, – сварливо сказала Крис и без сил облокотилась на капот. – Я просто жутко устала, вот в чем беда.
Беда была в том, что она слишком много выпила, но я смолчала. Я и сама выпила не меньше, но от холодного воздуха в голове у меня прояснилось, а утрата сумочки сделала меня легкой, почти бестелесной. Я была одета во все черное, у меня не было ровным счетом никакого имущества, никаких обязательств. Я была частью окружающей темноты. – Разреши мне сесть за руль, – попросила я. Я никогда не водила машину с левым рулем, и ощущение было довольно странное. Приходилось задумываться над каждым движением. Крайне осторожно доехала я до конца тропы и повернула налево. Сконцентрировала внимание на дороге, лежащей впереди, вернее, на том небольшом куске дороги, который я могла видеть, не крутя головой, и, наверное, напоминала цыпленка, неотрывно глядящего на проведенную мелом черту.
– Нужно где‑нибудь свернуть, – сказала я Крис. – Если продолжать ехать в эту сторону, то мы снова окажемся на шоссе N20.
Но Крис спала, свесив голову на грудь. Очень хорошо помню, что подумала: надо же, как смешно – мы обе не в состоянии вести машину, а я к тому же не представляю, куда еду. Помню, я решила: остановлю машину, как только попадется подходящее место, где мы сможем до утра поспать. Но почти сразу я увидела знак «Остановка через 50 метров», и впереди возникло то самое шоссе N20 с огромным указателем: в одну сторону Лимож, в другую – Тулуза, и я свернула к Тулузе. Дорога была прямой и широкой, к левому рулю я уже привыкла, и вся моя нервозность улетучилась. Стрелка на спидометре все сильнее отклонялась вправо. Я понятия не имела, с какой скоростью еду, потому что здесь отсчет шел в км/ч, но чувствовала, что быстро, и в этом была своя свобода и безопасность. Я обгоняла машины, обгоняла фургоны, обгоняла грузовики. Я громко смеялась при мысли, что, возможно, девушка, укравшая мою сумочку, сидит сейчас в кабине одного из этих грузовиков и клянет меня на чем свет стоит, потому что она стала богаче на каких‑то сто жалких франков и грязную косметичку. Я огибала нефтевоз и все еще посмеивалась, когда раздался ужасающий грохот, как будто вселенная взорвалась, и затем машина заскользила по асфальту, как по льду, вышла из повиновения, и ее понесло. Боже мой, бесстрастно и не к месту подумала я. Все произошло так быстро, что у меня просто не хватило времени подумать о другом. Но самый последний миг, когда меня ослепили фары встречного грузовика, длился, казалось, годы. Десятилетия. Если вы интересуетесь такими вещами, то знайте: это не было похоже на жизнь, промелькнувшую перед глазами, «промелькнувшая» – здесь совершенно неподходящее слово. На самом деле все происходило очень медленно. Но не как в кино, когда тебе в замедленной съемке показывают разлетающиеся осколки стекла, покореженный металл и фрагменты человеческих тел. Совсем не похоже. Последний миг был таким долгим, что мне хватило времени подумать о Тони и о том, как полицейский будет говорить ему, что я умерла, и о том, как до смешного жаль умирать после такого славного ужина. Я даже успела немного посмеяться над своими абсурдными дневными метафизическими размышлениями на тему того, что на бесконечной шкале ценностей не нашлось места для таких понятий, как начало и конец, и это забавно, ибо вот ведь он. Это не игра слов. Это был он. Конец.
ПРЕДДВЕРИЕ АДА
Место, где я, наконец, обнаружила себя – после долгого пребывания в «нигде», – было совершенно белым. Я лежала, закутанная в белизну, будто в кокон.
Нет, так я вас только запутаю. Сначала нужно объяснить, что произошло. А произошло следующее: на скорости 90 миль в час на шоссе N20. к северу от Каора, наша машина попала в аварию. Из‑за удара о каменную стену спустило колесо. Машину занесло, и она выскочила на встречную полосу прямо перед тяжелым трейлером. Крис погибла при ударе, наверное, даже не проснувшись. Ее худое, крепкое тело разрезало почти пополам, от головы и плеч мало что осталось. Я, конечно, забыла пристегнуть ремень, – редкий случай, когда моя вечная забывчивость, возможно, спасла мне жизнь: меня выбросило через ветровое стекло, и я упала на дорогу в нескольких дюймах от колес трейлера, который прошел юзом еще сотню ярдов, толкая перед собой взятую напрокат машину, пока не выпихнул ее на обочину. Я лежала на асфальте без сознания, в синяках, порезах и переломах, но живая.
На следующий день – тогда я, разумеется, ничего об этом не знала, а узнала гораздо позже, складывая всю картину происшествия по кусочкам, выуженным из старых газет и журналов, – -на следующий день женщина по имени Доминик Вайрак была арестована в Пуатье за попытку получить деньги по украденной карточке «Мастеркард». Имя на карточке привлекло внимание кассира в банке. Утром за кофе он как раз прочитал об исчезновении в Париже англичанки, отправившейся в отпуск. Позже в этот день какой‑то фермер нашел зацепившуюся за куст одежду, свернутую в узел. Впоследствии она была опознана мужем англичанки: именно так была одета его жена в день исчезновения.
Мадмуазель Доминик Вайрак, отрекомендовавшись «путешествующей актрисой», сказала полиции, что нашла эти кредитные карточки в сумке, обнаруженной, по ее утверждению, на автостоянке возле ресторана примерно в девяти километрах от места, где была найдена одежда. Сумочка валялась на виду и явно была выброшена, сказала она. Она яростно отрицала обвинение в краже. Отрицала она также и то, что когда‑либо видела англичанку, которой принадлежали эти кредитные карточки.
Patronne, хозяйка ресторана, вспомнила двух иностранок, заходивших поесть в пятницу вечером, но она была уверена, что они немки. Полицейский показал ей фотографию с паспорта пропавшей женщины. Она сказала, что не может сказать наверняка: может, это она и есть, но, честно говоря, она была слишком занята, чтобы смотреть по сторонам, и в любом случае она уверена, что эти две женщины были сестрами. Полицейский спросил, почему она так решила. Они сами сказали?
Нет, ответила хозяйка.
Они были похожи?
Нет, но сестры не обязательно похожи, правда? Нет, здесь дело в другом, но в чем именно, она сказать не может. В любом случае они не были англичанками. Это были немки. Дочь patronne, которая их обслуживала, это подтвердила. Они из Арнема, сказала она.
Тогда, может, одна из них и украла сумочку англичанки, спросил полицейский.
Возможно. Они вели себя очень странно.
В каком смысле странно?
Patronne объяснить затруднилась. Видимо, это заявление основывалось на том факте, что они много смеялись.
Полицейское расследование сразу переместилось в район Лиможа. Были обысканы реки и пруды. Пресса в течение нескольких недель проявляла нездоровый интерес к результатам поисков.
В этом белом месте, где я себя обнаружила, я тихо плыла по течению. Я улыбалась и держала руки сложенными на груди. Мои волосы плыли следом. Издалека доносился неясный звук. Я так и не поняла, было ли это хоровое пение или какой‑то оркестр. Кажется, я не связывала этот звук с музыкой. Кажется, я вообще ни с чем его не связывала. Просто он был почти невыносимо прекрасным. Иногда мне казалось, что у меня что‑то болит, но я не была в этом уверена. Я не знала, боль это на самом деле или глубокая печаль, или это имеет какое‑то отношение к природе самого звука, но возникало это всегда ненадолго.
Однажды я услышала, как голос отчетливо произнес: «Мисс Масбу?» – но я находилась так далеко, что даже не могла собраться с мыслями, чтобы ответить. И вообще, это не мое имя, зачем же отвечать? Обращались не ко мне. У меня совсем другое имя. Я пыталась вспомнить его, но не могла. Это не имело значения. Оно мне было не нужно.
В другой раз, когда я тихо плыла по длинному, заросшему тростником ручью, я без всякого предупреждения очутилась на каменистой отмели: спину оцарапали колючие камни, зазубренные, острые как бритва, выступы скал. Внезапная мучительная боль пронзила все тело от шеи до ступней. Я вскрикнула. Я была в ярости. Но потом услышала вдалеке звук, похожий на пение, и ручей постепенно становился все глубже и глубже, пока не превратился в темный пруд, я снова мягко плыла сквозь струящиеся водоросли, и вода согревала меня и баюкала.
Однажды, помню, поймала обрывок мысли, имя: Тони. Но оно для меня ничего не значило, и я его отпустила, оно отцепилось и уплыло от меня прочь во тьму воды и там утонуло.
Это было очень приятно – бездумное, расслабленное состояние, ощущение бесконечного дрейфа. Я была счастлива. Я лежала почти на дне глубокого пруда, все течения остались выше, выше осталась даже сама возможность движения, а я спокойно отдыхала на ложе из легких водорослей, сонно паря во времени, и вдруг неожиданно и совершенно против желания начала подниматься, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, – меня стремительно тащило вверх сквозь толщу воды. Что‑то силой заставило меня преодолевать гравитацию, и боль от этого была невыносимой. Я этого не желала: мне хотелось и дальше плыть по течению со сложенными на груди руками и развевающимися в воде волосами. В гневе оттого, что меня побеспокоили, я лягалась, махала руками и сопротивлялась, но продолжала свой головокружительный подъем по спирали. Я открыла рот, чтобы закричать, но в него хлынула вода. Я стала отплевываться и закашлялась. Нестерпимая боль разрывала все тело. Мне показалось, что я сейчас взорвусь. Послышался звук разбиваемого стекла, и я выскочила на поверхность, как пробка из бутылки, и шлепнулась на кровать, горячую как печка.
Я лежала в просторной белой комнате, в комнате с высокими стенами, отлого уходящими вверх, в вечность, в комнате, такой же неизмеримо огромной, как моя боль. Мне даже показалось, что эта комната и есть моя боль, так точно она повторяла границы ее владений. Женщина в черном отделилась от двери и направилась ко мне, и каждый ее шаг из далекого далека был для меня смертельной мукой. Я закрыла глаза и сосредоточилась на желании плыть по течению. Или парить в воздухе. Что угодно, лишь бы не эта невыносимая плотность пространства.
– Doucement [40]40
Тише (фр.).
[Закрыть], – мягко сказала женщина. – Doucement.
Я открыла глаза и постаралась сфокусировать на ней взгляд, понять, кто она, но эти усилия меня утомили. Она взяла меня за запястье. Оно вяло висело где‑то вдалеке, будто мне не принадлежало. Провода и трубки отходили от запястья к далеким аппаратам. Я всхлипывала от боли, как дитя, будто эти всхлипывания, могли заставить какого‑то могущественного волшебника пожалеть меня и избавить от боли. Я звала маму, давно покоящуюся в земле. Я хотела, чтобы кто‑нибудь принес бутылки с горячей водой и унял боль, но никто не шел. Я плакала потому, что, несмотря ни на что, была здесь (секунды тянулись одна за другой, а я все еще была здесь); потому, что я потеряла способность слышать тот прекрасный звук и плыть по течению; потому, что не могла вынести столько боли.
Много позже появился человек в белом.
– Добрый вечер, – сказал он. – Как вы себя чувствуете?
Он говорил по–английски, но это не помогло. Слишком много времени уходило на то, чтобы до меня дошел смысл слов; они так странно наслаивались друг на друга. «Как вы себя чувствуете?» – какое абсурдное и трогательное сочетание звуков. Я повторила их про себя.
Как я себя чувствую? Я чувствовала себя каждой частичкой кожи, ушами, горлом, языком. Чувствовала себя внутренностями, костями, волосками на руках…
Он коснулся моей руки.
– Мисс Масбу? – позвал он. – Вы очнулись?
– Нет, – сказала я, имея в виду, что меня зовут не Масбу.
Он сел. Стул шаркнул по паркету, от этого звука у меня даже зубы заныли.
С минуту он сидел молча. Мой взгляд медленно фокусировался на нем.
– Вы помните, что случилось? – спросил он чуть погодя.
Я хотела заговорить, но произносить слова оказалось трудно. Единственное, что я смогла выговорить, было «нет».
– Вы попали в аварию, – объяснил он. – Простите, конечно, я должен был представиться. Доктор Верду. Ги Верду, – говорил он медленно, словно понимая, как мне трудно. – Авария на дороге, – сказал он. – Вы сидели за рулем машины, которую взяли напрокат в Кале. Это вы помните?
– Нет, – сказала я, имея в виду, что никогда не брала напрокат машину в Кале.
– Лопнула шина. Вы потеряли управление.
– Да, – сказала я. По крайней мере, в этом он не ошибся.
Он, похоже, остался доволен. Похлопал меня по руке.
Совершив неимоверное усилие, я попыталась задать вопрос.
– Девушка… – начала я.
– Мисс Хьюис. Да. Она была… – Он замолчал и откашлялся. – Вы ее знали?
– Нет, – сказала я, доведенная до изнеможения всей этой чепухой, нагромождением ничего не значащих слов. Что еще за мисс Хьюис? О ком он, черт побери, говорит? Он, наверное, спутал две разных аварии. – Нет, нет… Нет…
– Кэтрин Хьюис. Да. Она путешествовала вместе с вами, – он кивал мне, подбадривая.
– Нет, – сказала я. И попыталась объяснить, что все было совсем по–другому, что это я голосовала на шоссе и остановила попутку. – Голосовала… – сказала я, хотя, едва это слово попало мне на язык, оно тут же потеряло всякий смысл. – … Голосовала…
– Ага, понимаю. Понимаю. Она просила ее подвезти.
Я начинала злиться.
– Нет! Я… Я…
– Не торопитесь. Так и должно быть. Это из‑за лекарств.
Его добро та меня растрогала, и я заплакала. Мне нужно было поговорить с Крис. Крис все разъяснит. Я не могла. Не могла сконцентрироваться, мешала боль. Не могла заставить слова подчиняться.
– Где она? – Я попыталась сесть, но ничего не получалось.
Он нежно похлопывал меня по руке и, не сводя глаз с костяшек моих пальцев, с поразительной тактичностью пояснил – почти шепотом, – что мисс Хьюис погибла в автокатастрофе.
– Нет, – сказала я, потому что это уже становилось смешным, я опять не могла совладать с ситуацией, опять не могла удержать руль. – Нет, не Хьюис. Крис. Крис Масбу.
По какой‑то неясной причине этот ответ, кажется, удовлетворил его.
– Хорошо, – сказал он. – Просто отлично. – Он посветил мне в глаза маленьким фонариком, ослепив меня. Серая тень двигалась за его спиной. – Сестра Мари–Тереза даст вам снотворное.
Я закрыла глаза. Снотворное мне не понадобится. Я и так вымоталась до предела.
– Нет, – сказала я, но меня, похоже, никто не слушал, и вскоре после этого боль ушла. Я стала легкой, как воздух, и поднялась над кроватью, и воспарила над мебелью. Когда я проснулась в следующий раз, день был уже в разгаре. За ночь комната, вероятно, уменьшилась, и стены теперь стояли прямо и заканчивались, как им и положено, потолком. Сестра сидела на стуле около окна и шила.
– Все болит, – возмущенно сказала я. Боль перестала заслонять собой мир, только досаждала.
Она обернулась ко мне.
– Je regrette. Madame, je ne parle pas anglais [41]41
К сожалению, мадам, я не говорю по–английски (фр.).
[Закрыть].
Она отложила шитье и вышла из комнаты.
Спустя несколько минут прибыл доктор Верду. Он оказался очень молодым человеком с рыжими волосами – вчера я этого не заметила.
– Доброе утро, – сказал он. – Вам лучше?
– Все болит, – пожаловалась я.
Он осмотрел аппараты, к которым я, кажется, была присоединена, и сверился с картой на спинке в ногах моей кровати. Потом откинул одеяло. Я была обмотана бинтами и пластырем.
– Скажите мне, где именно болит, – сказал он.
Это был довольно простой вопрос.
– Везде, – ответила я.
– Хорошо, – сказал он. Ничего хорошего я в этом не находила, так я ему и сказала. Он улыбнулся и принялся тыкать ручкой мне в ступни. – Я хочу чтобы вы сказали мне, мисс Масбу, чувствуете ли вы уколы.
– Нет, – строго сказала я.
Он забеспокоился.
– Не чувствуете?
– Нет, я имею в виду, что я не Масбу. Я не Крис Масбу.
Ручка застыла над моей правой ступней. – Не…? – Он нахмурился. Я не могла понять, почему до него никак не доходит. Это же так очевидно. – Ну, хорошо, – в конце концов, произнес он, – ладно. И как же в таком случае вас зовут?
Я открыла рот, чтобы ответить, но ничего не получилось. Я не помнила. Боже правый, я не помнила собственного имени.
– Длиннее, чем Крис, – сказала я, наконец, и это все, на что я оказалась способна.
– Верно, – сказал он. – Мари–Кристин.
– Нет. Она была Крис… другая женщина. Взгляд у него стал озадаченный.
– Простите, я вас не понимаю. Вы пытаетесь мне сказать, что вы – Кэтрин Хьюис?
– Да нет, конечно! – Для интеллигентного человека он был на удивление туп. – Я никогда не слышала о Кэтрин Хьюис.
Он тихонько дотронулся ручкой до моей левой ноги.
– Кэтрин Хьюис – так звали девушку, которая была с вами в машине, – сказал он. – Которая погибла. Она просила ее подвезти.
Это не укладывалось у меня в голове.
– Скоро память вернется, – мягко сказал он. Я сделала еще одну попытку:
– Меня зовут… – выпалила я, но все без татку. Я подумала, что если попробовать с ходу, не размышляя, то удастся выловить имя из подсознания, но его там просто не было.
– Это вы чувствуете? – спросил он, проведя ногтем по моей подошве.
– Я все чувствую, – сказала я.
Он сел на кровать и пальцами раздвинул мне веки.
– Попытайтесь еще разок, – мягко сказал он, заглядывая мне, кажется, прямо в мозг. – Назовите мне свое имя.
Я покачала головой.
– Не знаю.
На глаза навернулись слезы.
– Нет, мадмуазель, прошу вас, не расстраивайтесь, – сказал он. – Это совершенно в порядке вещей. Такое часто бывает после сильного потрясения. Через день–два все восстановится.
Я слабо улыбнулась ему сквозь слезы.
– Факты говорят за то, – продолжал он, – что вас зовут Мари–Кристин Масбу. Так написано у вас в паспорте.
Я совсем запуталась.
– Правда? – спросила я.
– Ну, конечно, правда. Таким образом, полиция вас и опознала. По паспорту в вашей сумочке…
Но у меня не было с собой паспорта. И сумочки, разумеется, тоже: ее украли, это точно.
– … которые до сих пор у них, – говорил доктор Верду, изучая мое исцарапанное, опухшее лицо.
– Я могу встать? – спросила я.
Меня охватила паника: почему все так болит? Он не только был явно хороший врач, этот рыжеволосый молодой доктор, но и говорил на разговорном английском почти без ошибок, и понимал разницу между «можно» и «могу». Он сунул руки в карманы и уставился себе под ноги. Он сказал, что подозревает, что некоторые проблемы могут остаться надолго: вряд ли они будут связаны с подвижностью, хотя пока он не уверен на сто процентов, что подвижность восстановится в полном объеме; возможно, периодически будут возникать боли; и наверняка шрамы останутся. Он откашлялся.
– Во всяком случае, – сказал он, – посмотрим, как пойдут дела, а там будет видно. Важно, что вы до сих пор живы. Вам невероятно повезло.
Когда он ушел, я задумалась о его словах – что я до сих пор жива. Никакого везения я в этом не видела. Наоборот. Я предпочла бы состояние небытия, тихого, бесконечного дрейфа. Приятно было не иметь ни веса, ни чувства вины, ни понимания происходящего. Какая ирония: Крис, которой все давалось намного легче, чем мне, без всяких усилий – и при моем содействии – получила то, чего я так хотела, но не могла вернуть. Весь день я лежала и думала о Крис, которую никто, кроме меня, не хотел признавать. Я до мелочей воспроизвела в уме все наше путешествие. Я ничего не забыла. В деталях помнила ее спящее лицо, ее раздражение из‑за моей неуклюжести, ее стройные ноги, когда она широким шагом шла к ресторану, даже ее грязноватую шею, ее руки на руле. Я думала о ее уверенности, способности совладать с вещами, об этой ее убежденности, что она имеет полное право на занимаемое ею в пространстве место. Весь день я ее оплакивала. На открытом окне колыхались шторы, солнце согревало пол, выложенный светлой плиткой, медсестра сидела с опущенной головой, игла в ее руке двигалась неспешно и монотонно, а я плакала.
К вечеру меня отсоединили от аппаратов, избавили от трубок и пластмассовых бутылок, которые наполняли меня и опустошали. Мне принесли тарелку супа. Я думала о том, как последний раз ужинала с Крис, о том, как сильно я к ней привязалась и как глубоко мое чувство утраты. Всего один день я была с ней знакома, а казалось, будто она многие годы присутствовала в моих грезах, будто я всегда ее знала, но почему‑то не встретила раньше. Я часами думала о ней. Впрочем, больше мне не о ком было думать, никто не проявлялся в моей памяти отчетливее нее. Все, что происходило со мной до встречи с Крис, до сих пор было сплошной неразберихой, как в телевизоре с помехами. Когда мне удавалось немного прояснить картину, она вновь начинала ускользать и расплываться. Мне было все равно. Я не слишком‑то и старалась. Было даже приятно – без прошлого, как в невесомости. Так прошел вечер. Я лежала на кровати в полудреме от лекарств, которыми меня накачали, чтобы снять боль, и продолжала тихо оплакивать мою подругу.
В ту ночь мне снился Тони. Снилось, что он пришел навестить меня в больнице. Он был неразговорчив и немного дрожал, с ним такое бывает от злости или сильного волнения.
– Ты испачкала юбку, – сказал он. Это было обвинительное заключение.
– Это кровь, – возразила я. И это была правда. Я отодвинула одеяло, чтобы показать ему. Я лежала в луже крови. Все руки были у меня в крови. Она все лилась и лилась и начала собираться в лужицы на полу. Он стоял, закрыв глаза руками.
– Ты что, плачешь? – спросила я. Это меня очень удивило, даже испугало. Я старалась его утешить. – Все в порядке, – сказала я. – Это не так уж серьезно. – Но стоило мне произнести эти слова, как я подумала: нет, не может быть. Это, должно быть, серьезно. Только поглядите. Весь пол в крови.
Утром я проснулась и моментально все вспомнила: улицу Франциска Первого, свое имя, все. Я вот о чем подумала: наверное, по моим рассказам у вас составилось совершенно неверное представление о Тони. Каким вы его представляете? Он высокий. У него темные, совсем прямые волосы, чистая кожа, и он носит очки. Чудовищно энергичен. Он напоминает терьера, – вот на кого он больше всего похож. Он ничего не пускает на самотек. Будет суетиться, пока не выжмет из ситуации все возможное. Чем он занимается? Он заместитель начальника отдела реализации и сбыта в проектной фирме в Сток–он–Трент [42]42
Город в графстве Стаффордшир, Англия.
[Закрыть]. Любит свою работу. Жалуется, что испытывает слишком большой стресс и давление, но стресс и давление – это именно то, что ему по душе. Его страсть – всякая механика. Он обожает колесики, винтики, поршни и тому подобное. И не просто потому, что машины спроектированы с большой точностью и безотказно подчиняются установленным правилам, нет, он находит в этом нечто большее. Я это понимаю. Понимаю, что его так привлекает: в машинах есть обаяние власти.
Мы познакомились в Ковентри. Казалось бы, встретить там никого невозможно, но я вот умудрилась. Мы были там с моей матерью и отчимом. Отчим мой любил ездить в Ковентри. Не помню, поехали мы туда на выходные или всего лишь остановились переночевать на обратном пути с южного побережья. Мой отчим интересовался такими городами, как Ковентри: его до сих пор одолевали мысли о Второй мировой войне. Он служил летчиком на бомбардировщиках – был одним из тех обаятельных и обреченных молодых людей, кто храбро махал рукой на прощание, залезая в кабину хрупкого самолета, и летел бомбить Европу. Проблема была в том, что, в отличие от подавляющего большинства его друзей, отчим с войны вернулся. И, как ни странно, это стало для него огромным разочарованием. Вообще‑то, разочарованием для него было не только это, но и все остальное: Англия, какой он нашел ее по возвращении. Европа, которую он спас. Все пошло прахом, говорил он. Это означало, что состояние мира – синоним морального вырождения для человеческой расы. В зрелом возрасте, по причинам, которых я никогда не могла понять и которых, подозреваю, он и сам до конца не понимал, – возможно, это было нечто вроде инстинктивной, старомодной галантности по отношению к беспомощной молодой женщине, – он женился на моей матери и в комплекте с ней приобрел семилетнюю дочь. Он носил тонкие усики, модные среди летчиков ВВС Великобритании. На свадебных фотографиях он выглядит жалким щеголем. Моя мама периодически просила его сбрить эти усы – однажды пожаловалась мне, что они ее раздражают, – но он ни в какую. Сейчас ему далеко за семьдесят, а усы до сих пор при нем – выцветшие, желтые, как и белки, его слезящихся глаз.
Так вот, в Ковентри мы осматривали руины старого кафедрального собора, расположенного неподалеку от нового, муниципального, и слушали отчима, который сравнивал их, рассуждая о разрушении всего старого и красивого и уродстве нового, которое пришло на смену, – весьма вероятно, что здесь пришлась к месту красноречивая Метафора о Наших Временах – непременно с заглавных букв. Мне было лет восемнадцать, но тогда я была другим человеком, очень самовлюбленным и самодостаточным. Мне казалось, что я совершенно точно знаю, кто я и чего хочу. Только много позже постепенно, год за годом, я начала осознавать, что мои представления о собственных познаниях были обманчивы; что я вовсе не самодостаточна, а скорее наоборот, и со временем это усугублялось. И в пику растущей во мне пустоте. Тони, казалось, становился все более цельным, все более уверенным в себе и несгибаемым. Он знал все правила, понимал смысл всего происходящего. Как будто он подбирал все отслаивающиеся от меня кусочки, как будто был до отказа набит своим «эго», как будто внутри своего полнеющего тела хранил не только самого себя, но и несколько легких, как дымка, фрагментов, принадлежавших когда‑то мне. Защищаясь, я научилась менять обличил – в зависимости от ожиданий тех, кто ко мне приближался, – выстроила вокруг себя нечто вроде холодного, тусклого зеркала.
Сперва Тони увидел мое отражение в зеркале на стене пансионата в Ковентри, где мы остановились. Я была еще в том возрасте, когда внешний вид имеет первостепенное значение. Меня сжигало желание быть красивой. Бог знает почему: сейчас я не представляю, почему это казалось мне таким важным. Теперь я предпочитаю прятаться за безликой внешностью ординарного человека, но тогда я хотела быть просто красивой – довольно скромные амбиции. Были моменты, когда под определенным углом зрения, если сузить глаза – отчасти чтобы выглядеть более соблазнительной, отчасти для того, чтобы компенсировать дефекты зрения, – мне казалось, что я немного похожа на Джулию Кристи, но кроме меня, по–видимому, этого сходства никто не замечал. Я стояла в холле, пропахшем вареной капустой, ждала, когда спустится мама, и отрабатывала взгляд а–ля Джулия Кристи, когда открылась входная дверь. Я прекратила свои упражнения, но продолжала смотреть в зеркало, где увидела темноволосого молодого человека, который улыбнулся мне и сказал: «Привет!» И мое отражение улыбнулось в ответ.
Он тогда только начал стажироваться продавцом в компании, бывшей некогда семейным бизнесом, но за несколько лет до того проданной. Мой отчим рассматривал это как очередной признак упадка: старые, авторитетные фирмы прибирались к рукам новыми хитрыми бизнесменами, такова была практика современного бизнеса. Это его глубоко огорчало. Тони, который как раз представлял собой идеальный экземпляр хитрого современного бизнесмена и который без тени сомнения продал бы семейную фирму, не сделай этого раньше его дядя, улыбнулся и посмотрел на свои ногти, – такая у него манера, способ отстранения. Ногти у него всегда безупречно подстрижены. Мне казалось странным, что мужчина так старательно ухаживает за ногтями. Самой мне никогда не приходило в голову заниматься ногтями. Я их обгрызала по мере того, как они отрастали, или же они ломались сами. Все у нас получалось наоборот. Это мне надо было волноваться по поводу грязных стульев и полировать ногти, а не ему.
– Этот парнишка далеко пойдет, – изрекал мой отчим. Он мгновенно проникся симпатией к Тони. К нему все проникались симпатией. Отчим вел с Тони бесконечные разговоры о машинах. Маме он тоже нравился. «Какой очаровательный молодой человек», – говорила она, и шея у нее краснела. Поскольку она была старше него и еще оттого, что причиной, по которой он столь часто к нам наведывался, был его ничем не объяснимый интерес к моей персоне, она считала себя вправе немного пофлиртовать. При нем она то и дело заливалась краской и хихикала. Он подходил им по всем статьям. Подходил намного больше, чем я. «Тони зайдет в выходные?» – спрашивали они с надеждой. Они его баловали. Он был страшно обаятельный. Он поддерживал их взгляды на мир и на самих себя. Их удивляло и приводило в восторг, что я ему нравлюсь. Благодаря этому они и сами стали смотреть на меня по–другому, с большим одобрением.
Это, конечно, загадка. Почему я ему понравилась? Мы были знакомы каких‑то десять минут, а он уже пригласил меня в кино. Когда я сообщила матери: «Я сегодня вечером иду гулять с тем мальчиком, которого встретила в холле», она покорно улыбнулась и сказала: ладно, только возвращайся не слишком поздно, потому что миссис такая‑то, хозяйка гостиницы, запирает двери в половине одиннадцатого.