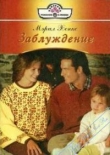Текст книги "Лгунья"
Автор книги: Валери Виндзор
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Я взбиралась по лестнице – медленно, словно у меня до сих пор болели ноги. Они не болели. Мне просто требовалось время, чтобы подготовиться. План мой был таков: взять инициативу в свои руки, удивить ее тем, что я знаю, что она в курсе всего. Я постучала.
– Входи, – крикнула она. Она была полностью одета и сидела за столом.
– Селеста рассказала о пожаре, – сказала она.
– Скорее всего, это какие‑то мальчишки устроили, – ответила я. стоя перед ней, как провинившаяся ученица под взглядом учительницы.
Она неодобрительно цокнула языком.
– И так каждый раз: как засуха, так пожар. Такая неосмотрительность, – жестом она пригласила меня сесть. Я села. Руки ее были сложены на столе. – И Ксавье, разумеется, с пожарниками? – она взволнованно сжала губы. – Не надо было его отпускать. Почему ты его не остановила?
– Я не знала, что он поехал, – сказала я.
– Он жутко устанет, – она нервно сплетала пальцы. – Нужно было его остановить.
– Думаю, никто не смог бы его остановить, если он что‑то задумал, – сказала я.
– Ну, раз уж ты не смогла, то никто не смог бы, – раздраженно заметила она. Потом выдвинула второй ящик стола. Я догадалась, что она собралась выложить передо мной фотографию с вырезкой. Боясь, что она возьмет инициативу в свои руки, я поспешно выпалила:
– Я знаю, что там. Знаю, что вы хотите сказать.
– В самом деле? – удивилась она. – Откуда? – Она держала небольшую шкатулку. И протянула ее мне. – Я только хотела тебе отдать это до отъезда. Я еще вчера собиралась, но нас прервали.
Это была старомодная шкатулка, голубая, выцветшая, на ней стояло имя французского ювелира.
– Открой.
Я была уверена: она задумала подшутить надо мной. Вырезка, должно быть, лежит внутри.
– Открой, – повторила она.
Я знала, что в этой шкатулке; была настолько готова к этому, что увиденное повергло меня в шок. На мятом синем бархате лежало кольцо, старинное золотое кольцо с четырьмя бриллиантами и одним гранатом.
Я онемела. Что все это значит?
– Примерь. Я хочу, чтобы оно было твоим.
Я посмотрела ей прямо в лицо.
– Вы знаете, что я не могу его принять.
– Это всего лишь маленькая благодарность, – сказала она, берясь за свое вышивание. – За хорошее отношение к Франсуазе. И за то, что ты была так добра к Ксавье.
– Я была совсем не добра к Ксавье, – возразила я, оскорбленная этой мыслью. – Он не нуждается в моей доброте. – Я положила кольцо обратно в шкатулку. – Простите. Я не могу его взять. Вы знаете, что не могу.
– Тогда ты меня глубоко обидишь. Его дала мне моя мама, когда я выходила замуж. Оно принадлежит нашей семье со времен революции. Я очень хочу, чтобы оно осталось в семье.
Она обладала удивительной способностью сбивать меня с толку, эта женщина. О чем она говорит? Она прекрасно знает, что я вовсе не из этой семьи.
– Тогда вам следует отдать его Франсуазе, – сказала я. – Или Селесте. Но не мне.
Она сурово подвинула ко мне шкатулку.
– Нет, – сказала она, глядя мне прямо в глаза, словно передавала какое‑то кодированное послание и хотела, чтобы я разгадала код. – Нет, я отдаю его тебе, Мари–Кристин.
И я приняла подарок.
– Спасибо, – буркнула я.
– А теперь, – быстро проговорила она, – если ты не слишком устала, будь любезна, приготовь мне отвар. На подоконнике в кухне растет шалфей. А потом ложись спать.
Нет, я подожду дядю Ксавье. – И, запинаясь, пробормотала какую‑то глупость насчет кольца, что‑то вроде: «Даже не знаю, что сказать».
Она подняла на меня глаза и улыбнулась.
– Тогда давай и не будем ничего говорить, ладно?
На кухне я налила в кастрюлю воды и стала ждать, пока закипит. Вынула кольцо из шкатулки. Подержала в руке. Надела на палец. Это было очень красивое, очень изящное изделие – произведение настоящего мастера. Срывая листья шалфея и размышляя над совершенно неуместной фразой «чтобы оно осталось в семье», я вдруг поняла содержание кодированного послания: хоть она и знала, что я не Мари–Кристин, она не хотела попасть в такое положение, когда ей придется в этом признаться. Более того, она не хотела, чтобы об этом узнал Ксавье. Она хотела, чтобы я уехала тихо, ничего ему не объясняя. Она защищала его от разочарования. На самом деле это кольцо было платой. Она мне платила за услуги: за хорошее отношение к Франсуазе, за «доброту» к Ксавье и, наконец, за молчание. Я сняла кольцо и положила его назад, в шкатулку.
Кухня наполнилась запахом заварившегося шалфея. Меня жгла обида. Я зло отодвинула листья на край кастрюли. Заткнись и убирайся, гласило послание. За что со мной и расплатились, изящно расплатились. Заблаговременно.
Он вернулся уже после четырех. Я услышала хруст колес по гравию. Tante Матильда спустилась встретить его. Лицо у него было серым от усталости. Он удивился, обнаружив, что мы обе его ждем, без конца повторял:
– Что такое? Почему вы не спите?
Щеки у него были грязными от копоти и пыли. То и дело он устало тер ладонями лицо. Tante Матильда предложила ему отвара, но он хотел чего‑нибудь покрепче. И все говорил, говорил, никак не мог остановиться. Сидел, тяжело навалившись на стол, пил мелкими глотками коньяк и рассказывал о поясаре, снова и снова, по кругу, путая себя и нас. Особенно его удручало то, что огонь уничтожил столько гектаров лесных угодий. То и дело он называл предположительные цифры нанесенного урона.
– Погибшая земля, – горевал он. – Пыль и зола.
Никогда, сказал он, никогда еще на его веку и при жизни его родителей не было таких опустошительных разрушений.
Мне хотелось обнять его. Я не могла вынести вида его страданий. Мне было необходимо его утешить. А вместо этого я сидела, сложив руки на коленях, и слушала. Щеки у меня горели от утомления. Он бормотал одно и то же, нанизывал друг на друга одни и те же фразы, пока они не потеряли всякий смысл. Его мучило то, что пропало столько трудов. Чем больше он расстраивался, тем меньше смысла оставалось в его словах.
Tante Матильда кинула на меня взгляд. Я понимала: она хотела, чтобы я помогла его уложить. Она бормотала бессмысленные слова, чтобы хоть как‑то его успокоить. Пожар, говорила она, это обычное дело, таким образом, старое уступает место новому, расчищает ему путь для роста. Это в порядке вещей, естественная череда смертей и рождений, разрушений и созиданий. «Ты же сам понимаешь», – говорила она. Он кивал, но не слушал ее.
– Все эти мыши, – бормотал он, закрывая лицо руками, – птицы. Я прямо чуял их запах. Какая утрата. – Слезы бежали у него по щекам, застревая в морщинах.
Tante Матильда все пыталась подать мне знак, но я не могла шевельнуться. Меня привело в ужас совершенно белое лицо дяди Ксавье, эти слезы. Он тяжко вздохнул и встал, чтобы налить себе еще коньяка.
– Давай я за тобой поухаживаю, – сказала tante Матильда, но он покачал головой. Я не могла этого вынести, не могла видеть его в таком отчаянии.
Он обернулся и поглядел прямо на меня. В одной руке он держал бутылку, в другой стакан.
– Куда ты тогда исчезла с этим своим слабаком? Я тебя весь вечер не видел. Он что, до сих пор тебя преследует?
Я кивнула.
Он улыбнулся мне: это была усталая, обреченная улыбка, но все же улыбка. Он открыл рот, чтобы заговорить, но вновь закрыл его. На его лице вдруг появилось выражение полного изумления. Рот снова открылся. А потом он вдруг странно взмахнул руками, словно собираясь взлететь. И как‑то смешно хрюкнул. Бутылка выскользнула из его рук и разбилась. Он посмотрел на нее в изумлении, прищурившись, словно пол был так далеко 6т него, что он силился разглядеть, что там, внизу, и не мог. Потом раздался страшный, дикий звук, какой‑то влажный, тонкий свист.
Я услышала, как tante Матильда вскрикнула: «Боже мой!», а дядя Ксавье дергался и подпрыгивал, будто его било током.
Свистящий звук прекратился так же страшно и внезапно, как начался.
– Ради бога, Мари–Кристин, – закричала tante Матильда, – звони врачу. Быстрее!
Дядя Ксавье лежал на полу все с тем же выражением полнейшего изумления в широко распахнутых глазах. Мышцы лица судорожно дергались. Я не могла двинуться с места. Я не понимала, что происходит. Помню, как он лежал в круге лунного света, но это фальшивое воспоминание, потому что на кухне горел свет. Помню, пол качался, так что мне пришлось опуститься на колени рядом с ним, хотя я не помню, как встала со стула. Мне казалось, меня пригвоздило к месту, как скалу, вмерзшую в лед посреди озера. Помню, я говорила: «Все в порядке. Он еще жив». По–моему именно я это сказала. Кто‑то же сказал, а поскольку рядом больше никого не было, значит, это, скорее всего, сказала я.
Его увезли на «скорой». Tante Матильда поехала с ним. Я должна была подъехать позже, когда соберу ему кое–какие вещи: умывальные принадлежности, полотенце, все, что может ему понадобиться, но я была ужасно рассеянна, никак не могла собраться с мыслями. Не знала, где что лежит. Бегала вверх–вниз по лестнице, бормоча себе под нос. Вытащила из комода пять полотенец, пока до меня дошло, что это такое. То и дело роняла на пол вещи, словно позабыла, как пользоваться собственными руками. Не могла найти ключи от машины. Наконец заплакала от полнейшей своей беспомощности. Выехала за ворота и только у самого шоссе вспомнила, что не включила фары. И все это время я молилась, яростно молилась, поскуливая, фанатично молилась Богу, который существовал только потому, что я нуждалась в каком‑нибудь боге, который был и остается последней надеждой отчаявшихся, ибо если ты живешь в мире, где бесконечной и прекрасной череде смертей и рождений нет дела до человеческой личности, даже такой сильной личности, как дядя Ксавье, то наступает время, когда тебе настолько нужен твой собственный, личный бог, что ты пойдешь на все, даже на то, чтобы самой его выдумать. Когда необходимо возложить на кого‑то вину. За кого‑то держаться, на кого‑то рассчитывать.
Его положили в больничном боксе с бледно–голубыми занавесками и с репродукцией цирка Дега на стене.
Я бежала по коридору, саквояж хлопал меня по ноге. Вышла медсестра и приложила палец к губам, чтобы я вела себя потише, но мне было плевать, кого я там побеспокою. Я все равно бежала. Лицо его на белой, накрахмаленной наволочке было почти серым. Tante Матильда сидела на стуле у кровати. Волосы выбились из‑под заколок, а ведь раньше я ни разу не видела, чтобы хоть одна прядь была у нее не на месте. Сестра принесла еще один стул, чтобы мы сидели по обе стороны от кровати. Говорили, что он без сознания, но мне казалось, он просто спит и похрапывает во сне. Мы сидели, пока не пришли врачи, и нас попросили перейти в другую комнату, где стояли бежевые пластиковые стулья. Небо за окнами начало светлеть. В комнате горел нестерпимо яркий свет. От него все вокруг казалось пластмассовым, даже наша кожа. Я его выключила.
Tànte Матильда сидела очень прямо, около шеи подрагивала прядь волос.
– Лучше бы он умер. Не хочу, чтобы он жил беспомощным, – вдруг проговорила она высоким, гневным голосом, словно споря с кем‑то.
Вошел врач и увел ее, чтобы поговорить без свидетелей. Я стояла у окна, тупо уставясь на крыши, над которыми вставало солнце. Наступал еще один погожий, солнечный день. Какая жестокая ирония. Небу положено источать слезы. Должен лить проливной дождь. А вместо этого крыши заливало золотом. Запах утреннего тепла поднимался над улицами. В церквях звонили колокола. Из гаража выехала задом машина и ткнулась капотом в мусорный бак.
Потом пришла медсестра и сказала, что я могу ненадолго зайти в комнату дяди Ксавье.
– День будет жарким, – приветливо сказала она. Я чувствовала запах ее духов. Свежий запах чистой кожи.
Тянулись часы. Мы сидели и ждали – ждали неизвестно чего. Сидели то в комнате с пластиковыми стульями, то с дядей Ксавье. Приехали Франсуаза с Селестой. Увели tante Матильду попить кофе. Это я настояла. Мне хотелось ненадолго остаться с дядей Ксавье наедине. Говорили, что он все еще без сознания, но я не очень‑то понимала, что это значит. Взяла его за руку: она была квадратная, грубая, в царапинах. Я ее целовала. Не могла остановиться. Перецеловала каждый палец, один за другим, каждый ноготь, каждую складку, и между пальцами целовала. Каким‑то образом мои волосы, мои слезы, губы настолько слились с его руками, что я бросила все попытки их разделить. Я приникла к нему, моя голова лежала рядом с его головой на подушке, а волосы падали ему на лицо. Его ладони были прижаты к моему лицу, как маска. У меня не было возможности сказать ему, как сильно я его люблю. Даже если бы он меня слышал, если бы находился в сознании, я не смогла бы этого сделать. Все было мало для этого. Не было слов, чтобы выразить всю силу моей любви. Не было на свете ничего, что могло бы передать хотя бы половину тех чувств, которые я к нему испытывала. Мне хотелось быть внутри него. Хотелось, чтобы он обнял меня так сильно, чтобы я растворилась в нем без остатка или он растворился во мне, чтобы он понял чтобы мне не было необходимости как‑то озвучивать это.
В эти минуты где‑то на задворках моего сознания вялый, безгранично холодный и испуганный человечек, который там до сих пор обитал – и который навсегда останется там жить, потому что так сильно человек измениться не может, – с некоторым удивлением подумал, что, возможно, я все‑таки знала о любви больше, чем мне казалось. Я дотронулась до щеки дяди Ксавье. На ней появилась щетина, надо бы побрить. Я поцеловала эту колючую щеку. Я хотела забраться к нему в кровать и обнять, хотела согреть его. Вернуть ему энергию. Но застеснялась: вдруг войдет сестра или tante Матильда и обнаружит меня. И я осталась наполовину сидеть, наполовину лежать, прижавшись щекой к его щеке, умоляя его не уходить. Прислушивалась к его дыханию и думала, что это был единственный человек, которого я по–настоящему любила. Он ничего от меня не требовал, ничего не навязывал. Я нравилась ему такой, какая я есть. Я любила его за то, что он безоговорочно позволял мне быть собой. Я подумала обо всех остальных: о моем отце, который прожил достаточно, чтобы оставить после себя неприятное чувство своего превосходства; об отце приемном, который был хорошим человеком и делал намного больше того, что требовал от него долг, но который, совершенно не по своей вине, всегда был только отцом и потому (не без резона) был уверен, что я должна отвечать ему дочерней привязанностью; о Тони, не имевшем не малейшего понятия, на ком он женился, в основном, наверное, потому, что я не позволяла ему этого узнать. Да разве я могла ему это позволить? Даже Гастон, которого я бесстыдно использовала в своих интересах, видел во мне воплощение его собственных тайных фантазий, точно так же, как и для меня он был воплощением моих. Но Ксавье полюбил меня с первого же взгляда, даже со всеми моими шрамами на лице и моим новоприобретенным острым язычком, и продолжал любить без усилий, обид и скрытых видов на меня, и с этим я никогда ничего не смогу поделать.
– Если тебе станет лучше… – шептала я ему в ухо. Я хотела заключить с ним сделку. Приманить его каким‑то невероятным подарком, предложить взятку, чтобы он не умирал. Но я ничего не могла ему дать. Даже если он поправится, ничего не изменится. Мы разминулись друг с другом, я и он. – Ох, дядя Ксавье, – шепнула я ему прямо в губы.
В коридоре послышались шаги. Я поспешно выпрямилась на стуле. Если они и были удивлены, обнаружив его щеки влажными от слез, а запыленные, с въевшейся копотью пальцы чистыми, если и заметили, как спутались мои волосы, как горят мои щеки, то ничего не сказали.
Позже Франсуаза и Селеста уехали – из‑за детей. Я отказалась. День тянулся медленно.
– Ты должна что‑нибудь поесть, – сказала tante Матильда.
Я забыла о еде. Во рту было гадко, а желудок то и дело пронзала резкая боль, но я считала, что это от горя, а не от голода. Я пошла, купила сэндвич и скормила его птицам. Ни куска не смогла проглотить.
Когда же вернулась в комнату с репродукцией Дега, там было полно народу. Люди окружили кровать. Я так испугалась, думала, сердце выскочит из груди. На меня никто не обратил внимания. Сестра тронула tante Матильду за плечо. Нас попросили на минуту выйти. Хотели проявить тактичность, отключая его от аппаратов и капельниц.
По замкнутому, отчаявшемуся лицу tante Матильды я поняла, что все кончено: он умер. Я подумала: не плачь, не плачь. Стоит только начать – и ты никогда не сможешь остановиться. Но сквозь слезы я даже не видела, куда иду, где дверь, и наткнулась на стену.
– Только поглядите на это нелепое создание, – слышала я его голос. Я слышала, как он фыркает от гордости за очередное проявление моей невероятной оригинальности (которую все остальные называли неуклюжестью). – Да, вот это самое создание, оно уверено, что может проходить сквозь стены.
Ох, дядя Ксавье, где ты?
Позже, днем, мы в молчании ехали в Ружеарк, я и tante Матильда. Она сидела, глядя прямо перед собой, и лицо ее было совершенно непроницаемым. Я вела машину.
Я боялась возвращения. Не знала, как вынесу пустоту Ружеарка, Ружеарка без дяди Ксавье, но едва мы въехали в ворота, навалилась такая тьма–тьмущая дел, что просто не было времени исследовать, где проходит граница боли. Нужно было доить коз. Решать какие‑то бытовые, повседневные вопросы, связанные с фермой. Teinte Матильда постоянно говорила по телефону. Она вцепилась в него, как в спасательный круг, и разговаривала резким, монотонным голосом. Предстояло известить власти, людей, обо всем договориться. Она постоянно обращалась ко мне за консультацией. Мне стало неловко.
– Вам следует спросить об этом Франсуазу. Или Селесту, – сказала я.
Она взглянула на меня растерянно и смущенно и провела карандашом по волосам.
– Да, разумеется, – сказала она. – Спрошу.
Мне нестерпимо хотелось с ней поговорить, понять, на каком я свете, но никак не удавалось выбрать под ходящий момент. Она не слезала с телефона, и мне пришлось самой тащиться на маслобойню и принимать множество непрофессиональных и, возможно, ошибочных решений просто потому, что решения должны быть приняты, а все, казалось, считали меня единственным человеком, который мог это сделать. Все шло по заведенному порядку. Время, как и положено, бежало вперед. Били часы. Солнце катилось по небу с востока на запад. Когда начало темнеть, Франсуаза приготовила поесть, и мы сели за стол. Я заплакала. Меня добил пустой стул. Слезы капали мне в ложку. Дети смотрели на меня испуганно и озадаченно.
Мы помыли посуду. Мне хотелось, чтобы Франсуаза и Селеста поднялись наверх, хотелось остаться вдвоем с tante Матильдой, но, когда посуда была перемыта, все вернулись за стол и молча сидели в унынии и отчаянии.
– Пойду, наверное, спать, – сказала я.
План мой был таков: дождаться, пока tante Матильда поднимется к себе, потом зайти к ней в комнату и поговорить по душам, без всяких недоговоренностей, но он совершенно не сработал, мой план. Помню, как я села на кровать и скинула обувь, и все. Следующее, что я помню, – это сильный рывок: я вздрогнула в темноте, проснувшись от страха, вся в поту. Боль была такой невыносимой, что я не знала, как стерпеть ее. Хотелось выть в голос. Рвать на себе одежду, визжать, излить всю свою ярость от этой непостижимой и безвозвратной потери. Как он посмел не быть здесь? Как посмел не быть? С этим невозможно смириться.
Я спустилась вниз. Если двигаться, думала я, боль утихнет. Может, с помощью движения можно ее обмануть. Глаза мои заплыли, превратились в узенькие щелочки. В кухне горел свет.
– Не спится, – извиняясь, пробормотала я. Tante Матильда подняла голову. Неприбранные седые волосы падали на плечи. Мне было стыдно за то, что я стала свидетелем пугающей беззащитности этих ее распущенных волос. – Отвара? – спросила она. Я покачала головой.
Она включила маленькую настольную лампу. Мы сидели по разные стороны стола, в круге света, отделенные этим кругом от остального пространства. На лице ее были видны следы слез – еще одно проявление пугающей беззащитности.
– Что ты теперь будешь делать? – спросила она.
– Об этом я и хотела с вами поговорить.
– Мне удалось связаться с Гастоном, – сказала она. – Он прилетит к похоронам. – Она высморкалась. – Прежде чем принять какое‑то решение, Мари–Кристин…
– Перестаньте называть меня Мари–Кристин, – оборвала я ее.
– … прежде чем скажешь что‑нибудь еще, – продолжала она, носовой платок немного приглушал ее голос, – думаю, тебе следует принять во внимание один факт.
Я ждала. Она спрятала платок.
– Ружеарк теперь твой, – сказала она.
– Что, простите? – тупо проговорила я, хотя прекрасно расслышала ее слова.
– Да, контрольный пакет акций. У меня остается одна пятая часть, но остальное – твое.
Мозг у меня был как мокрая губка. Рот открылся.
– Но этого не может быть, – сказала я. – Сами знаете. Знаете, что я не Мари–Кристин.
– Я знаю, что ты – тот человек, которому Ксавье хотел передать контрольный пакет.
– Нет, – сказала я.
– Разумеется, пятая часть всегда принадлежала тебе. Ты этого не знала?
– Конечно, не знала.
– Твой отец завещал ее тебе перед смертью. У меня одна пятая. Ксавье, как сын, оставшийся на хозяйстве, владел двумя пятыми и потом выкупил долю у Гастона. Так что четыре пятых Ружеарка теперь принадлежат тебе.
Я тупо смотрела на нее.
– Ксавье говорил с адвокатом на следующий день после обследования в больнице, – продолжала она. – Он настоял на том, чтобы в завещание не вносилось больше никаких крупных поправок. Я спорила, что, возможно, ты не захочешь такой ответственности: ведь у тебя своя жизнь в Англии. Чепуха, сказал он, все должно перейти Мари–Кристин.
– Да, Мари–Кристин, – прервала я ее. – Но не мне.
Она покачала головой.
– Нет. Именно тебе. Давай не будем путать. Он говорил о тебе.
– Да, но какая разница? Я не Крис. Крис умерла. И принять это все… принять в подарок Ружеарк – это же криминальное преступление, мошенничество.
– А притворяться другим человеком в течение четырех недель – не мошенничество?
– Ну, это не одно и то же, так ведь? – Я потерла распухшие веки, но тщетно, ясности в голове не прибавилось. – Не понимаю, – промямлила я, – почему вы позволили мне морочить вам голову.
Она хмыкнула, будто не веря, что можно не понимать таких элементарных вещей.
– Сама знаешь почему, – сказала она. – Разве можно было лишать его иллюзий? Он был так счастлив. Я видела его лицо, когда вы приехали. Как я могла сказать ему, что женщина в машине – не Мари–Кристин? Конечно, надо было выяснить, кто ты. Я сделала запрос в больнице и пришла к заключению, что ты, возможно, та самая англичанка, которая исчезла именно в то время и которую так и не нашли. Я поняла, что ты просто не желаешь «находиться» и считаешь Ружеарк подходящим местечком, чтобы спрятаться.
– Я не хотела, чтобы все так случилось, – жалко сказала я. Извиняться все равно было поздно.
– Да, но ты и не пыталась прекратить это, правда? Ты нашла себе убежище, сделала свой выбор и теперь должна нести ответственность за последствия.
Я закрыла руками лицо.
Она потянулась через стол и тронула меня за локоть.
– Не думай, что я тебя осуждаю. Мари–Кристин. Все получилось как нельзя лучше, для всех нас. Я много лет не видела Ксавье таким счастливым. Франсуаза расцвела на глазах. Селесте, наконец, щелкнули по носу, а это совсем, неплохо. Что же касается Гастона… – она пожала плечами и убрала руку, – с того момента, когда он сделал вид, что узнал тебя, – тогда, в кухне… – Вместо того, чтобы закончить фразу, она мягко, понимающе усмехнулась.
– Но я не Мари–Кристин, – процедила я сквозь сжатые зубы.
Она улыбнулась.
– Ой, не глупи. Все знают, что ты Мари–Кристин. В больнице, в городе, в банке, твои кузины – все. Они могли бы поклясться в этом. И я поклянусь. И Гастон. – Ситуация перевернулась с ног на голову. Теперь, когда я, наконец, пытаюсь признаться, что я не та, за кого меня принимали, это никому не нужно. – Ив заключение нашей маленькой беседы скажу, что даже полиция, думаю, могла бы в этом поклясться. Мы без проблем найдем необходимых свидетелей.
– Свидетелей чего?
– Того, что ты – это ты. Так положено по закону. Прежде, чем ты сможешь вступить в права наследства.
– Но я не могу вступить в права наследства, – возмутилась я так громко, что она приложила палец к губам. Послушно понизив голос, я сказала: – Зачем вы стали убеждать полицию, что я – Мари–Кристин, когда прекрасно знали, что это неправда?
– Ты бы предпочла, чтобы я сказала: «Нет, это английская домохозяйка, удравшая от мужа?» Я сделала это потому, что Ксавье ты нужна была именно как Мари–Кристин. И не думай, что ты сыграла главную роль в этом спектакле, ничего подобного. Ты просто вовремя подвернулась под руку, когда в этом возникла нужда, вот и все. Я поднялась.
– Мне нужно уезжать. Она приподняла бровь.
– Сейчас? Глупости. У тебя, по крайней мере, должно хватить храбрости остаться на похороны. Иначе это будет выглядеть очень странно.
– Да, конечно, – пробормотала я. – Простите. – И села.
Потом она прервала молчание, заговорив более мягким, почти уговаривающим тоном:
– Давай взглянем на это логически. Как это может быть мошенничеством, когда никто не пытается оспаривать завещание? И не станет пытаться. Ни за что. Мы рассказали всему миру, что ты Мари–Кристин, и вряд ли теперь пойдем на попятную и начнем это отрицать. Кроме того, – продолжала она, – как это, интересно, возможно – обвинять кого‑то в том, что он с помощью обмана взваливает себе на плечи чужие долги? Потому что именно это ты и унаследуешь – долги. Поместье на грани банкротства. Если ты попытаешься продать свою долю, ты ничего не выиграешь. Такие дела. Знаешь, что ты получаешь в наследство? Камень на шею, обузу, отнимающую время и деньги. Это все, что у нас есть, но Ксавье любил Ружеарк.
– Я тоже люблю, – промычала я сквозь прижатые к лицу ладони.
– Знаю, что любишь, – сказала она.
– А как же Гастон?
– Гастон? Ой, да Гастону меньше всего на свете нужно такое бремя. Он много лет назад продал свою долю Ксавье. Ему нужны были деньги, чтобы помочь Сандрине начать собственное дело. Нет, его жизнь – море; он ни на что его не променяет. Селеста только и ждет, чтобы уехать в Париж. Побежит за первым встречным. А Франсуаза… Она славная девушка, но… – она пожала плечами. – Он был весьма практичным человеком, наш Ксавье. Он знал толк в подобных вещах, и хотел, чтобы Ружеарк достался тебе. И никому другому. Он его тебе доверил. Помни это.
– Благодарю, – прошептала я. Я боялась поднять на нее глаза – боялась, что снова начну реветь, но ей было не до сантиментов. Дело – прежде всего. Она дала мне ясно понять, что я меньше всех имею право на разные увертки.
Она сказала, что не находит ни малейших причин, почему, ради общего блага, я не могу продолжать играть роль Мари–Кристин.
– Я вам объясню почему, – сказала я. – Потому что Крис тоже была в бегах, и прошлое быстро ее догоняет. Думаю, в течение двух–трех дней меня могут арестовать.
Поразительно, как стойко она перенесла шок. Но возможно, я ошиблась и никакого шока у нее вообще не было. Возможно, она намного лучше меня представляла, чем занималась Крис.
– Понятно, – сказала она.
– Ив этом случае, – продолжала я, – у меня не останется выбора. Придется признаться полиции, кто я.
Она кивнула. Видно было, как она напряженно думает.
– Но и здесь не все так просто, – объясняла я. – Потому что прошлое Маргарет Дэвисон тоже настигает ее.
И тут она снова меня удивила. Она рассмеялась.
– Так что я совсем запуталась, – сказала я и встала. – На похороны я останусь…
– Да, – рассеянно сказала она, погруженная в свои мысли. – Да, полиция вряд ли предпримет какие‑либо действия до похорон.
– … но потом мне придется уехать. Простите. Мне бы так хотелось остаться. И стать хозяйкой Ружеарка.
С этими словами я вдруг ощутила, что ухаживать за поместьем вместо дяди Ксавье – это почти то же, как если бы он сам был здесь, почти то же самое, и от этой двойной потери мне стала еще горше.
Tante Матильда тоже поднялась – и расцеловала меня в обе щеки.
– Он доверял тебе, верил, что ты все сделаешь правильно. – И добавила так, словно эта мысль приятно ее удивила: – В конце концов, что такое имя? Ничто.
Настало прекрасное утро, прохладное и освежающее. Худосочная трава на лужайке была влажной от росы. Капли воды стекали на лепестки измученных жаждой цветов. Солнце сверкало в окнах. Босая, я бродила по влажной траве, полами халата задевая крапиву и ярко–голубые копья воловика. Мне хотелось обойти границы владений, прежде чем кто‑то другой заявит на них права. Я щурилась на серебристые башни. Он все это отдал мне. Камни, деревья, кусты, травы – все, начиная с просторных помещений замка и кончая гравием на дорожках размером с горошину, все было моим. Все, что попадало в поле зрения. Скалы, лес, каменный бассейн, поля, мельчайшие создания, самые крошечные растения, все, что живет и дышит, козы, куры, бабочки, цикады, даже муравьи, даже червяки – он все подарил мне. Они были моими. Я унаследовала его королевство. И хотя я ничего не могла с этим поделать, оно все равно было моим.
Следующие несколько дней, пока не прошли похороны, замок был закрыт для посетителей. Мне пришлось посвятить большую часть времени ферме. Я или сидела в кабинете, или удирала куда‑нибудь с глаз долой – в поля или на сыроварню. Tante Матильда оказалась права: полицейские из уважения вряд ли начнут дальнейшие расспросы до конца похорон, но один Бог ведает, что может сделать Тони, если тот человек, которого я встретила во время праздника, был Тони. Я‑то не сомневалась, но ведь я легко могла ошибиться. Он стоял в тени, тот человек, позади толпы, а я в тот момент была сама не своя, так нервничала. Вполне могла ошибиться. И человек, задававший обо мне вопросы в банке, тоже совсем не обязательно был Тони. Зачем ему это? Зачем Тони станет расспрашивать о Мари–Кристин Масбу во французском банке? Скорее уж это был кто‑нибудь из коллег Пейроля.
Меня раздражало, что приходится ломать голову над этой чепухой: все это теперь не имело ко мне отношения. Беспокоиться нужно было о вещах гораздо более важных: например, что земля как ни в чем не бывало, продолжает крутиться без дяди Ксавье, словно не заметив этой утраты, как будто его здесь и не было. Козы должны были зачахнуть и отказаться от еды. Оглушенные горем птицы – замертво падать с деревьев. Река – прекратить свой бег по руслу. Но этого не случилось. Всем было все равно. Эгоизм природы, ее равнодушное, упорное, непрерывное стремление вперед, ее неспособность понять всю огромность постигшей ее утраты приводила меня в ярость. Я слышала, как он ворчит у меня в голове: