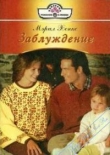Текст книги "Лгунья"
Автор книги: Валери Виндзор
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Что смеешься? – спросил дядя Ксавье.
Он выгружал из багажника чемоданы.
Я смеялась над собственной шуткой, не предназначенной для чужих ушей. Если бы меня, как в школьном сочинении, попросили описать «дом», я была бы вынуждена дать описание нашего дома на две семьи на Бирчвуд–роуд в Хэнли; но это… Это было именно то, что я понимала под словом «дом», материализовавшийся плод моего воображения. Кульминация целой серии преследовавших меня, начиная с искусственных цветов на улице Франциска Первого, забавных знаков судьбы, которые, будучи сами по себе незначительными и случайными, безошибочно привели меня – или мне это только казалось, пока я стояла под серебристыми башнями, – к этому самому месту. Я, разумеется, понимала, что все это полная чушь. И не просто чушь. Хуже. Это была часть некоего замысловатого оправдания, которое я сочинила, чтобы простить себя за то, что так далеко зашла. Но та мысль все равно меня насмешила.
Из открытой двери вышла женщина и остановилась на верхней ступеньке.
– Матильда, – сказал дядя Ксавье. – Voila. Иди, познакомься с Мари–Кристин.
Не знаю почему, но мысль о присутствии еще одного человека, с которым надо будет уживаться и строить какие‑то отношения, даже не приходила мне в голову. Я была совершенно сбита с толку. Она была в черном, эта женщина. Она долго смотрела на меня без всякого выражения. Я стояла перед ней в парусиновых туфлях со смятыми пятками, в джинсах, с волосами, забранными резинкой, и чувствовала себя глупее некуда.
– Elle a perdu tout son framais [62]62
Она растеряла весь свой французский (фр.).
[Закрыть], – сказал дядя Ксавье, хихикая над моей беспомощностью. Он подтолкнул меня к ступеням. – Входи, входи, – сказал он.
– Мы вам очень рады, – сказала женщина. И внезапно нагнула голову, как ястреб, заметивший движение в траве. До чего глупо было с моей стороны не учесть, что у него может быть жена. – Вы, должно быть, устали, – сказала она по–английски с изящным акцентом и официально поцеловала меня в обе щеки.
– Да, – сказала я. – Устала.
– Тогда позвольте, я провожу вас наверх. Я отвела вам комнату, где когда‑то спали ваши родители. Помните?
– Ничего она не помнит, – сказал дядя Ксавье. Холл был просторный и скромный и такой же прохладный, как приветствие этой женщины. Она повела меня вверх по низкой, не покрытой ковром каменной лестнице.
– А где все? – спросил дядя Ксавье. – Почему не встречают?
Все? Тут еще кто‑то есть? И сколько же их?
– Я подумала, что Мари–Кристин приедет уставшая и ей будет трудно сразу со всеми перезнакомиться, – сказала женщина, которую Крис, видимо, называла бы tante [63]63
Тетя (фр.).
[Закрыть]Матильда. По–французски она добавила: – Франсуазу я послала в Фижак, в банк. А Селеста повела детей купаться.
Она открыла тяжелую резную дверь.
– Voila, – сказала она. Комната была громадной, на обоях голубели гигантские, как кочаны капусты, розы.
– Красиво, – сказала я. Действительно красиво. Два высоких окна с эркером выходили в небольшой сад. В траве стояли два шезлонга. Под одним из них растянулась сонная серая кошка. – Какая красивая комната.
– Чаю? – спросила tante Матильда.
– Лучше чего‑нибудь холодного.
Она кивнула.
– Ванная комната – следующая дверь по коридору. – Она критически оглядела меня. – Отдохнешь перед обедом или предпочитаешь выпить в саду?
– Она должна отдохнуть, – сказал дядя Ксавье. – Ты должна отдыхать. Каждый день. И есть. И толстеть. Мы тебя вылечим.
– В таком случае, – сказала tante Матильда, – принесу минеральной воды. Или чего‑нибудь другого?
– Нет, это будет в самый раз.
Она не сводила с меня неподвижных, холодных, тревожных глаз.
Дядя Ксавье поставил чемоданы на маленький обитый сундук.
– Нет, нет и нет, – сказал он. – Побудь здесь, поговори с Мари–Кристин. Я сам принесу минеральной воды, – он улыбнулся мне. – Только погляди на ее глаза, – сказал он tante Матильде. – Совсем как у матери.
Tante Матильда бросила на него острый взгляд, словно он мышь–полевка, которую она заметила далеко в поле.
– Au contraire [64]64
Наоборот (фр.).
[Закрыть], – сказала она. – Я как раз думала о том, насколько она не похожа на родителей.
– Разве ты не замечаешь ее сходства с матерью? – Дядя Ксавье взглянул на нее с удивлением.
– Ни малейшего, – сказала tante Матильда. – Цвет глаз, цвет волос, черты лица – все другое. – По–французски она сказала жестче: – Ее мать была красивая женщина. И очень глупая.
Я подумала о своей маме, о ее мышиного цвета, мелко завитых волосах и беспокойном, вечно усталом лице, и мне стало обидно. Как смеет эта женщина называть ее глупой.
– II faut que je vous dis que je n'ai pas com‑plitement oubli mon framais [65]65
Нужно вам сказать, что я не совсем забыла свой французский (фр.).
[Закрыть], – сказала я с негодованием и, скорее всего, с ошибками. А потом вспомнила, что возмущение мое совершенно необоснованно. Они не мою мать обсуждали.
Tante Матильда туманно улыбнулась, словно давая понять, что не стоит и пытаться вникать в то, что я там бубню. Она пробормотала что‑то о делах на кухне и вышла. Дядя Ксавье откашлялся.
– Не обращай внимания, – сказал он. – Моя сестрица очень чувствительная особа.
Его сестрица?
– Она злится за то, что я не взял ее, когда за тобой поехал. – Он протянул ко мне руки. Я заметила в его глазах слезы. Он крепко обнял меня и поцеловал. – Добро пожаловать домой, Мари–Кристин, – с чувством проговорил он.
СЕРЕДИНА
Когда дядя Ксавье ушел, я легла поперек кровати, свесив ноги, и долго разглядывала голубые кочаны роз. Меня слишком вымотало путешествие, чтобы думать о вещах более существенных, чем частота повторения рисунка на обоях и точно ли он подогнан в углах. В голове было пусто. Перед глазами проплывали странные слова и фрагменты бессмысленных картин. Веки защипало, и вскоре бессмыслица начала подчиняться собственной неуловимой логике, и я тоже поддалась ей и позволила глазам закрыться. Бездумие – такой простой, такой соблазнительно легкий путь! Мне это замечательно удается.
Разбудил меня шум детских голосов. Маленькие часы на каминной полке показывали без двадцати пяти семь. Я не представляла, правильно они ли идут. Было жарко, одежда помялась. Во рту пересохло. Мои неудобные парусиновые туфли – парусиновые туфли Крис – валялись на полу, резинка для волос куда‑то запропастилась. Я перерыла всю кровать, но она бесследно исчезла. Снаружи, из сада, женский голос раздраженно крикнул: «Tarrictes‑toi [66]66
Прекрати (фр.).
[Закрыть]. Бригам».
Бригам? Какое необычное имя. Я подумала, может, она разговаривает с животным, с собакой, и встала посмотреть. Спряталась за занавеской и поглядела вниз. На выгоревшей траве, в шезлонгах, лежали две девушки. У той, сердитой, были волосы с бронзовым отливом и темные очки.
– Бригам – недовольно крикнула она, оторвав взгляд от журнала. В двух футах от нее на посыпанной гравием дорожке маленький мальчик подкидывал камни пластмассовой лопаткой. Он ненадолго прервал это занятие и посмотрел на нее с высокомерным любопытством, пытаясь угадать, на что она пойдет, чтобы его остановить. – Je t'ai dit: t'arnctesî [67]67
Я тебе сказала: прекрати! (фр.)
[Закрыть].
Она произносила его имя на английский манер, с ударением на первом слоге.
В саду было еще двое детей: мальчик лет семи, носившийся кругами по лужайке, и девочка поменьше с мокрыми волосами, на которой не было ничего кроме штанишек до колен, – она флегматично ездила за ним на пластмассовом трехколесном велосипеде.
Другая девушка лежала ко мне спиной и ладонью загораживала от солнца лицо. Я постояла у окна, наблюдая за ними. Бригам снова стал подбрасывать гравий. После нескольких бесцельных ударов ему стало скучно. Он набрал горсть камушков и швырнул в направлении лужайки. Один из них попал в щеку флегматичной девочке. Она взвизгнула и бросилась лицом в траву. Бронзоволосая отшвырнула журнал, ухватила Бригама за руку и звонко шлепнула по попе.
Я опустила занавеску и отошла от окна. Что же теперь делать? Идей не было. Чтобы убить время, я выпила минеральной воды – бутылку кто‑то оставил на столике у кровати, пока я спала, – и спросила себя, стоит ли распаковывать чемоданы. В раскладывании вещей было что‑то фатальное: это означало намерение остаться. До сих пор я нарочно ничего не загадывала наперед, вернее, вообще старалась не думать, если такое возможно. Поэтому я вытряхнула на кровать содержимое меньшего из двух чемоданов и немного повозилась с вещами, разворачивая их и встряхивая. Затем, особо не размышляя, начала вешать одежду в шкаф. Ты же не ждешь, в самом деле, что тебе это безнаказанно сойдет с рук, говорила я себе. Но пока‑то сходило. До этого момента. Люди просто из кожи вон лезли, чтобы объяснить мне, кто я такая. И вообще, уклончиво говорила я себе, надолго я тут не останусь: может, на денек–другой; пока не соберусь с силами, чтобы снова взвалить на себя груз Маргарет Дэвисон.
Я поглядывала на свое отражение в трюмо, смотрела, как хожу от кровати к шкафу, туда–сюда по дощатому, в пятнах, полу, по колено утопая в тени: худощавая, узколицая женщина, встряхивающая футболки, которые принадлежали Крис Масбу, расставляющая обувь – обувь, которая ей не подходит и никогда не подойдет. Смотрела, как эта женщина натянула кремовый шелковый халатик с дыркой под мышкой и пятном на животе, как она берет бледно–зеленый непромокаемый мешочек для губки и мыла. Выйдя за пределы зеркального пространства, я вновь соединилась с собою. Я стояла, держась за ручку двери, и умирала от страха: вдруг я кого встречу по пути из спальни в ванную! Нет, никого не встретила. Не считая серой кошки, приветствовавшей меня со всей неразборчивой любвеобильностью, свойственной этим эгоистичным созданиям, коридор был пуст.
Кошка последовала за мной в ванную, проскользнув между ногами. Я села на унитаз – на древнюю штуковину со стульчаком из красного дерева и цветочками по краю, – и мы уставились друг на друга, кошка и я. Смотрели долго, словно подозревая, что давным–давно знакомы. Потом, пока я мылась, она сидела на краю ванны, вероятно не меньше меня самой заинтригованная моим тощим, как скелет селедки, телом. Груди тряпично свисали с ребер – два пустых треугольных мешочка. Бедренные кости торчали, словно вот–вот прорвут кожу. Впервые в жизни живот у меня был впалым, и обвисшая кожа, вся в желтых и пурпурных кровоподтеках, мягкими, морщинистыми складками собралась над треугольником волос. И все равно, даже такое уродливое – а оно было весьма и весьма уродливо, – мое тело мне нравилось. Мне нравилось быть худой – словно очищенной до костей. Кошка мурлыкала, вероятно, принимая меня – оно и понятно – за недоеденную рыбу. Я думала, она пойдет за мной в спальню. Я не возражала, даже наоборот. Но она потеряла ко мне интерес. Осталась сидеть на краю ванны, не сводя пристального взгляда с того места, где я только что стояла, как будто все это время смотрела не на меня, а на что‑то другое, намного более интересное и интригующе бесплотное.
Я надела наименее мятую юбку Крис и белую футболку. Проблема с обувью частично разрешилась, когда я обнаружила пару индийских сандалий без задников: подошва держалась на переплетенных крест–накрест ремешках. Пятки у меня свешивались, но, если не считать жуткого стука, когда спускаешься по лестнице, обувка была вполне подходящая.
Внизу никого не оказалось, холл был залит лучами предвечернего солнца. Я долго слонялась по нему, не зная, куда податься. Пролистала стопку брошюр на столе. «Le Cheteau de Rougearc, – прочла я, – est situn sur le D21, au bas d'une falaise» [68]68
Замок Ружеарк расположен недалеко от шоссе D21, у подножия утеса (фр.).
[Закрыть]. Бегло просмотрела длинное сообщение об истории cheteau и потом от нечего делать углубилась в изучение параграфа, который начинался так: «Aprns ce bref ех–posft de Thistoire de Rougearc, il nous reste encore a рйnйtrer a l'intérieur du cheteau qui prifeente aussi beaucoup d'intmct» [69]69
После краткого экскурса в историю Ружеарка нам остается пройти внутрь замка, который тоже представляет большой интерес (фр.).
[Закрыть]. Но что именно «представляло интерес», я не поняла, поскольку там употреблялись слова, далеко выходящие за рамки моих детских познаний в языке. Так что я бросила брошюру и стала просматривать переплетенную в кожу книгу для посетителей, будто ничего увлекательнее в жизни не видела. Надо же, сколько здесь побывало англичан. Род и Джеки Вудвард из Кройдона. Семья Линчей из Эшфорда, графство Мидлсекс: «Очень познавательная и веселая экскурсия. Большое спасибо». Боб и Перл Свифт из Кливленда. «Приятно подлечить здесь натертые седлом места», – написал Боб – или Перл – в колонке отзывов. Кого, по их мнению, могут заинтересовать их натертые места? Поразительно, чего только люди не понапишут! Вскоре меня так увлекло чтение дурацких и бессмысленных замечаний Эйлин и Хью Роттер из Карлайла, Тоби и Дженни Плит из Беркса – «Чудесный готический свод. Истинное наслаждение», – что я оказалась за многие мили отсюда, хихикая про себя. И ничего не слышала.
– Заблудилась? – спросила tante Матильда. Она неслышно вышла из тени. Я подскочила на месте. Чувствовала себя так, словно меня застукали за чтением ее личных писем. Она несла две покрытых пылью бутылки вина: наверное, поднималась из подвала.
– Я тут смотрю книгу отзывов.
Она кивнула.
– Да, здесь масса интересного. У нас много иностранных туристов побывало. Твои кузины в саду, – сказала она. – Venez [70]70
Пойдем (фр.).
[Закрыть].
Она повела меня через огромную столовую, полную старинной мебели и серебра. Все, кроме узкого прохода, было огорожено веревкой. Явно часть экспозиции. В дальнем конце, между двумя потертыми гобеленами, находилась дверь с надписью «Privw» [71]71
Посторонним вход воспрещен (фр.).
[Закрыть]. Я проследовала за tante Матильдой в коридор. На беленой каменной стене висели пальто. Стеллажи прогибались под весом цветочных ваз и вещей, которым не нашлось другого места. На полу лежали два барабана, куча обуви, игрушки и старые журналы. Коридор был ярко освещен солнцем.
– Кузин ты, разумеется, тоже не помнишь, – сказала tante Матильда.
Дверь в конце коридора вела во внутренний дворик. Девушка в темных очках так и лежала, растянувшись на шезлонге, но вторая теперь стояла на коленях в траве, пытаясь приладить колесо на трехколесный велосипед. Обе подняли головы.
– Позвольте вас представить, – сказала tante Матильда. – Мари–Кристин, твоя кузина, Франсуаза.
Девушка, стоявшая на коленях, – она была к нам ближе – встала. Ее волосы серого мышиного цвета были забраны назад заколкой. Она носила очки в светлой оправе, казавшиеся на ее лице огромными.
– Ma cousine, – сказала она и расцеловала меня в обе щеки. Я нервничала по поводу ее очков: боялась задеть. Она тоже. Без конца их поправляла. От нее пахло чем‑то чистым, детским. Она застенчиво улыбалась. Мы обе не знали, что сказать.
Бронзоволосая девушка с элегантной стрижкой поднялась с шезлонга.
– Мари–Кристин, – сказала она.
И тут я насторожилась: чем ближе она подходила, тем больше я видела в ней сходства с Крис, – то же телосложение, тонкая кость, тот же овал лица, тот же нос, линия подбородка, те же короткие волосы и длинная шея. Эта похожесть нервировала меня, но недолго. Сходство было только поверхностным, физическим. Та внутренняя сила, которая проявлялась в Крис в таких качествах, как мужественность и беспечная самоуверенность, у бронзоволосой превратилась в самомнение и чисто женскую элегантность.
– Ужасная авария, – сказала она, осторожно поцеловав меня; слегка коснулась щекой, словно душистая бабочка пролетела рядом. Она оглядела мое лицо в шрамах и повторила: – Ужасная авария. – Она говорила по–английски с американским акцентом.
– Моя младшая дочь, Селеста, – говорила tante Матильда. – А это мои внуки…
Дети, как осторожные зверушки, подошли на меня поглазеть.
Селеста представила их. Ричард, Зоя и бросатель гравия Бригам. Они таращились на меня с тем же напряженным и поддельным интересом, что и кошка. Я не знала, целовать их или только пожать руки.
– Поцелуйте свою кузину, – сказала tante Матильда по–французски. Никто из них не жаждал моих поцелуев: они морщились и отворачивались. Когда процедура была позади, они унеслись прочь, к своим велосипедам и уединенным играм с камнями.
– Attention [72]72
Осторожно (фр.).
[Закрыть], Зоя, – машинально сказала Селеста.
– Вы трое, – сказала tante Матильда, – когда‑то вместе играли.
– Боюсь, у меня ужасная память, – нервно пробормотала я. – Ничего не помню.
Три женщины стояли, расположившись, как три стороны света на компасе, наблюдая за четвертой. Я видела: каждая из кузин пытается связать меня нынешнюю со своими воспоминаниями о восьмилетней девочке, игравшей с ними на лужайке. Tante Матильда слегка покачивала головой, словно результат ее не радовал. Селеста смотрела на мою мятую юбку и не подходящие по размеру сандалии. Интересно, что мне делать, если одна из них скажет: «Погоди‑ка, да ведь ты не Мари–Кристин. Ты совсем на нее непохожа». Я ждала, что это произойдет с минуты на минуту. Наверное, я все время ждала этого, и, честно говоря, мне было бы не так тяжело и не так страшно, если бы с меня сорвали маску именно сейчас, когда под этой маской до сих пор спрятана еще одна. Лучше сейчас, чем когда вообще никакой не будет. Итак, я ждала, бессмысленно глядя на сухие стрелки травы под ногами, но ни одна из них троих ничего не сказала. Я тоже молчала. Я уже открыла для себя, что больше не переживаю из‑за вечной необходимости всем нравиться. Зачем? Ведь оценивают не меня. Так что затянувшееся молчание меня не смущало. Наконец Франсуаза прервала его, задав нервный и вежливый вопрос о том, как я доехала.
– Maman, j'ai faim [73]73
Мама, я хочу есть (фр.).
[Закрыть], – крикнул старший мальчик, выписывая вокруг нас круги.
– Веди детей в дом, Франсуаза, и вымой им руки, – сказала tante Матильда.
Мы поели, не в шикарном обеденном зале, а на кухне – в прохладной, сводчатой комнате с каменными стенами, оставшимися, видно, еще от старинной постройки. Мы уже наполовину расправились с салатом из сырых овощей, когда появился дядя Ксавье, принеся с собой запах овечьей шерсти и горячей травы. Усевшись, он дотянулся до моей руки, сжал ее и улыбнулся, его усталое лицо сияло от радости. Зубы у него были крепкие и очень ровные. Он сразу углубился в долгую беседу с tante Матильдой, сидевшей на другом конце дощатого стола. Говорили они то ли об оленях, то ли о козах: я не могла понять, потому что забыла, что значит chuvre, но, поразмыслив хорошенько и принюхавшись к слабому запаху, исходившему от дяди Ксавье, решила, что разговор шел все же о козах.
– Вы держите коз? – спросила я.
– Держим, – сказал он, переходя ради меня на английский. – Коз. Овец. Кур. Пчел. Гусей. Мы делаем сыр, мед, паштет…
– У твоего дяди ферма, – сказала tante Матильда, – а мы организуем экскурсии.
Селеста зевнула. И прижала ко рту кончики пальцев с лиловыми ногтями.
– Не понимаю, почему нельзя, чтобы люди сами ходили и смотрели, – пожаловалась она. – В Англии так и поступают.
– В Англии, – фыркнула tante Матильда. – В Англии чего только не творят. – Вдруг она перешла на французский. – Их не интересует искусство, этих англичан. Архитектура не интересует. Как и история. Их занимает только футбол и политика. Кроме того, стоит позволить людям без надзора слоняться по замку, и они начнут воровать. – Но в ее устах это прозвучало скорее как похвала французам, мол, французов вкус не подводит, они знают, что стоит красть.
Я сделала вид, что не понимаю.
Дядя Ксавье взял свой бокал.
– Предлагаю тост, – сказал он. – За Мари–Кристин. За ее выздоровление.
Бокалы поднялись в воздух. Я всех одарила улыбкой. Внезапно вспомнилась картина: мы с Крис сидим в ресторанчике за бутылкой вина и улыбаемся друг другу, как заговорщики.
«Погляди на меня теперь, Крис. Разве это не странно?» – спросила я про себя.
Селеста положила на стол вилку.
– А ты долго собираешься у нас пробыть? – спросила она.
– Сколько захочет, столько и побудет, – сказал дядя Ксавье. – Это ее дом.
Селеста поджала губы. Ее искусно подкрашенные коричневыми и золотыми тенями веки опустились, как заслонки. Она отставила тарелку.
– Пару дней, – сказала я. И. к своему удивлению, добавила: – Может, с неделю.
– Нет, нет и нет, – сказал дядя Ксавье. – Дольше. Тебе нужно как следует поправиться.
Бригам поднял шум, стараясь при помощи ножа и вилки справиться с тертой морковью.
– Tais‑toi [74]74
Замолчи (фр.).
[Закрыть], Бригам, – раздраженно сказала Селеста.
Франсуаза наклонилась и помогла ему.
– Бригам, – сказала я. – Какое необычное имя.
Все подняли глаза от тарелок. Селеста посмотрела на меня.
– Американское. Мой муж – американец. В армии служит.
– Правда? – вежливо спросила я. – Расположение его части где‑то рядом?
– Он в Штатах, – ответила Селеста. Она подавила еще один зевок, давая понять, что эта тема ей бесконечна скучна, и добавила: – Мы живем раздельно.
– А–а, – сказала я. – Понятно.
Tànte Матильда постукала себя по верхней губе и сказала:
– Франсуаза, у тебя что‑то прилипло. Кусочек салата.
Франсуаза вспыхнула и вытерла рот салфеткой.
– Так‑то лучше, – сказала tante Матильда.
– Ты хорошо знакома с Америкой? – спросила Селеста.
– Никогда там не бывала, – ляпнула я. Непростительная ошибка.
Глаза ее расширились от удивления.
– Никогда не бывала? А я думала…
Я готова была себя укусить. Коммерсанты летают в Штаты чаще, чем я захожу в продуктовый магазин.
– М–м, ну да, страна как страна, ничего особенного, да, – быстро проговорила я. – Нью–Йорк и… гм… что там еще‑то? Лос–Анджелес. Но кроме этого…
– Я когда‑то жила в Нью–Йорке, – сказала она. – У нас была квартира на Верхней Сорок Четвертой. Знаешь это место?
– Не очень, – ответила я. Хоть бы кто‑нибудь сменил тему.
– Знаешь магазинчик на углу Сорок Четвертой и…?
– Я помогу, – сказала я Франсуазе, собиравшей тарелки, но дядя Ксавье поймал меня за руку и потянул вниз.
– Сидеть, – приказал он мне, как собачонке. Я села. Он одарил меня лучезарной улыбкой. – Ты в отпуске, – сказал он. – Пусть этим займется Франсуаза, – он сжал мне руку. – Ты не работаешь. Ты отдыхаешь. А мы проследим.
Селеста разглагольствовала о том, до чего вкусны мясные закуски в этом нью–йоркском магазинчике, который я должна была знать. Я облегченно вздохнула, когда Франсуаза вернулась с блюдом ароматной свинины. Мне она передала блюдо первой.
– Ну а ты что же? – спросила я, кладя себе кусок.
– Я? – На ее нижней губе было два маленьких пятнышка там, где она то и дело покусывала кожу.
– Чем ты занимаешься?
– Ничем, – она нервно поправила очки. – Ну, готовлю. Провожу экскурсии. Хочешь, завтра покажу тебе все? Ты, наверное, забыла.
– Она все забыла, – сказал дядя Ксавье. – Напрочь. Голова как решето. – Он засмеялся и наполнил мой бокал. Моя память стала для него предметом постоянных шуток. Если бы она внезапно пробудилась – чего, разумеется, не случится, так что он может быть спокоен, – думаю, его ждало бы разочарование.
– Как это «ничем»? – вскинула бровь Селеста. – Весь день, без передышки одно и то же, скука смертная. – Кривляясь, она пробубнила: – «Remarquez aussi des meubles Renaissance…» [75]75
Обратите также внимание на мебель эпохи Ренессанса (фр.)
[Закрыть]
– Нет, я имела в виду – по сравнению с Мари–Кристин, – сказала Франсуаза. – Ничего похожего на ее работу.
– Да, но Мари–Кристин всегда была умницей, – сказал дядя Ксавье. – Вечно пропадала с книжкой.
– Вечно попадала в неприятности, – сказала tante Матильда. Дядя Ксавье издал протестующий звук. Она не обратила на него внимания. – Оно и понятно, в Англии дети растут без присмотра, как сорная трава.
– В Америке еще хуже, – произнесла Селеста, с неприязнью взглянув на собственных детей, хотя во время обеда их было почти не слышно. – В Англии их просто игнорируют, в Америке же балуют донельзя. – Я подумала, что если говорить об игнорировании детей, то она с этим отлично справляется. Она курила, пока Франсуаза разрезала для Зои мясо.
– Конечно, Эрве всегда был умнее нас, – сказал дядя Ксавье. – Ты унаследовала его мозги, Мари–Кристин. А я был тупицей. Тупым фермерским мальчишкой. – Он постучал себя по седеющей голове. – Пусто, – сказал он и рассмеялся.
Это была интересная и полезная информация – выходит, отца Крис звали Эрве.
– Еще фасоли, Мари–Кристин? – спросила Франсуаза.
– Крис, – сказала я. Для меня произнести «Мари–Кристин» – все равно что пытаться говорить с набитым ртом. – Зовите меня Крис.
– Только не здесь, – сказала tante Матильда. – Здесь ты Мари–Кристин. – Не допуская возражений, она повернулась к Селесте, и они заговорили по–французски, для меня слишком быстро и сложно – речь шла о каких‑то брошюрах, которые Франсуаза забрала из типографии. Я почувствовала усталость. И перестала вслушиваться.
Мы пили кофе на кухне, детей отправили спать. За окнами незаметно стемнело. Разговор о брошюрах давно исчерпал себя. Повисла напряженная тишина. Селеста время от времени деликатно зевала и курила, гася сигареты с испачканным помадой фильтром задолго до того, как они кончались. Франсуаза беспокойно мяла кусок хлеба и застенчиво мне улыбалась. Tante Матильда мелкими глотками отпивала кофе из маленькой чашки, которую держала в ладони, сложенной ковшиком. Дядя Ксавье периодически дотрагивался до моей руки, словно желая удостовериться, что я и в самом деле физически существую, – собственно, только этим я и могла похвастаться – физическим существованием. Тоненький голосок у меня в голове – далекий–далекий, на грани слышимости – шептал: «Ты обязана сказать им. Они имеют право знать, что Мари–Кристин мертва». Но голос более близкий, утешающий, согретый вином, мудрый голос, говорил: «Не будь дурой. К чему без надобности травмировать людей?» – и я послушалась этого голоса, потому что он казался более благоразумным, чем тот, другой. Достаточно взглянуть на дядю Ксавье, чтобы увидеть, как ему радостно, оттого что рядом сидит его племянница. И племянница из меня получалась довольно сносная: я видела, что нравлюсь ему. Настоящая, может, и вполовину бы так ему не понравилась. Я посмотрела на него с нежностью.
– Ты устала, – сказал он, окинув меня пристальным взглядом.
– Да, – сказала я. Меня охватывало какое‑то глупое счастье, когда он посвящал меня в эти милые интимные подробности моей жизни.
Я лежала в темноте на кровати. Оба окна были распахнуты. Небо ломилось от звезд, они слабо мерцали сквозь легкую дымку. Я вытянулась на покрывале, разглядывая свое длинное бледное тело. Я слишком вымоталась, чтобы уснуть. В голове гудело. Чтобы заглушить этот гул, я проглотила две обезболивающие таблетки из тех, что дал мне с собой доктор Верду, но они не помогли. Я не могла оторваться от фотографии Тони, которую вырезала из газеты «Сан», где он стоял с опущенными плечами и закрывал руками лицо – осиротевший, горюющий муж. Горевал ли он по–настоящему? Он часто повторял, что без меня пропал бы, но я принимала это за ненавязчивый шантаж, нечто вроде предупреждения.
– Ты меня любишь? – спрашивала я его иногда. Меня интересовало, что именно, кроме привычки с его стороны и страха с моей, удерживает нас вместе в этом доме на две семьи на Бирчвуд–роуд.
– Ну, конечно, люблю, – отвечал он.
Мне было необходимо постоянное подтверждение. Если он и в самом деле любит меня, рассуждала я, тогда это объясняет, что я здесь делаю. Вероятно, это было достаточным оправданием, так как означало, что на мне лежит огромная ответственность, следовательно, я должна остаться с ним и продолжать пылесосить ковры и готовить пищу. Так что его ответ служил мне чем‑то вроде булавки, которая удержит меня в этом доме. И за это я была очень ему благодарна. Мне приходилось так часто задавать ему этот вопрос, что иногда он терял терпение. Оно и понятно.
– Ради всего святого, – говорил он, – ты же знаешь, что люблю. Я постоянно тебе твержу об этом.
Что, правда, то, правда. Он иногда говорил об этом и без подсказок, просто так. Но мне это было очень нужно. Чтобы меня заставили остановиться, пригвоздили к месту и придали моей жизни какой‑то смысл.
Плакал ли он, узнав о моей «смерти»? Что это за мужчина, которого легко довести до слез? Я всего дважды заставала его за этим занятием, и оба раза по моей вине, ему тогда было шестнадцать. Дважды на моих глазах он разразился неудержимыми, безыскусными слезами. Я не на шутку перепугалась. Глубина его чувств приводила меня в такое смятение, что мне делалось дурно. Я пыталась дотронуться до него, хотя бы к плечу прикоснуться, но он уклонялся. Я не знала, чем его успокоить. Не понимала, как можно так самозабвенно рыдать и вместе с тем отвергать единственный источник утешения. Наверное, он считал, что раз я сама причинила ему боль, то вряд ли смогу помочь. Но мне, по той же самой причине, казалось, что кроме меня ему никто не поможет. Так что мне ничего другого не оставалось, как совершать привычную церемонию: умолять о прощении и терпеливо сносить последующее за этим мягкое наказание. Бедный Тони: его чувства настолько сложнее моих! Мои‑то намного проще. Порой мне кажется, что у меня всегда было только одно чувство. Да, иногда мне приходит в голову, что единственное чувство, которое я когда‑либо испытывала, – это страх. Конечно, это эмоциональное состояние с довольно широким диапазоном: сюда входят любые твои ощущения от легкой тревоги до леденящего ужаса. Даже счастье – всего лишь временная передышка от страха.
Плохо другое: я не могла представить его одного, без себя. У меня до сих пор возникает ощущение, что на самом деле я лежу сейчас на нашей двуспальной кровати в комнате на Бирчвуд–роуд и жду, когда он выйдет из ванной. Это, по крайней мере, казалось более вероятным, чем то, что я устроила маскарад в средневековом французском замке, присвоила имя другого человека и жду когда жестокий тиран сознания ослабит свою хватку.
Когда‑то, давным–давно – я намеренно употребляю милые сердцу слова, которыми начинаются сказки, ибо это и есть сказка, – по поручению Тони я посетила компьютерный магазин в Стоке: ему понадобилась какая‑то программа. Был безумно жаркий день, один из тех. когда собственная кожа тебе не по размеру, когда плоть твоя, бледная и потная, вызывает в тебе омерзение, когда из‑за любой ерунды ты готова скрежетать зубами. Я чувствовала: еще немного – и я просто умру. Я шла уже целую вечность, пытаясь отыскать этот чертов магазин. Тротуары были запружены группами медлительных девушек с распухшими ногами и влажными пятнами под мышками и толпами молодых людей в рубашках с коротким рукавом, которые жевали чипсы и жадно пили баночное пиво.
Когда я, наконец, дотащилась до этого компьютерного магазина, парнишка, худой и бледный, как лишенное хлорофилла растение, сообщил, что дисков с нужной мне программой уже нет. Были, сказал он ломающимся голосом, но вчера продали последний. Вид у него был немного испуганный. Не знаю, что уж он обо мне подумал. Что я могла ему сделать‑то? У меня не было сил даже шевельнуться. Даже слово сказать. Я чуть не сдохла от досады. Бледный, лишенный хлорофилла мальчик нервно на меня поглядывал. Я стояла столбом посреди магазина, неожиданно – и весьма некстати – пораженная чудовищным, жестоким фактом собственного существования. Должно быть, со стороны это кажется странным – чтобы человек испытывал такое посреди бела дня в Стоке, но, хоть это и звучит неправдоподобно, где‑то же должно было настичь меня столь оригинальное открытие. И вот стою я на затоптанном ковре и думаю обо всех тех миллионах лет, когда меня не было на свете, и о том, как это замечательно – быть, и о тех грядущих миллионах лет, когда меня снова не будет, и едва не теряю сознание от ужаса – ужаса оттого, что меня без моего согласия вытолкнули – вот он, момент истины, результат бессмысленной катастрофы осознания, – в жизнь, в непрерывную череду дурных предчувствий, бесконечный поток малоприятных ощущений и изнурительных, смутных мыслей.