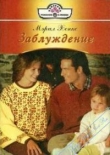Текст книги "Лгунья"
Автор книги: Валери Виндзор
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
– Есть, да. Но вместе с этим, а не вместо этого.
– У меня есть работа, – напомни лая.
– Работа – это хорошо, – сказал дядя Ксавье. – Но этого не достаточно. Женщине еще кое‑что нужно.
– Мужчина.
Он засмеялся.
– Вот именно. Мужчина. Мужчина – это как раз то самое «кое‑что». Я хочу, чтобы ты была счастлива, Мари–Кристин.
Это прозвучало очень банально, но сказано было так просто, с таким чувством, что у меня на глаза навернулись слезы. Непонятно, почему он вообще обо мне заботится. Он меня с восьми лет не видел.
– Больше всего я счастлива, когда одна, – честно сказала я.
– Ой, да это потому, что ты еще не встретила подходящего человека, – воскликнул дядя Ксавье. Он покачал головой и вздохнул. – Тридцать два. У тебя, наверное, отбоя нет от них.
– Я бы не сказала.
– Да брось ты. Взять хотя бы того рыжеволосого парнишку в больнице. Этого доктора. Он уже успел в тебя втюриться.
– Доктор Верду? – Я была поражена.
– Ну да, – сказал он. – Это невооруженным глазом было видно.
– Влюбился – в меня?
– Слава богу, я тебя вовремя увез. Он явно тебе не подходит.
Мы шли по полям в молчании, пока я переваривала эту мысль и в замешательстве пыталась взглянуть под новым углом на наши разговоры с доктором Верду.
– Как бы то ни было, я не верю в любовь, – в конце концов, выговорила я. Скорее всего, мы обе пришли к такому заключению – Крис Масбу и Маргарет Дэвисон. – По крайней мере, в такую любовь.
Дядя Ксавье остановился и вытаращился на меня в крайнем изумлении.
– Ты никогда не влюблялась? – спросил он. – Ни разу? Ни единого разочка?
Я тщательно поразмыслила над его вопросом.
– Нет, – наконец честно призналась я. – Ни единого.
Неодобрительно качая и потряхивая головой, он отправился к дальнему концу поля, где бродили несколько коз. Подобрал палку и согнал их в стадо.
– Ты, надеюсь, коз‑то не боишься? – спросил он, потому что я немного отпрянула, занятая своими мыслями. – Нет–нет. Моя Мари–Кристин ничего не боится, правда? Ни пчел, ни коз, ни каменных бассейнов – ничегошеньки. Моя Мари–Кристин не боится ровным счетом ничего – кроме разве что любви.
– Я не говорила, что боюсь влюбиться, – я тоже подобрала себе палку. – Я сказала только, что не верю в любовь.
Козы прыгали впереди, звеня колокольчиками, и надменно блеяли, когда натыкались друг на друга. Мы гнали их по тропинке к фермерским постройкам, хотя они явно знали дорогу и сами.
– По–моему, это всё мужчины выдумали, – сказала я. Хотя вовсе так не считала: вернее, эта идея только что пришла мне в голову, и я ее проверяла.
– Мужчины! – воскликнул дядя Ксавье, будто я каким‑то образом задела его честь. – Как так – мужчины? К мужчинам это не имеет никакого отношения. Это всё женщины.
Я засмеялась:
– Значит, вы тоже в любовь не верите.
Он покачал головой и пожаловался, что я его запутала. Эдак можно до чего угодно договориться, заключил он. Пустая болтовня.
Во дворе замка мы расстались. Он сказал, что пойдет принимать душ. Я вымыла голову, улеглась в прохладную ванну и стала отдирать корки со швов на ногах. Кожа под ними была розовая и неестественно гладкая. Потом я спустилась в сад и поболтала с Селестой, на довольно опасную тему – о Лондоне, городе, где я бывала всего дважды. Она хотела поговорить о магазинах.
– Нет, ты должна знать, – настаивала Селеста. – Это совсем рядом с Бонд–стрит. Ты же работаешь где‑то там, поблизости. Ты должна знать, как он называется.
– Все так быстро меняется, – туманно ответила я.
– Так где ты покупаешь одежду? – спросила она. – Мне нравится покрой твоей юбки.
Я пыталась вспомнить, что написано на этикетке. Хотя это мне ничего не говорило.
– То там, то сям, – промямлила я.
– В Америке? – глаза ее загорелись от восхищения и зависти. – Тебе нравится «Ральф Лорен»?
Я двусмысленно повела плечом, мол, мне все равно. Далее последовал длинный список дизайнеров – по крайней мере, я так поняла, что это дизайнеры, – в основном их имена были мне незнакомы. Я изобрела систему. Решила восторженно реагировать на те имена, которые звучали по–итальянски.
– Знаешь, ты права, – сказала Селеста. – У итальянцев – стиль.
Я пожала плечами, чтобы не зевнуть. Утомили меня все эти прогулки. Я испытала облегчение, когда подошло время ужина. Солнце спускалось все ниже. Прожаренная земля остывала. Предвечерний аромат томимых жаждой цветов вливался в открытые окна. Стало темно и прохладно. Но дядя Ксавье все не унимался. Он наполнял наши бокалы. Он говорил, смеялся, с важным видом расхаживал по комнате, изображая в лицах победную схватку со своим старинным врагом, с которым встретился нынче утром. Когда мы закончили есть и сидели, разомлевшие от вина и солнца, слишком уставшие от тяжелой работы (а в моем случае – от счастья), чтобы шевелиться, он принес откуда‑то два огромных фолианта в кожаных переплетах, которые положил рядом со мной.
– Фотографии, – сказал он. – Смотри. Я стала смотреть. Протянула руку, чтобы открыть первый альбом, но дядя Ксавье не утерпел, так ему хотелось самому все мне показать. Он переворачивал страницы, нетерпеливо пролистывая те, что, по его мнению, не представляли интереса.
– Voila, – сказал он, поймав на лету соскользнувший студийный портрет. – Гляди. Это мы в детстве. Трое старших. Еще до того, как родился Гастон.
Я уставилась на подкрашенный сепией снимок с волнистыми краями. На меня с фото глядели трое маленьких детей.
– Это твой отец, – сказал дядя Ксавье, указав на мальчика с самодовольным лицом, стоявшего посередине.
Я перевернула снимок. На обратной стороне была надпись: «Матильда 8, Эрве 6, Ксавье 3».
– А вот здесь, – сказал он, тыкая пальцем в альбом, – здесь твой отец немного постарше.
Это была фотография школьника в штанах, доходивших чуть ли не до подмышек, который, в стиле тех времен, выглядел так, будто он толкает сорокатонную яхту. У него было закрытое, светское лицо. Оно для меня ничего не значило. Надпись внизу гласила: «Эрве – 1949». Это было малоинтересно. Мне больше понравилась фотография на противоположной странице.
– Это вы? – спросила я. Я знала, что он, потому что там внизу было написано: «Ксавье – juin [79]79
Июнь (фр.).
[Закрыть]1958». Но, очевидно, целью сего предприятия не являлся показ фотографий дяди Ксавье.
– Нет, нет, не смотри сюда, – сварливо сказал он, переворачивая страницу.
Жалко. Я бы хотела разглядеть его повнимательнее.
– Вы были очень красивым мальчиком, – сказала я. – Намного красивей моего отца.
Это было правдой в обеих реальностях.
Я прямо чувствовала, как ему это было приятно. Как он гордился собою.
– А вот, глянь‑ка, – сказал он. – Это твоя мать. Видела этот снимок? Тут они как раз только обручились.
Я увидела красивую, испуганную женщину со светлыми пышными волосами в шерстяном костюме моды пятидесятых. Выглядела она совершенно растерянной, как человек, потерявший власть над происходящим. Рядом с ней стоял повзрослевший Эрве, засунув руки в карманы и спокойно улыбаясь.
– Он совсем не похож на вас, – сказала я.
– Да, Эрве от всех нас отличался, – сказала tante Матильда. – Гастон и Ксавье – одно лицо, а вот Эрве был совсем другой. Выше. Тоньше в кости.
Я вспомнила имя Гастон. Крис упоминала своего дядю, с которым она время от времени виделась. Он, возможно, был единственным человеком, который мгновенно раскусил бы, что я – фальшивка. Важно было выяснить, где он сейчас.
– Дядя Гастон…? – начала я. – Он в…? Где он сейчас?
– В море, – сказал дядя Ксавье.
– В море? – Я постаралась, чтобы в голосе не прозвучало удивление. И явное облегчение.
– А вот снова твоя мама, – дядя Ксавье перевернул следующую страницу. – Это она в Англии.
Это была свадебная фотография.
– Сколько ей тут лет? – спросила я.
– Очень молодая, – ответил дядя Ксавье.
– Девятнадцать, – сказала tante Матильда. – Слишком молодая. Совсем ребенок.
– Мне тоже было девятнадцать, когда я вышла замуж, – возразила Селеста, защищая мою мать.
– Ты – другое дело, – сказала tante Матильда.
А затем следовал мой первый снимок: ребенок на руках женщины с пышными волосами. Женщина улыбалась, но натянуто: губы ее немного кривились, как будто она испытывала боль. Затем пошли фотографии «Мари–Кристин, 2 ans [80]80
2 года (фр.).
[Закрыть]» (толстый карапуз, глупо улыбающийся в камеру и протягивающий к ней руки); «Мари–Кристин 3 ans» (ноги подлиннее, светлые кудряшки и непослушное выражение лица); «Мари–Кристин, 5 ans» (волосы прямее, неопределенного цвета, переднего зуба не хватает); «Мари–Кристин, 7 ans» (широкая щербатая улыбка, шорты, поцарапанные коленки); «Мари–Кристин, 8 ans» (волосы длиннее и темнее, почти того же цвета, что были у нее, когда я с ней познакомилась, улыбка почему‑то смущенная, руки за спиной). Последнее лето во Франции.
– Какой я была страшненькой, – сказала я. приходя в опасное возбуждение. – Только поглядите, – я требовала, чтобы они убедились, что это была совсем не я.
Дядя Ксавье хотел перевернуть страницу, но я его удержала. Здесь была еще одна фотография, которую я хотела рассмотреть. В ней было еле уловимое сходство с «Dwjeuner sur l'Herbe» [81]81
«Завтрак на траве» (фр.): полотно Э. Мане.
[Закрыть]. На переднем плане, на коврике перед открытой корзинкой сидела tante Матильда, как две капли воды похожая на себя нынешнюю. Рядом сидела еще одна женщина с печальным, землистого цвета лицом,
с красивыми глазами, глядящими прямо в камеру.
– Кто это? – спросила я.
– Моя жена, – сказал дядя Ксавье. – Твоя тетя Женевьева. Помнишь ее?
– Нет, – ответила я.
– Она долго болела.
– Рак, – сказала tante Матильда. – Умерла три года назад.
Две пухленькие девчушки в одинаковых платьях с бантами в волосах сидели рядом с ней, с вытянутыми прямо перед собой ногами и скучными лицами.
– Селеста с Франсуазой? – спросила я tante Матильду.
Она кивнула.
Перед ними в траве лежал на животе молодой человек, почти юноша. Рядом валялась его смятая рубашка. Верхом на нем восседала девочка, которую я теперь называла местоимением «я». А на заднем плане, не подозревая, что фотограф делает снимок – никто кроме печальной жены дяди Ксавье не обращал на это внимания, – сидел дядя Ксавье с моей матерью. Все его внимание было сосредоточено на ней, словно она говорила ему что‑то столь личное, столь интимное, что он боялся пропустить хотя бы слово. Она сидела, обняв колени, голова наклонена к плечу, волосы (пышная завивка опала) мягкими, светлыми кольцами спускались ей на глаза.
Я подняла на него удивленный взгляд. Он встретился со мной глазами и быстро перевернул страницу.
– Ой, посмотри, – поспешно сказал он. – Снова Эрве.
Эрве и Ксавье стояли около низкой спортивной машины. Рука Эрве лежала на багажнике, как будто он похлопывал по нему.
Tante Матильда подошла и встала рядом со мной. Она надела очки.
– Это фото было сделано за пару недель до автокатастрофы, – сказала они.
Какой катастрофы?
На следующей странице я углядела фотографию молодого дяди Ксавье. С бородой, в белой футболке, открывающей шею, он небрежно держал сигарету. Внизу подпись: «Гастон – каникулы 1967».
– Дядя Гастон, – сказала я, словно узнав его.
– Еще кадет, – сказала tante Матильда. – Он всегда хотел стать моряком. С малых лет.
– Ой, я тоже, – вырвалось у меня. – Именно этого я и хотела.
Селеста, которая, зевая, потягивала вино, удивленно подняла бровь. Франсуаза приоткрыла рот, струйка слюны тянулась от верхних зубов к нижней губе. Дядя Ксавье рассмеялся.
– Стать моряком? – переспросила tante Матильда таким тоном, будто я призналась на людях, что мои жизненные амбиции не шли дальше карьеры уличной проститутки – «четыре позы за один час».
– Видишь, – сказал дядя Ксавье. – Это семейное. – Но три женщины смотрели на меня как на человека, отпустившего непристойную и безвкусную шутку.
Позже, когда все отправились спать, tante Матильда проводила меня наверх.
– У тебя есть все необходимое? – спросила она.
– Да, благодарю.
Она немного помедлила около моей двери.
– Спокойной ночи, – сказала я.
Из всех нас она была самым совершенным и безупречным человеком: все в ней было на месте – ни складочки, ни выбившейся пряди волос, ни лишнего движения. Место, занимаемое ею в пространстве, напоминало маленькую квадратную крепость. Ни на дюйм она не выходила за пределы этой крепости. То, что она называла словом «я», содержалось в строжайших рамках.
– Ты, конечно, понимаешь, – сказала она, – что твой дядя Ксавье испытывал… – она пожала плечами, подбирая подходящее слово, – как бы это выразиться?., сентиментальную привязанность к твоей матери.
– Да, – сказала я. – Это я поняла.
– Но не более того, – твердо сказала она, словно ожидая, что я стану ей перечить. – Une amitii sentimentale. Только и всего.
– Да, – сказала я. Последовала длинная пауза. Считая разговор законченным, я снова сказала «спокойной ночи».
– Во всяком случае, так было с его стороны, – продолжала она. – С ее же… – она снова пожала плечами. – Он хороший человек, мой брат, но не слишком умный. Его всегда тянуло к красивым женщинам. Он так и не понял, что за человек она была.
– А что за человек она была? – спросила я.
Tante Матильда странно улыбнулась, одними губами.
– Дорогая моя, – сказала она. – ты прожила с ней больше двадцати лет. Ты сама должна знать, какой она была. – Она покачала головой. – Бедный Ксавье. Он так тебя любит.
– Я тоже его люблю, – сказала я. У меня было такое ощущение, словно я иду по тонкому льду: одно непродуманное или поспешное движение, и я камнем уйду под воду.
– Верится с трудом, – холодно заметила она. – Если ты так его любишь, то почему же ни разу не заехала к нам в гости?
На это у меня ответа не было. Почему я их не навещала? Я не знала.
– Это еще можно было понять, пока была жива твоя мама – она, ясное дело, не хотела, чтобы ты к нам ездила. Но после ее смерти… – В этой недоговоренности слышался красноречивый презрительный упрек.
Я подумала, не приплести ли сюда загруженность работой, но решила: не стоит. Слишком слабое оправдание. С другой стороны, какие тут могли быть другие объяснения? Мне было непонятно, почему Крис никогда не навещала семью своего отца. Еще более непостижимым было то, что, столько раз бывая в детстве во время летних каникул в Ружеарке, она не хотела сюда возвращаться после смерти отца. Я не знала, что сказать, кроме как извиниться – что и сделала.
– Простите, – сказала я.
Tante Матильда поймала мой взгляд и смотрела на меня так долго, что я занервничала. Как будто меня поймали на крючок. Я была вынуждена отвернуться.
– Потребовался несчастный случай, чтобы ты приняла наше гостеприимство?
Я пробормотала очередное извинение.
– Так куда же ты ехала? – спросила она. Я видела, что сама мысль о том, что я ехала во Францию и не дала им знать, была для нее оскорбительна. Я была с ней согласна. Может, подумала я, соврать, как соврала мне Крис, и сказать, что как раз ехала к ним, но теперь это выглядело бы слишком неправдоподобно.
– По делам, – сказала я, пряча глаза. Она кивнула.
– Что ж, по крайней мере, мы обе знаем, как себя вести.
– Да, – сказала я, глядя, как она уходит в полумрак, к лестнице. Совершенно бессмысленный ответ: я понятия не имела, как себя вести.
Но ничто, даже неприятный разговор на лестнице, не могло помешать мне наслаждаться безупречным счастьем этого дня. Я вошла в свою комнату – свою комнату – и долго смотрела в окно, слушая ритмичный стрекот кузнечиков, вдыхая мягкую тьму и густой, тяжелый аромат, исходящий от томящихся по влаге цветов. Я хотела, чтобы этот день не кончался. Хотела, чтобы он длился и длился. Но дни всегда подходят к концу. Даже самые счастливые. Всё кончается.
Я слишком часто использую слово «я», и это странно, потому что значение этого слова – абсолютная загадка для меня. Нет, вообще‑то неправда.
Я знаю, что оно значит: это застенографированный рассказ об этом теле, покрытом шрамами, и о том, что сидит внутри него, как в ловушке. Но здесь‑то и начинаются трудности. Это вот самое, что сидит внутри него, – что это?
Раньше я воспринимала это «я» как пожизненное заключение. Изнывала под тяжестью его бремени. Зверь, попавший в западню, всегда кажется слишком слабым, чтобы такое выдержать. Поэтому я убегала. Бежала по длинным тоннелям, проложенным в собственной голове, бежала, пока не оказывалась так далеко, где меня никто не смог бы поймать. Я испробовала все методы, которые только знала: лгала, готовила, пылесосила, выдумывала разные небылицы, чтобы себя успокоить. Чтобы придать смысл своему существованию. Но ничего не помогало. Я все равно была «я». Я всегда была «я» – той «я», которую мучают ночные кошмары. «Я» – это душные, пропахшие жареной картошкой улицы Стока и заводские окраины Парижа, убогая комната в отеле, непристойные надписи на стенах и похоть в глазах мужчины с золотым медальоном, предлагавшим мне деньги. Все это – «я».
А теперь я – это «она», свободная от бремени. «Я» было мертво. Я больше не «я». Я – уже другое «я», веселая незнакомка с легким сердцем, чье прошлое – не более чем сказка, чью боль мне нет нужды терпеть. Я чиста, как стеклышко. Мне теперь ничто не причинит вреда. Даже прежнее «я». Я смотрела на нее, прежнюю, бесстрастным взглядом. Я воспринимала ее как маленькое, мягкое, отвратительное существо, вроде слизняка. Меня удивляла ее уязвимость: я наблюдала, как она вздрагивает, словно ее посыпают солью. Я хладнокровно думала: надо же, бояться такой ерунды!
Вот, наверное, почему я была так счастлива: на целый день я забыла о страхе.
Когда я проснулась, шел дождь. Я его слышала: тяжелые капли. Влажная дымка укрыла скалы, окрасила серым деревья. Но все же еще один день все‑таки наступил.
В холле на столе кто‑то оставил почту. Я остановилась по пути на кухню, чтобы просмотреть ее. В обеих реальностях я проявляла бесстыдное любопытство. Дяде Ксавье пришло четыре письма, на вид все официальные. Селесте – два. Я взяла в руки конверт, лежавший отдельно. Он был адресован «мисс К. Масбу».
Я долго стояла, глядя на него. В животе похолодело. Не знаю, почему я сразу его не выбросила. Письмо не имело ко мне никакого отношения. Никакого. Я не хотела взваливать на себя это бремя – обрывков реальности из другого прошлого. Я не собиралась надолго оставаться в этой реальности.
По лестнице спускалась tante Матильда.
– Нашла свое письмо? – спросила она. Нашла, это было очевидно. Я стояла и держала его в руке с таким видом, будто конверт пропитан ядом.
– Доставлено не по почте, – сказала она.
Я пригляделась к конверту. Ни марки, ни штампа.
– От друга? – с любопытством предположила она.
– Наверное. – Больше надеясь, чем веря в это, я добавила: – Может, от доктора Верду.
– Ах, от этого доктора, – сказала она, словно все про него знала. – Ну да, конечно. – Немного погодя она спросила: – Ты что же, не собираешься открыть?
Я не придумала подходящего оправдания. Лучше бы она ушла, чтобы я могла сделать это в одиночестве, но она увлеченно собирала на столе упавшие с цветов лепестки. Я принялась разрывать конверт и делала это так неуклюже, что порвала само письмо. Там был всего один листок, впопыхах выдранный из блокнота.
– Это от твоего друга доктора? – спросила она. – Если захочешь как‑нибудь пригласить его на обед… – Глаза ее остановились на обрывке бумаги. Письмо было явно не от врача.
– Нет, – сказала я.
Она вежливо ждала, что я договорю.
– Подруга из Англии, – сказала я наобум. – Она в отпуске. Здесь, неподалеку.
– Как мило, – она вытащила люпин, оторвала снизу засохшие бутоны. Я не знала, верит она мне или нет.
– Да, – сказала я. – Подруга.
– Если тебе понадобится машина, можешь взять, какая‑нибудь из них днем всегда свободна. «Рено» или «ситроен». У «рено» могут быть небольшие трудности с передачей. Очень темпераментная машина. Селеста предпочитает «ситроен»…
– Спасибо, – сказала я.
Она наклонила голову.
– Ты завтракала?
– Нет, – сказала я, сунув листок в карман.
Потом в одиночестве, в своей комнате, я разгладила записку и прочитала еще раз. Она была нацарапана карандашом. Там было написано вот что: «Крис, в 3 ч.. Кафе де ла Плас, Биллак. Приезжай. Ты мне должна. Мал». Я порвала ее на мелкие клочки и спустила в унитаз.
Дождь лил все утро: мягкий, торопливый, бессвязный звук. Я слонялась по коридорам, не находя себе места. Я входила и выходила из незнакомых комнат, брала и клала обратно предметы, передвигала шахматные фигуры, разглядывала книги – в общем, убивала время. Куда бы я ни пришла, меня везде преследовал звук, нежный, густой звук летнего дождя. Я путала его с тем, что происходило у меня в голове. Я убедила себя, что барабанящий дождь и сумбур в голове – это одно и то же. Думай, говорила я себе. Думай. Единственное, до чего я додумалась, – это что настала пора снова бежать.
Но я не хотела бежать. Только не теперь. Я хотела, чтобы снова наступило вчера. Я хотела еще немного незамутненного счастья. Хотела быть вчерашней Мари–Кристин Масбу, которую так любит ее дядя Ксавье, чье прошлое безболезненно существует в воспоминаниях и фотографиях, чье сознание легко плывет в эфире, как в воде. Я хотела остаться здесь, в этом замке с башенками–солонками.
Думай, говорила я себе, стоя у окна и глядя на шепчущий гравий. Кажется, у меня было только две альтернативы. Первая: забыть о записке. Я уговаривала себя пойти на эту уловку. Но она никуда не годилась. Если я не приду на встречу, то этот самый Мэл или снова напишет, или, того хуже, заявится сюда узнать, что стряслось. Вторая альтернатива: пойти. Но об этом и речи быть не могло.
В залитом дождем окне я заметила расплывчатое, неясное отражение женского лица. Оно плыло мне навстречу, оно струилось и все время менялось. Она улыбалась, эта утонувшая женщина. Она думала: до чего же она глупа. Или, может, до чего я глупа. Я улыбнулась ей в ответ, стала наклоняться к стеклу все ближе, ближе, пока наши губы не соприкоснулись, а потом она исчезла в дымке дыхания. Я засмеялась вслух, так это оказалось просто. Это будет проще простого – пойти на встречу. Человек, написавший записку, человек, который ожидает увидеть Крис Масбу. не знал меня, так что я спокойно могу зайти в это кафе в Биллаке, ничего не опасаясь. Могу сказать: «Извините, это не вы ждете Мари–Кристин Масбу?» И когда он ответит: «Да», я могу сказать: «Знаете, я ее подруга. Она просила меня передать вам, что извиняется, но у нее не, получается, приехать, потому что она еще не оправилась после аварии. И никого не хочет видеть». Или еще лучше – скажу, что она уехала в Марсель. И, может, мы немного поболтаем, чтобы я могла точно выяснить, кто такой этот Мэл, и если возникнет малейшая опасность, хотя бы слабый намек на нее, тогда мне ничего не останется, как вернуться к прежнему, странному и нереальному плану – уехать куда‑нибудь к морю и ждать, пока все само образуется.
За обедом я спросила, где находится Биллак. Tànte Матильда нарисовала мне план.
– А зачем, скажи на милость, тебе понадобилось в Биллак? – спросила Селеста. – Там скука смертная. Одна церковь, одно кафе и pissoir. Съезди в Сен–Жульен. Это ближе. Он стоит на реке. Там пляж и стоянка для фургонов.
– У меня встреча с другом, – сказала я. – Кому‑нибудь сегодня днем может понадобиться «рено»?
Никому он не был нужен. Селеста была не в духе. Сегодня ее очередь проводить экскурсии.
– Я бы сама не прочь встретиться сегодня с другом, – сказала она. – Он симпатичный?
– Это она, – соврала я.
План, нарисованный tante Матильдой, лежал рядом на сиденье. Я вела машину очень медленно.
Дождь перестал. Небольшие, возникшие после дождя ручьи пересекали дорогу. Солнце, будто гигантский красный глаз, появилось из ниоткуда и стало быстро припекать. На перекрестке я затормозила. Поглядела на себя в зеркальце и надела солнечные очки Крис. Отрепетировала свою речь. Сказала себе: ты не волнуешься. Напомнила, что все это не имеет значения. В конце концов, рассуждала я с сомнительной логикой, что может иметь значение, если ты уже мертва? Потом я снова поехала по дороге и свернула, когда увидела на указателе «Биллак».
На грязной площади перед церковью несколько пожилых мужчин играли в кегли. Я поставила «рено» под деревьями, в тени, подальше от играющих.
На другой стороне дороги было «Кафе де ла Плас». Два древних старичка сидели снаружи, под навесом, и пили пиво. Я села за соседний стол.
– Messieurs, – вежливо сказала я. Они кивнули. Я развернула стул так, чтобы удобнее было смотреть в окно. Кроме женщины за стойкой, читавшей газету, и большой собаки, растянувшейся на полу, внутри никого не было. Я глянула на часы. Без десяти три. Немного погодя женщина, шаркая, направилась ко мне принять заказ. Собака поплелась за ней и тяжело шпохнулась на асфальт у моих ног. Я противно нервничала. Гладила собаку, пила апельсиновый сок и ждала. Подкатил потрепанный грузовик, шумно выпустил выхлопные газы, из его открытого окна на всю площадь орала американская музыка в стиле «кантри». Три престарелых французских ковбоя в кожаных куртках и подкованных сапогах вперевалку направились через дорогу к кафе, потом двое из них затеяли оживленную беседу с женщиной за стойкой, а третий скармливал мелочь игровому автомату.
Я допила апельсиновый сок. Без двух минут три. Жалко, что я не захватила никакого чтива. Или не растянула сок на подольше. Я ерзала на стуле. Два старичка, сидевшие по соседству, встали, пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Нет, наверное, места более пустынного, чем маленький французский городок в разгар дня. Никто не шел мимо. Никто не проезжал. Наконец престарелые ковбои вернулись к своему грузовику и уехали так же шумно, как и приехали. Взревел дрянной мотор, и «старина Опри растаял в облаке пыли» – как в кино. Сама эта идея была пропитана киношной, бутафорской атмосферой: женщина, вся в шрамах, ждет знойным днем незнакомца в чужом пустынном городишке. Хозяйка кафе вышла на улицу протереть столы. Я заказала еще один апельсиновый сок. Было десять минут четвертого. На сей раз буду пить не торопясь, подумала я и сделала маленький глоток. И тут на площадь вырулила машина с английскими номерами и остановилась под деревьями рядом с «рено». Я постаралась придать себе обыкновенный, неприметный вид. Нагнулась погладить собаку, чтобы спрятать лицо. Из машины вывалилась молодая семья и направилась в мою сторону. Непохоже, чтобы они имели что‑нибудь общее с Крис. Им было жарко, они устали и были не в духе. Облегчение у меня быстро сменилось паникой: а вдруг они узнают меня по фотографиям в английских газетах! Я не поднимала головы, пока они не вышли из кафе и не перешли через улицу к своей машине. Краем глаза я видела, как они отъезжают.
Вдруг за дорогой, на пыльной площади я уловила какое‑то движение, не имеющее отношения к игре в кегли. В тени дерева укрывался человек. Я поняла, что это он, поняла мгновенно. Наверное, он ждал в одной из припаркованных машин. Должно быть, он был там еще до того, как я подъехала. Он был молод, около тридцати, длинные, светлые волосы, белая рубашка и легкие хлопковые брюки. Он не шевелился, просто стоял там, под деревом, и наблюдал за кафе. Я притворилась, что от нечего делать смотрю на перекресток, а сама все время следила за ним. Он начинал злиться. Еще минута, и он сдастся, подумала я. Он посмотрел на часы. Я тайком бросила взгляд на свои: три двадцать пять. Он подождет до половины, решила я, а затем уйдет. И оказалась права. Он стоял, засунув руки в карманы, поддевая носком пыль, и вдруг пнул ногой дерево и перешел в густую тень, направляясь к машине, оставленной у церкви.
Уф, я вздохнула с облегчением. Но это чувство облегчения было недолгим, потому что проблема была не разрешена, а только отложена на время. Я оставила на столике 20 франков и побежала через дорогу. Видимо, хотела остановить его, не дать ему уехать, но опоздала. Он уже выруливал на улицу. Я, наверное, могла бы еще остановить его, да смелости не хватило. Я стояла и беспомощно смотрела, как он движется в сторону указателя на Сен–Жульен. Вполне можно было догнать его, но это же смех, да и только. Так разве что в кино поступают. С другой стороны, если я не поговорю с ним, то, скорее всего, он объявится в замке в поисках Крис.
Я помчалась к «рено», завела двигатель и поехала через площадь. Разболелась голова. В воздухе витала тревога. Я опустила все стекла, чтобы устроить сквозняк, но прохладный ветер не попадал в машину, и я сидела в безвоздушном вакууме, как будто на голову надели стальной обруч. За городом на перекрестке я заметила его голубой «БМВ». Я решила, что это он, хотя мне не хватило ума запомнить его номер. После перекрестка дорога петляла, спускаясь к реке, и хотя я здорово отстала, на ленте асфальта впереди время от времени мелькала между деревьями голубая машина. Я почти догнала его, когда мы добрались до главного шоссе на Сен–Жульен. И вдруг я глупо потеряла его из виду. Он обогнал фуру. Когда и мне, наконец, это удалось, между нами уже было две грузовых машины, несколько легковых и трактор. Я обогнала трактор и один из грузовиков, но слишком поздно: он был уже далеко впереди. Он мог бы оказаться на полпути к Фижаку, пока бы я доползла до Сен–Жульена. Медленно объехала площадь, разглядывая голубые машины в надежде, что он надумал здесь остановиться, но день был рыночный, и голубых машин было хоть пруд пруди: они стояли на улицах бампер к бамперу, они заполонили всю округу. Голова у меня уже раскалывалась от боли. Сквозь люк в крыше машины солнце било прямо мне в затылок, и я была вся мокрая от жары и волнений. Хотелось что‑нибудь разбить. Честно говоря, я не знала, что предпринять.
И поехала домой.
Франсуаза несла вахту у ворот.
– Хорошо провела день? – крикнула она, когда я подъехала.
– Нормально.
– Твоя подруга надолго сюда приехала?
– Не знаю. Прости, у меня голова болит. Она изо всех сил проявляла заботу. Настояла на том, чтобы позвать tante Матильду, которая откинула мне волосы и пощупала лоб.
– Перегрелась, – сказала она. – Тебе нужно отдохнуть.
Они вдвоем помогли мне добраться до моей комнаты, согнав с кровати кошку. Откинули покрывало и задернули занавески. Скорей бы они ушли. Отстаньте, оставьте меня в покое, дайте подумать. Я стиснула зубы, чтобы эти слова случайно не вырвались из меня. Я проглотила их целиком, как змея глотает яйцо. Tante Матильда нашла мои обезболивающие таблетки и принесла минеральной воды. «Может, послать за врачом? – спросила она. – Тебя не тошнит?» Нет. Просто оставьте меня в покое. Отстаньте.
Наконец, когда мои нервы были уже на пределе и вибрировали, готовые лопнуть, они решили, что могут уйти. Они страшно медленно и беззвучно ступали на цыпочках по дощатому полу. Полжизни потребовалось им, чтобы закрыть дверь. Мой единственный счастливый день казался теперь детской сказкой, одной из тех сказочек, которые призваны убедить малых деток, что, несмотря на свидетельские показания очевидцев, их жизнь полностью лишена опасностей. Вот тебе милая, простенькая штучка, говорит сказка, она поможет тебе попадать из одного дня в другой. Мы называем ее реальностью. Смотри прямо на нее, не отрываясь, не задавая вопросов, и у тебя будет все в порядке.