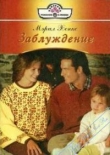Текст книги "Лгунья"
Автор книги: Валери Виндзор
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– Это невыносимо, – сказала я. – Совершенно невыносимо.
Должно быть, я произнесла это вслух, поскольку все, кто был в магазине, обернулись ко мне, а глаза лишенного хлорофилла растения в панике заметались.
И тут ко мне вышел мужчина в отутюженном костюме, сказал, что он менеджер, и спросил:
– У вас есть жалобы, мадам?
– Да, – сказала я. – Есть. У меня есть жалобы.
Он ужасно извинялся – хотя «катастрофа осознания» вряд ли произошла по его вине – и нес какую‑то чушь – о трудностях с поставками, о том, что он позвонит, как только они получат эту программу, а я только повторяла: «Это невыносимо.
Это просто чудовищно», потому что ни о чем другом не могла думать.
Менеджер все больше огорчался.
– Простите, мадам, я все понимаю, но и вы должны нас понять, – обидчиво сказал он, шея его покрылась красными пятнами. Он обвинял меня в непонимании.
– Я понимаю, – сказала я. И вышла из магазина – в зной, наполненный запахом жареной картошки, бензина и соуса карри. Внезапно мне страшно захотелось пить. Вот вечная проблема. Как только начинаешь думать, пытаешься серьезно разобраться во всем, тут же на пути встает жестокий тиран – физические ощущения. В конце концов, гудящие ноги и жажда всегда берут верх. Декарт ошибался. Причина, по которой ты осознаешь, что существуешь, – это невыносимая боль в животе, или готовый лопнуть мочевой пузырь, или ты ударился локтем, или испытываешь элементарную жажду.
Это был как раз мой случай. Мне до того хотелось пить, что я не могла сделать глотательное движение и зашла в первое попавшееся кафе. Села за столик и заказала минеральной воды со льдом. Хозяевами в этом кафе были греки. На стене висела потрескавшаяся, тусклая картина – изображение Акрополя. Чуть погодя в кафе набежала толпа. На моем столе была лужа разлитого кофе, и я возила в ней стаканом и тупо чертила на пластиковой поверхности набегающие друг на друга мокрые круги. Подошел мужчина и сел напротив меня. Он взял кофе и какую‑то сдобу. Похож на иностранца. Сказал, что его зовут Элефтерис. Он был очень загорелый. В клетчатой рубашке с закатанными рукавами.
– А тебя как зовут? – спросил он.
– Марина Джеймс, – ответила я.
Нет, хватит. Тут и сказке конец. Продолжения не последует. Я редко ее рассказываю, только чтобы напомнить себе, когда произошло это открытие и как жадно с тех пор я ищу забвения.
Меня разбудило солнце. Наверное, я проспала целую вечность – пустой, бессодержательный сон. Проснулась я на удивление свежей, без того мутного, беспокойного осадка, который по обыкновению остается после моих сновидений. Обнаженная, я лежала в озере солнечного света. Никогда раньше не случалось у меня ночей без сновидений. Изумительное ощущение. Солнце обжигало мою бледную, истерзанную плоть. Я подняла ноги и долго изучала испещренное стежками шрамов произведение доктора Верду. Потом встала. Нет, не встала. Я вскочила на ноги. Подпрыгнула. Вылетела из кровати. Я и не знала, что такое бывает. Я частенько прыгала в кровать, но не из кровати. Еще одно совершенно незнакомое мне ощущение – энергия с жужжанием и гудением вырывалась изо всех пор. Может, это было связано с тем, что мне ничего не снилось. Обычно сны оставляют меня обессиленной, полной дурных предчувствий. И потом приходится с добрых полчаса лежать в постели, пытаясь одолеть подавленность и страх, осторожно водворяя на прежнее место свои маски и отражения, прежде чем я смогу начать день.
Когда я была Маргарет Дэвисон. я ненавидела одну вещь: оставаться с незнакомыми людьми. Мучительно собиралась с духом сойти вниз задолго до того, как проснутся остальные, или наоборот, когда все уже улягутся. В панике слонялась из угла в угол, выбирая подходящий момент, чтобы спуститься. Тони никогда об этом не беспокоился.
– Какая разница? – говорил он.
Ну, для меня разница была, потому что если я даже в этом допущу ошибку, то это будет свидетельствовать о целом ряде вещей, которые я всегда неправильно понимала и впредь буду понимать неправильно. Даже простейшие действия, о которых люди никогда не задумываются, у меня вызывали дикие затруднения.
– Да ведь это проще простого, – говорил он, и губы его делались тонкими от легкого раздражения. Его любимая фраза. Неважно, что обсуждалось: как пользоваться шомполом в микроволновые, как переводить километры в мили или как не испачкать краской ковер. – От тебя требуется всего лишь выполнить несколько элементарных правил. Тут невозможно ошибиться.
Очень даже возможно. Дело в том, что я никогда до конца не понимала этих его «элементарных правил».
Цокая каблуками вниз по лестнице (мои шестого размера ступни торчали из сандалий пятого), я обнаружила, что постепенно начинаю понимать Тони. Он таки был прав. (Ну, разумеется прав. А когда он бывал не прав?) Какая, к черту, разница? Наверное, я сводила его с ума.
Я чуть ли не вприпрыжку сбежала по ступеням. Я напевала себе под нос. Засунула кончики пальцев в карманы джинсов Крис и шествовала прямо‑таки развязной походочкой. Через холл, в кухню, – мои новые ноги шагали шире, чем отваживались ступать несмелые ноги Маргарет Дэвисон, – я топала по пыльным коридорам так, словно имела полное право здесь находиться.
Франсуаза сидела в одиночестве на кухне, пила кофе из большой чашки. Очки ее лежали на столе. У нее был детский, настороженно обнаженный взгляд, какой бывает у людей, привыкших носить очки, когда они смотрят на мир без них. Она щурилась, как будто у нее резало глаза.
– Доброе утро, – сказала я. Она подскочила от неожиданности. – Все уже встали?
– Дети проснулись, – ответила она. – Я отвезла их в школу. А дядя Ксавье уже давно на ногах. – Ее английский был не такой уверенный и беглый, как у Селесты, и не такой педантичный, как у tante Матильды, но на порядок опережал мой французский. Мы машинально заговорили по–английски – следствие моего невежества и ее инстинктивной учтивости. – Хочешь кофе? – спросила она.
Я налила себе чашку кофе и взяла кусок хлеба. Франсуаза протерла юбкой очки и снова надела. Я увидела в линзах свое двойное отражение.
– Ты совсем не такая, какой я себе представляла, – проговорила она. – Я думала, ты окажешься очень стильной и недосягаемой. – Она застенчиво улыбнулась, словно сделала мне комплимент. А мне стало обидно. Плюс–минус парочка шрамов и кривоватая стрижка, но я считала, что мои новые ноги, джинсы и одолженное имя дают мне право претендовать на хотя бы слабое подобие Крис.
– Правда? – пробормотала я, смущенная тем, что так заблуждалась.
Она положила на тарелку кусочек масла.
– А я тебя немного помню, – сказала она. – Помню, как мы однажды ходили купаться. И на пикник.
Я страдала. Хоть и непреднамеренно, но она меня оскорбила. Необходимо было срочно посмотреться в зеркало. Проверить, неужели настолько очевидно, что Маргарет Дэвисон до сих пор здесь.
– Пойду, отнесу это maman, – сказала она, поднимая поднос. Я встала открыть дверь. Это движение ее напугало. Она уже стояла на одной ноге, чтобы, поставив поднос на колено другой, взяться за ручку двери. Тарелка с маслом соскользнула на пол и разбилась. Кофе разлился по подносу.
– Ой, прости, пожалуйста, – сказала я. – Все из‑за меня.
– Нет, я сама виновата, – возразила она.
Я подняла масло, убрала с него пару осколков фарфора, сняла несколько пятнышек грязи, подула и положила на другое блюдце.
– Так нельзя, – сказала она, испуганно распахнув глаза.
– Почему?
– Оно же с пола, – от ужаса она открыла рот, получилась влажная, розовая, круглая буква «о».
– Ты знаешь об этом, – сказала я, – и я знаю, но кроме нас никто не знает.
Она поджала губы, чтобы не расхохотаться. За стеклами очков расползлись веселые морщинки. Я дерзко добавила:
– Люди видят только то, что ожидают увидеть. – И вилкой нарисовала узор на масле. – Вот, держи.
Она замешкалась в дверях и произнесла:
– Мари–Кристин… Не знаю, заинтересует ли это тебя… но чуть позже я еду в город, maman просила.
– Ой, отлично, – сказала я. – Мне как раз нужно купить какую‑нибудь обувь.
Она чуть не подпрыгнула от радости.
– Тогда через полчасика? – спросила она. Когда она ушла, я съела еще немного хлеба.
Я оглядывала кухню, изучая, что где лежит. И только собралась помыть посуду, как появилась Селеста, одетая в кимоно. Лицо у нее было того бледно–желтого оттенка, который обычно появляется у очень загорелых людей после бессонной ночи.
– О господи, – вздохнула она, зевая. И села за стол.
– Доброе утро, – промолвила я.
– Кофе горячий?
Осталось на донышке. О чем ей и было доложено.
– Я и сама не отказалась бы выпить еще чашечку, – сказала я. Вообще‑то мне не хотелось, но было интересно, кто из нас сдастся первый и возьмет на себя этот труд. Первой сдалась она.
– Хорошо спала? – вежливо спросила она, наполняя кофеварку.
– Великолепно. А ты?
Она зевнула и провела рукой по волосам, давая понять, что почти не сомкнула глаз.
– Франсуаза отнесла maman поднос? – спросила она.
Я сказала, что да, отнесла. А еще, добавила я, отвезла детей в школу. Селеста подняла бровь. О, как я жаждала овладеть этим искусством. Бровями можно выразить намного больше, чем другими частями тела.
– Очень умно, – сказала я. – Как тебе это удается?
– Это что, критика? – спросила она. – Ты думаешь: почему бы ей самой не возить детей в школу? Почему она взваливает эту обязанность на сестру? – Она закурила сигарету и холодно поинтересовалась: – У тебя ведь нет детей, не так ли?
– Нет, – ответила я. Иногда мы с Тони об этом заговаривали. Иногда думали, что надо бы обратиться к специалисту, но ничего не предпринимали. Не знаю почему.
– Тогда, думаю, ты не вправе меня критиковать, – заключила она.
Пока кофе капал в кувшин. Селеста рассказала мне гораздо больше, чем я хотела знать о ее муже–солдате, который, по–видимому, был равнодушным, грубым человеком с ограниченным интеллектом и неуклюжими руками. Он постоянно жевал жвачку и совершенно не понимал ее. Хуже всего то, что он отказывал ей в деньгах: ее финансовое положение было отчаянным. А в таком случае что за радость ей была сидеть в этом болоте? Разумеется, она воспользовалась первой же возможностью и умотала обратно в Париж.
Мне было скучно.
– Хочешь хлеба? – спросила я в надежде хоть чем‑то заткнуть ей рот, но она с отсутствующим видом закурила новую сигарету.
– Найти бы работу, – зевнула она.
Это должна быть, подумала я, очень хорошая работа, чтобы не только обеспечить саму Селесту и ее детей, но чтобы еще и на сигареты хватало.
– А чем ты вообще занимаешься? – спросила я.
– Таскаюсь по замку, показывая одно и то же тупым туристам по шесть раз на дню.
– Нет, я имею в виду, где бы ты хотела работать?
– Ах, в этом смысле… – Она отхлебнула кофе, зажмурив глаза, словно первый глоток доставил ей несказанное наслаждение. – Пфф… Да где угодно. В каком‑нибудь магазине одежды, например. Или в цветочном. Не знаю. – Она открыла глаза и уставилась на меня, ожидая, вероятно, каких‑либо комментариев, но я думала о своем. Потом она прошептала с неподдельным ужасом: – И как только ты выносишь все эти шрамы? Я бы, наверное, с ума сошла. Они что, так навсегда и останутся?
До чего трогательная прямолинейность.
– Не знаю, – ответила я. Меня это вообще не волновало. Чем больше шрамов, тем меньше у меня шансов увидеть в зеркале одну мою знакомую.
– А тебе не страшно? – спросила она, продолжая на меня таращиться и оставаясь при этом удивительно обаятельной.
– Нет, не очень.
Она поспешно встала, как будто даже находиться в одной комнате со столь уродливым существом было для нее оскорбительно, и с грохотом поставила свою чашку в сушилку.
– Ну что ж, – сказала она, – приятно тебе провести день.
Приятно – не то слово. С начала и до конца это был день сплошного счастья.
Помню, как‑то в школе нам задали сочинение на тему «Мой счастливый день», и я не знала, что писать, потому что уже лет с десяти до меня начало доходить, что счастье – ощущение временное. Оно редко могло продержаться в течение дня и всегда отступало перед малейшими физическими неудобствами, так что посреди полнейшего счастья вдруг начинал болеть зуб или зудеть комариный укус. Я легко бы справилась с описанием счастливых мгновений. С счастливыми часами было уже труднее, но при желании можно вспомнить. Но счастливые дни… нет, это уже выходило за пределы моих возможностей. Я сидела, уставясь в лист бумаги, парализованная невыполнимостью задания. Все равно что просить меня спрясть золотую нить из соломинки. Но теперь я запросто написала бы такое сочинение, потому что когда‑то, давным–давно, у меня был целый день настоящего счастья.
Чем я занималась в этот счастливый день? Ну, во–первых, мы с Франсуазой ездили в Фижак. Было еще рано: прямые линии и углы, которые в полдень, острые как бритва, резали глаза, в тот час были еще мягкими, сглаженными. Дорога петляла между серыми и оранжевыми скалами. Я не могла понять, почему вчера этот ландшафт показался мне таким враждебным.
В Фижаке было полно машин и людей. Я ждала на улице, пока Франсуаза положит в банк выручку за субботу–воскресенье, а потом мы зашли купить рыбы. В магазине встретили нескольких знакомых Франсуазы, которым я была представлена как ее кузина, Мари–Кристин из Лондона. Меня целовали в обе щеки и жали руку.
– Теперь это станет достоянием всего города, – сказала Франсуаза, когда мы зашли в придорожное кафе, потому что у меня разболелись ноги. – Все пожелают с тобой познакомиться.
Я сидела в пластиковом кресле и, вытянув перед собой ноги, разглядывала прохожих. Было ощущение первого дня отпуска, только лучше, потому что первый день отпуска всегда омрачали привычные тревоги: обязанность веселиться и беспокойство, что Тони совсем не весело. Я еще дальше вытянула ноги на тротуар и выпила стакан пива. Я чувствовала, что Крис непременно заказала бы пиво.
Потом мы отправились в обувной магазин, где мною внезапно овладело безрассудство. Я примеряла одну пару за другой: сандалии, выходные туфли–лодочки, туфли без каблуков – все подряд. Пол вокруг меня был уставлен обувью. В конце концов, я купила четыре пары, включая красные туфли на высоком каблуке для Франсуазы, которая никак не могла успокоиться, повторяя, что не надо, не стоит, она никогда не осмелится их надеть, и что скажет maman, и вообще она не может принять такой дорогой подарок!
– Ой, да у меня куча денег, – выпалила я. Я уже потратила больше тысячи франков из своих восьми.
Ее благодарность была чрезмерна. Так я ей и сказала, да только хуже сделала. И мне вдруг вспомнилось, как Крис настаивала на том, чтобы оплатить счет в ресторане с той же легкой раздраженностью, с какой я теперь отмахивалась от протестов Франсуазы.
Потом мы поехали обратно. Когда мы миновали ферму с грецким орехом и навозной кучей перед задней дверью, я сказала:
– Почти дома.
Когда же мы повернули за угол и показались башенки замка на фоне скал, я испытала удовольствие, острое, как соль на языке.
К тому времени я ужасно проголодалась. На обед Франсуаза приготовила рыбу, купленную в Фижаке. Селеста сунула нос в кухню, принюхалась и сказала:
– О нет, только не рыба!
На ней было светло–зеленое платье с «бронзовым» поясом, под цвет волос. Она сидела, гоняя куски по тарелке, и ничего не съела, кроме нескольких листьев салата. Похоже, на нее напала хандра, но когда я спросила, не случилось ли чего, она удивилась и ответила, что нет, просто ей скучно.
– У тебя отменный аппетит. Мари–Кристин, – заметила tante Матильда, когда я положила себе еще картошки. Прозвучало это скорее как критика, а не комплимент.
– А я люблю поесть, – призналась я.
– Правда? Раньше за тобой такого не водилось. – Она впилась мне в лицо пристальным, ястребиным взглядом. – В детстве тебя было не заставить. Меня всегда удивляло, с каким спокойствием к этому относится твоя мать. Но она вообще понятия не имела, как воспитывать ребенка. Я ей говорила, что надо бы проконсультироваться с врачом. Ты от всего отказывалась, мясо, овощи, сыр – ничего не ела. А теперь, смотри‑ка, ешь за двоих, а Селеста, которая была такой милой, толстенькой девчушкой, теперь ковыряется в тарелке, будто ее отравой кормят.
– Я не голодна, – мрачно сказала Селеста. – Не делай из мухи слона.
– А я голодна, – произнесла я, подцепив на вилку еще один кусок рыбного филе. – Как волк.
После обеда tante Матильда отправилась к будке у ворот с небольшой жестяной коробкой для денег. Машины уже ютились в скупой тени стен, посетители доедали свои бутерброды под зонтиками на автостоянке.
– Хочешь поглядеть замок? – спросила Франсуаза. – Тебе не будет слишком утомительно пройтись с экскурсией? По всем этим бесконечным лестницам?
По дорожке к нам приближалась шумная компания туристов. Большинство из них были в шортах. У мужчин на шеях висели фотоаппараты. Над ними витал сильный запах масла от загара.
– Mesdames, messieurs, bonjour [76]76
Добрый день, дамы и господа (фр.).
[Закрыть], – сказала Франсуаза, проверив билеты и собрав группу вокруг себя. – Среди вас есть англичане? – спросила она.
Англичане были: две пожилые женщины, которых я немедленно окрестила про себя училками, и молодая светловолосая пара с маленьким ребенком, недавно научившимся ходить. Еще был один канадец, смуглый парнишка с рюкзаком.
– А немцы есть? – спросила Франсуаза.
– Немцев не было.
– А датчане?
Да она просто молодчина, наша Франсуаза. На удивление. В ее подходе не было никакой театральщины: тихим, ненавязчивым голосом она просила зрителей обратить внимание на ту или иную деталь, отвечала на вопросы со сдержанной учтивостью, на французском и английском, давала время оглядеться, если видела, что люди чем‑то заинтересовались, перемежала сухую информацию с историями, которые она так неловко рассказывала, краснея и беспрестанно поправляя очки, что ей инстинктивно сочувствовали, а замечая скрытую шутку, понимающе улыбались. Она поведала нам о том, что первоначально замок был построен для защиты Коса от мародерствующих англичан. Англичане из группы при этих словах засмеялись. Она сказала, что более позднее крыло появилось во времена царствования Франциска Первого. Теперь засмеялась я.
– Извините, – проговорила я, когда вся компания обернулась ко мне с непонимающим, озадаченным выражением на лицах. – Меня насмешила одна мысль.
– А–а, так вы из Англии, – сказала одна из пожилых «училок», – Эйлин, гляди‑ка, англичанка. Как мило. Вы здесь работаете, или в отпуске, или что?
– Да, – ответила я, предоставив им гадать.
Нас пригласили осмотреть образчики «style gothique» [77]77
Готический стиль (фр.).
[Закрыть]и насладиться красотой сводов. Я шла в хвосте группы, больше прислушиваясь к собственным впечатлениям, чем к словам Франсуазы. Мне предстояла нелегкая работа: выдумать двадцать четыре года жизни, подтвердить свое сходство с тем ребенком, которого они когда‑то знали. Ступени винтовой лестницы, ведущей наверх, к круглым комнатам башни, где принцессы некогда пряли свою золотую пряжу и ждали своих принцев, были стерты до блеска. Гобелены обветшали и кое–где тронуты плесенью. Пыльная обивка – изъедена молью. Позолота осыпалась. Но именно так все и должно быть. Я прикасалась, вдыхала, впитывала запахи и зрительные образы.
Экскурсия заканчивалась в кухонных помещениях старинного средневекового замка. Франсуаза уже поглядывала на часы и пыталась увлечь экскурсантов в самую маленькую комнату, откуда попасть обратно во внутренний двор можно было, лишь пройдя мимо двух столов, где были разложены вещи для продажи: открытки, кувшинчики с медом, медовые соты, козий сыр, свежие яйца, баночки с confits [78]78
Варенье (фр.).
[Закрыть].
– Ты, наверное, не захочешь снова обходить все по кругу, правда? – спросила Франсуаза, когда последних отставших членов экскурсии проводили наружу, а с другой стороны двора своей очереди ожидала следующая группа.
Да я бы и не возражала. Я была по–настоящему счастлива.
– Может, немного понежишься на солнышке, а? – предложила она. – Тебе нужно отдохнуть.
Я поступила, как мне велели. Легла на шезлонг в саду, чтобы тепло влилось через кожу, уняло боль в ногах и спине. Слишком много ступеней я одолела, находилась. Я понимала, что необходимо отдохнуть, но это быстро наскучило. Во мне бурлила энергия, не хотелось просто лежать и бездельничать. Я перевернулась на живот и принялась спасать красного жучка, который беспомощно барахтался на спине, но почему‑то не желал принять от меня помощь. Каждый раз, как я его переворачивала, он снова падал на спину. Казалось, энергия бьет у меня из пальцев, как струя шампанского. Наверное, избыток этой энергии и опрокидывал всякий раз красного жучка. Мои ноги были готовы пуститься в пляс. Пальцы выстукивали чечетку и дрожали. Я не желала лежать на солнце. Я желала действовать. Ходить. Почему бы и нет? Я ведь могу пойти, куда захочу. Я совершенно свободна. Я никогда не испытывала большей свободы. И я встала, прошла через весь дом, через холл, и попала во внутренний двор замка. Последние экскурсанты тянулись к автостоянке. Я последовала за ними. Прошла мимо будки у ворот, где под зонтом за столиком сидела tante Матильда.
– Пойду, прогуляюсь, – сказала я.
Я подумала, что она меня остановит, но она только равнодушно кивнула и сказала, что это неплохая идея, места здесь для прогулок красивые. «Только аккуратнее, не перестарайся», – добавила она.
С минуту я стояла, решая, куда пойти, а потом направилась в сторону, противоположную туристам, которые возвращались к своим машинам, к дороге. Под стенами замка вилась каменистая тропа. Мои новые сандалии скользили по камням. Колючки чертополоха царапали лодыжки. Но я все шла и шла, пока тропа не сделалась совсем узкой, а замок не остался далеко позади. С одной стороны над тропой нависал каменный утес, с другой тянулись заросли низкорослых деревьев, изо всех сил, цепляющихся за скудную почву. Передо мной порхали яркие, желтые бабочки. Все живое убегало. Ящерицы юркали в норы. Птицы в панике взмывали из расположенных высоко над головой кустов и камнем падали вниз, летели впереди меня на бреющем полете, шоркая брюшками по стеблям высохшей травы. Белые треугольные бабочки вились у меня над головой, как обрывки бумаги, подхваченные ветром, а маленькие голубые мотыльки перелетали с одного цветка чертополоха на другой. Куда бы я ни ступила, насекомые прыскали во все стороны у меня из‑под ног, как шутихи: сверчки, кузнечики, неведомые прозрачные создания, дрожащие на кончиках листьев, жужжащие жучки. В кустах, как безумные птицы, скрипуче хохотали цикады. Кругом кипела жизнь.
Немного погодя трава начала густеть, становилась все зеленее, пока не покрыла ярким ковром все пространство между камнями; скалы слева от меня потемнели от влаги. Из рыжих расщелин выглядывали мокрые листья папоротника. Впереди послышался шум бегущей воды. За следующим поворотом тропа внезапно оборвалась. Над ней навис вертикальный утес высотой в сто футов или около того, откуда‑то с вершины, из ярко–зеленой травы, выбивалась тонкая серебристая струйка воды и падала к подножию утеса, в глубокий каменный бассейн. Я остановилась у большого валуна на краю водоема, скинула сандалии и погрузила ноги в воду. Она оказалась холодной как лед и поразительно чистой. Камни и голыши на мелководье были кремово–желтые, оранжевые и голубые – любопытная, очень красивая цветовая комбинация. Я встала на колени и выудила из воды один голубой камушек. Он быстро высох на солнце. У меня в руке он утратил всю свою голубизну, теперь он был крапчатым, серо–коричневого оттенка. Но стоило бросить его обратно, и он вновь стал ярко–голубым, как яйцо лесной птицы. Так какой из этих цветов – иллюзия, интересно знать? Может, это зависит от того, какая среда более естественна для камня – воздух или вода? Рыжие голыши имели то же свойство: в одной среде это были тусклые, скучные камни с какими‑то минеральными прожилками цвета ржавчины, в другой – сверкали, как золото. Я подержала в воде руку, чтобы посмотреть, не произойдет ли с ней то же самое. Так и есть. Под водой на ней преломлялись солнечные лучи, кожа приобрела медовый оттенок пальцы струились и колыхались, как подводные травы. Я подумала: вода – вот моя естественная среда, зеркало, сквозь которое можно проходить, зеркало, которое не отражает и не бьется. Сопротивляться было бесполезно. Я скинула одежду и вошла в бассейн. На секунду другую от холода перехватило дыхание. На середине было глубоко, между громадными светло–коричневыми валунами вода доходила мне почти до под мышек. Над водой кожа у меня была красная от солнечного ожога, в кровоподтеках и синяках – под водой она была цвета меда. Я сделала пару гребков, но места, чтобы поплавать, было маловато, и я просто легла на спину и качалась на волнах, предоставив одну половину себя ледяной воде, а другую – теплому солнцу. Я глядела в сияющее темно–синее небо. Надо мной парила хищная птица – ястреб, но тогда я этого не знала. Я была страстно невежественна в подобных вещах: в Хэнли водится не так много хищных птиц, – надо мной парила именно хищная птица, издавая странные, назойливые, тревожные звуки.
Я могла бы провести в таком положении много часов. Может, и в самом деле провела. За временем я не следила. Вылезла из воды только потому, что услышала звон козьих колокольчиков и подумала, что, наверное, цивилизация все‑таки ближе, чем, кажется. Я отряхнулась, как собака, и оделась, одежда намокла там, где на коже осталась влага. Из моего бассейна вода переливалась через край и. просачиваясь между небольшими булыжниками, в зарослях молодых дубков, уходила в землю. Кто‑то протоптал узкую, неудобную тропку по краю ручья. Я пошла по ней, хватаясь за тонкие деревца, чтобы удержать равновесие, то и дело поскальзываясь и с трудом находя опору. Один раз упала и проехала несколько футов на ягодицах. Потом тропинка и вовсе скрылась из виду, и мне пришлось карабкаться по почти вертикальному руслу ручья. У подножия утеса заросли стали реже. Я очутилась на поляне, где паслись тощие овцы, больше напоминавшие коз, и там, на другой ее стороне, стоял дядя Ксавье. Он заметил меня и помахал рукой.
– Ты откуда? – крикнул он.
Я показала:
– С той стороны.
Он рот открыл от удивления. Подошел.
– Вон оттуда? – спросил он. Покачал головой. – Это слишком опасно. Ноги переломаешь. Ты от одного‑то несчастного случая еще не оправилась. Погляди на себя. Вся исцарапалась. – Он протянул руку и снял у меня с головы какой‑то сор. – А почему у тебя волосы мокрые?
– Купалась, – ответила я.
– Там, наверху?
Я кивнула.
– Врушка ты, вот что, – сказал он, расхохотавшись.
– Я купалась, – с негодованием сказала я. – Честно!
– Ну да. Да. Купаться‑то ты купалась. А все эти враки насчет того, что ты все забыла? Ничего ты не забыла, верно, ведь? Прямиком к бассейну! – Он выудил из кармана кусок тряпки и вытер кровь с моей расцарапанной ладони. –
Я постоянно твержу Селесте: «Почему ты не позволяешь детям купаться в каменном бассейне? Мари–Кристин в их возрасте из него не вылезала». Но она всегда водит их на реку. – Он поплевал на тряпку и стер грязь с царапин. – А теперь куда ты направляешься?
– Никуда.
– Хочешь посмотреть ферму?
Я пошла за ним через поле. Мы закрыли ворота овечьего загона и шли по полям, пока не добрались до грязного пруда и группы фермерских построек. Там было два каменных амбара, по стенам которых вились виноградные лозы, но дядя Ксавье больше гордился новой сыроварней – заводской сборки, с цементным полом. В ней стоял густой, острый запах. Я закашлялась.
Дядя Ксавье рассмеялся.
– Не нравится? Отличный, крепкий дух, да? Запах коз.
Мы с восторгом понаблюдали за новой технологией. Попробовали несколько сыров: на вкус они были точно такими же, как и на запах. Потом снова вышли в сияние дня. Лесные голуби сонно ворковали в ветвях деревьев. Зной опалил мне кожу. Все вокруг двигалось медленно, будто обессилело под тяжестью знойного дня. Утки тихо качались на воде. Цыплята с отрешенным видом копались в пыли.
– Ну что, идем смотреть пчел? – спросил дядя Ксавье, шикая на любопытных гусей.
Мы снова пересекали бесконечные поля, пока не пришли к небольшому яблоневому саду. Между рядами деревьев стояли ульи.
Дядя Ксавье снял переднюю заслонку улья. Внутри шумел водоворот жизни. Пчелы цеплялись за заслонку, в панике ползали, ослепленные внезапной вспышкой яркого света. Дядя Ксавье ласково смахивал их с руки.
– Видишь, – сказал он. – Они меня знают, эти пчелы. Слушаются. Потому что понимают, что им без этого никуда, – он ущипнул тугую коричневую кожу на своей руке. – Все еще любишь соты? – спросил он, ставя на место заслонку.
– Обожаю, – сказала я, потому что хотела оправдать все его ожидания. Хотела быть хорошей племянницей этому человеку, чья доброта согревала меня так сильно, словно он сам был маленьким блестящим кусочком солнца.
– Гадкая девчонка, воровала у меня мед, – он зашелся от смеха. Размахивая руками, чтобы отогнать от моего лица пчел, он сказал: – Ну, так что, скажи‑ка по правде, ты так и осталась гадкой девчонкой?
Поди, угадай, как отвечать на такой вопрос.
– Ужасно гадкой, – сказала я.
Он широко улыбнулся.
– Так я и думал. Но в малых дозах грех душе полезен. Человек не должен обременять себя излишком здравого смысла.
– Да, – сказала я. – Здравый смысл – это не самая сильная моя сторона.
Он засмеялся. Закрывая ворота, он стоял ко мне спиной, чтобы из соображений деликатности не смотреть на меня, когда будет задавать следующий вопрос:
– У тебя неприятности. Мари–Кристин?
Внезапно у меня все внутри похолодело. Кожа покрылась мурашками, хотя день был в разгаре – самое пекло. Одна реальность подмяла под себя другую. Весь день я была Мари–Кристин Масбу; и она оказалась мне впору точно так же, как и ее одежда. Весь день мне было очень удобно внутри собственной кожи: впервые в жизни я ощутила, что она принадлежит лично мне. Но что это было, это вот все? Всего лишь обманка, подлог. В другой реальности, где царят абсолютные истины, я не была Крис Масбу и ничего о ней не знала. Первый раз я всем нутром, а не только мозгами поняла, что, конечно, у нее были неприятности. И, возможно, неприятности весьма и весьма серьезные, с какими мне никогда не приходилось сталкиваться и вряд ли когда‑либо придется. Иначе зачем бы ей понадобились два паспорта и багажник, набитый деньгами?
– Не будем об этом, – сказала я.
Дядя Ксавье обернулся, чтобы взглянуть мне в лицо, – он хмурился, как нежный, встревоженный лев.
– Мужчина? – спросил он.
Согласиться с этим было безопаснее всего, и я кивнула.
Он вздохнул.
– Тебе надо замуж, – изрек он. – Тебе тридцать два, а у тебя ни мужа, ни дома, ни детей.
– Есть и другие радости в жизни, – пожала плечами я.