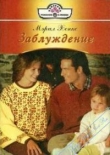Текст книги "Лгунья"
Автор книги: Валери Виндзор
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Нет, сказал он, нет, ничего подобного. Кораблем управляют компьютеры. Все моря нанесены на карту и поделены на квадраты.
Я улыбнулась и промолчала. Мы тихо качались в лодке–кровати и уплывали в бесконечность, во тьму, и я знала, что с ним я в безопасности, потому что он ориентируется по звездам, он понимает, как устроен мир, – не только мир, изобретенный человеком, но настоящий мир, вращающийся в бессмысленном космосе; он знал, что делать, когда небо чернеет и волны устремляются ему навстречу; и если лодка, в конце концов, перевернется и мы начнем безнадежно тонуть, он знает, как выжить. Именно этого знания мне не хватало. Я жадно прислушивалась к каждому его слову.
Пробираясь к своей комнате в неясном, тусклом свете раннего утра, я встретила на лестнице tante Матильду. Волосы у нее были забраны в сетку. На ней был зеленый халат. Она стояла там, слегка наклонив голову, будто к чему‑то прислушивалась.
– А я из ванной, – сказала я. Мне показалось, что нужно объяснить свое присутствие на лестнице, но стоило мне открыть рот, как я поняла свою ошибку.
Она кивнула.
– К сожалению, – сказала она, из деликатности подчеркнуто понятно выговаривая французские слова, – у меня некрепкий сон.
Однажды после завтрака дядя Ксавье повел меня в сад. Он решил полить герани, но это явно было всего лишь предлогом. Герани можно было уже не поливать. Они безжизненно лежали на потрескавшейся земле цвета запекшейся крови.
– Так куда ты сегодня собираешься? – раздраженным тоном спросил он, сражаясь с кольцами шланга. На меня он не смотрел.
– Не знаю, – сказала я. – Мы еще не придумали.
– Мы? – спросил он. – Мы?
– Да, – я старалась заглянуть ему в глаза. – Вы не возражаете?
Он включил воду. Шланг развернулся и напрягся.
– Ас чего бы мне возражать? Ты можешь делать, что хочешь.
– Тогда я не понимаю, о чем разговор. Вы обвиняете меня в том, что я монополизировала дядю Гастона?
– Я ни в чем тебя не обвиняю, – сказал он. – Чего ты колючки выставляешь?
Вода хлестала на спекшуюся землю и собиралась в бесполезные лужи, которые скоро испарятся.
– А вы чего такой колючий? – спросила я.
Он не ответил. Стоял и упрямо поливал гравий, не поворачивая ко мне головы.
– И вообще, – сказала я. – это была ваша идея.
– Ты должна отдыхать. Нечего тебе бегать по окрестностям и зря утомляться. Ты еще не окрепла.
Наоборот, я становилась крепче с каждым днем.
Машина поднималась на холм на другом берегу реки, мы проезжали Кос, направляясь к Авейрону. Это был наш пятый день, проведенный вместе. Пятый и последний.
– Что будем делать? – он имел в виду не сегодняшний день, а ситуацию в целом. Он повторил это несколько раз.
– Не знаю.
Он рассказывал о своей жене, Сандрине. Они познакомились в Марселе и поженились очень молодыми, а почему поженились, он уже не помнил. Кажется, она настаивала, а он посчитал, что, наверное, пришло время обзаводиться семьей. Любил ли он ее? Не то чтобы очень. Он тогда и не знал, что такое любовь. Она ему нравилась. А порой приводила его в ярость. Они очень привязались друг к другу. Это был, говорил он, довольно заурядный брак. Они редко бывали вместе. Он с самого начала, несмотря на ее настоятельные просьбы, отказался бросить море. Лишенная близости, о которой мечтала, она направила всю энергию на то, чтобы открыть собственное дело. Теперь у нее два небольших престижных магазинчика в Париже, где продаются отборные итальянские ткани, непомерно дорогие лампы и objects d'art [86]86
Предметы искусства (фр.).
[Закрыть]. Он считал ее увлечение модой столь же непостижимым, каким она считала его увлечение звездами и океанским простором. Оба они оказались не такими, какими представлялись друг другу. Тем не менее в редкие минуты близости они проявляли нежность и заботу. Общались по телефону почти каждый день, будто этими звонками залечивали раны, которые неумышленно нанесли друг другу. Они открыли для себя, говорил он, что доброта – это более чем равноценная замена любви, настолько равноценная, что ощущается практически как настоящая любовь. Иногда ему казалось, что доброе отношение даже лучше любви.
– А у нас – настоящая? – спросил он.
– Не знаю, – ответила я. Подобные вопросы я оставила на его усмотрение. Я считала, что человеку, который может вести корабль, ориентируясь по звездам, намного легче найти выход из любых обстоятельств, чем человеку, едва умеющему водить даже машину.
Мы сидели в кафе, держась за руки, переплетя ноги, и строили страстные, ошеломляющие планы. Завтра четверг. Днем он должен ехать в Марсель, чтобы вернуться на свой корабль. Я останусь в городе до субботы, потому что Ксавье хочет сводить меня на праздник и еще потому что мне нужно остаться с ним наедине, чтобы выложить всю правду. Утром следующего дня я сяду в поезд, идущий на юг. И буду ждать Гастона в Марселе. Я представляла, как стою на берегу и жду, когда же на горизонте появится корабль. Представляла, как в одиночестве бреду к отелю по кривым, убогим улочкам, как лежу на кровати, глядя на ослепительно белое средиземноморское полуденное солнце. Но эти мечты всегда носили характер фантазий, видений. Рядом с морем ничего не кажется реальным. Эти фантазии всегда сопровождались ощущением непостоянства, зыбкости. Море – подходящее место для непостоянных людей, стремящихся к переменам, но не для меня. Теперь не для меня. В этом нашем плане было что‑то раздражающе нереальное. Я его видела как будто не в фокусе.
– Нам нужно время, – сказал он.
– Да, – отозвалась я, – время. – Мы крепко сжали руки, словно чувствуя, что необходимо в чем‑то друг друга убедить.
Гастон осушил свой стакан.
– Пошли, – решительно сказал он.
Мы ехали на машине, пока не нашли дорогу в лес, и там легли на клочок травы, выжженной солнцем. Потом Гастон задремал, а я лежала на боку, смотрела на него, спящего, и пыталась быть честной. Страсть – вот что происходило с нами последние пять дней. Это я понимала. Не понимала я вот чего: было ли в этом нечто большее? Но чем сильнее я думала, тем бесполезнее казался мне сам вопрос. А нужно ли что‑то большее? И так хорошо. Я наклонилась и поцеловала его. Он захлопал глазами от удивления. Я наблюдала, как он спросонья не сразу сообразил, что я – не Сандрина. Он улыбнулся. Взял мое лицо в ладони.
– Я люблю тебя, – сказал он. Но не думаю, что оба мы на самом деле в это верили. И все равно отражение, которое я увидела в его глазах, придало мне смелости. В любом случае я была ему благодарна за то, что он подарил мне столько новых, на удивление материальных образов моего естества.
На обед мы опоздали. Мы сидели за столом друг против друга и чинно обсуждали засуху. Меня смешила абсурдность этой темы. Д ва часа назад мы целовались как сумасшедшие. Теперь я жую тертую свеклу и слушаю его рассуждения на тему засухи.
– Ну и над чем ты смеешься? – спросил дядя Ксавье.
– Ни над чем, – ответила я.
– Смеешься без повода. Плачешь тоже без повода. Голова у тебя как решето, – перечислял он факты, свидетельствующие о моем неадекватном поведении. Дважды я поймала его немного смущенный взгляд, словно он уже не верит, что я это я. Он был необыкновенно молчалив. Может быть, подумала я, в конце концов, не так уж и страшно сказать правду. Больше всего я боялась признаться дяде Ксавье, что Крис умерла. Это необходимо было сделать до отъезда, причем сделать самой, глядя ему в лицо. Это был мой долг перед ним, причем долг не единственный. Но как же мне этого не хотелось делать! Я представляла, какой болью наполнятся его глаза, когда он увидит всю глубину моего предательства.
Потом дядя Ксавье взял бутылку коньяка и увел Гастона в комнату, где обычно решались дела, связанные с фермой.
– Надо потолковать, – сказал он. – Есть дело. Пошли, выпьем.
Франсуаза мыла посуду, а я вытирала.
– Я тебя уже несколько дней не видела, – смущенно проговорила она. – Тебя все время нет.
Она обиделась, что я про нее забыла. Я извинилась.
– Может, съездим завтра в Фижак? – предложила она.
– Только не завтра, – ответила я.
– М–м, может, тогда на следующей неделе? – робко спросила она.
Ей так хотелось свозить меня в Фижак. Я и забыла, что играю роль ее очаровательной, разъезжающей по всему свету, удачливой кузины. Забыла, что значила для нее Крис.
– Я бы с удовольствием, – сказала я, – но в воскресенье я уезжаю.
– Вот как, – она быстро поправила очки, чтобы спрятать лицо за поднятой рукой.
– В воскресенье? – переспросила Селеста, которая принесла со стола тарелки и уловила последние слова. – Ты слышала, maman? Мари–Кристин говорит, что уезжает в воскресенье.
Tante Матильда, которая наверху утихомиривала разбуянившихся Ричарда и Бригама, закрыла за собой дверь кухни.
– В воскресенье? Что ж, очень жаль.
– Мне тоже жаль, – ответила я по всем нормам вежливости. – Но пора на работу.
– Ну да, разумеется, – сказала она. – Ты им звонила?
– Кому? – Я не поняла, кого она имеет в виду.
– На работу. В свою компанию.
– А–а, – я смутилась, но быстро взяла себя в руки. – Да, звонила, из города.
– Странно, что у тебя нет мобильника, – сказала Селеста.
– Почему, есть, – возразила я. – В Англии. Даже два.
Меня уже тошнило от всей этой скучной, бессмысленной лжи.
Назавтра Гастон разбудил меня рано утром.
– Последний день, – сказал он, пока я одевалась, чтобы незаметно проскользнуть в свою комнату. – Нет, не последний, – сам себе возразил он. – Будут и другие. Сотни других.
И все равно мы невольно думали о сказанном как об окончательном приговоре, и это было невыносимо. Утро выдалось грустное, суетливое и бесполезное. Мне никак не удавалось побыть с ним. Он был уже далеко, уже вдыхал запах соли и ветра. Мы не могли придумать, что еще сказать друг другу. Он принялся повторять все заново – планы, обещания, как будто благодаря этим повторам они будут звучать более, реалистично. На меня напало оцепенение, когда в полдень он направился к взятой напрокат машине с двумя своими чемоданами.
Проводить его вышла вся семья. Я поцеловала его в щеку, отстраненно, будто он мало знакомый мне человек, с которым я давно потеряла связь. Дядя Ксавье крепко прижал его к груди и долго не отпускал, потом стал ворчать, что он из‑за нас опоздает. Мы махали ему на прощание, но он сделал небрежный жест рукой и ни разу не оглянулся.
День был в разгаре. Я вернулась в дом, двигаясь с чрезвычайной осторожностью, словно боясь что‑нибудь сломать. Пошла к себе в комнату и легла на кровать, уставясь в потолок, который изучила уже до мельчайших деталей. До чего я равнодушна, подумала я. Вот уже и лица его не помню. Сколько ни пыталась я восстановить его в памяти – а я не оставляла попыток, – перед глазами у меня все время всплывал дядя Ксавье. Потом я приняла ванну – от нечего делать, чтобы отвлечься. На всем лежал отпечаток пустоты, нереальности. Ванна, казалось, парила в открытом космосе. Пять дней сплошного безумия, всепоглощающей страсти подействовали на меня как заклятие, со мной происходило что‑то странное. Я словно выздоравливала от долгой, изматывающей болезни, как будто я так долго болела, что позабыла, как что выглядит. Ноги дрожали, а голова была легкой, как после высокой температуры, когда все вокруг кажется странным и удивительно красивым. Я целую вечность пролежала в воде, разглядывая кусок блестящего бирюзового мыла. Я терла губкой одну и ту же коленку, снова и снова, потому что она была такой приятной, моя мочалка. Меня захватили очень странные, новые чувства. Я заботливо вытерла и присыпала пудрой свое тело. Я обращалась с ним ужасно бережно, потому что оно было живым в этом странном мире.
Проснулась я после десяти. Оставшееся утро я потратила на то, чтобы проститься с замком. Ходила вокруг него, трогая стены, запоминая каждый камень, каждый цветок, пустивший корни в расщелинах, каждую норку, где прячутся ящерицы. Я сделала полный обход по внешнему периметру. Прошла по всем тропкам и полянам. Бродила по комнатам, мысленно фотографируя их, будто мои веки – затворы фотоаппарата.
– Что ты делаешь? – спросил дядя Ксавье. Я от неожиданности подскочила на месте. В банкетном зале с его гигантскими столами и двумя сводчатыми каминами стояла такая густая тень, что я его не заметила.
– Прощаюсь…
В сумраке он был очень похож на Гастона. А может, это Гастон был похож на дядю Ксавье? Может, я все это сделала, чтобы заменить одного другим, и это была чистой воды мысленная проекция?
Он фыркнул.
– В каком смысле «прощаешься»?
– Я уезжаю в воскресенье.
– Ну да, так ты же вернешься. – Он не спрашивал, а утверждал. – Вернешься же. И очень скоро.
Я молчала.
– И зачем тебе вообще ехать? – спросил он. – Не понимаю.
– Работа, – солгала я. – Жить‑то мне надо.
– Ну и что? Живи здесь. Ты же можешь здесь жить.
– Нет, не могу.
Он пожал плечами.
– Если дело в деньгах… так это не вопрос, это ерунда – деньги.
– Не в деньгах.
Он долго молчал, потом сказал:
– Мне надо подоить коз.
Мы вместе шли по лугам.
– Мне здесь так нравится, – вырвалось у меня, когда я потеряла бдительность.
Я сидела на краю пустой кормушки и смотрела, как он работает.
– Вчера я принял решение, – сказал он.
– Какое?
Он покачал головой и оттолкнул подоенную козу.
– Да так, – сказал он, – неважно какое. Завтра угощаю тебя обедом.
– Это и есть решение, которое вы приняли?
Я смотрела, как он доит другую козу, как его руки, успокаивая, похлопывают ее по костлявому крестцу. И тут мне в голову пришла шальная мысль. Она настолько меня поразила – нет, неверное слово, – настолько расстроила, что, пробормотав извинения, я побежала в дом.
За обедом дядя Ксавье снова был самим собой. Он болтал, смеялся, то и дело подливал мне вина, пока я не потеряла счет выпитому, рассказывал непристойные и, скорее всего, вымышленные историйки о праздничном комитете, членом которого он был. У меня кружилась голова от вина, от грусти и оттого, что я так много смеялась. От смеха у меня по щекам текли слезы и вот–вот грозили перейти в нечто более отчаянное и неконтролируемое.
– Простите, – сказала я. – Я слишком много выпила.
Дядя Ксавье взял мою руку, но тут же отпустил.
– Ты устала, – сказал он. – Тебе надо поспать.
Я извинилась и поднялась к себе, не дожидаясь, пока подадут сыр. Tante Матильда, должно быть, ушла за мной следом, потому что. когда я выглянула из комнаты, собравшись в ванную, она стояла на лестничной площадке.
– Какая‑то ты сегодня бледная, – сказала она. – У тебя ничего не болит?
Полагаю, она имела в виду последствия аварии.
– Немного ноги ноют, – сказала я.
– Ты что‑нибудь принимала?
Я сказала, что в больнице мне дали обезболивающих таблеток, но я уже их все съела.
– Пойдем, заглянем ко мне на минутку, – сказала она. – У меня есть анальгин.
Я пошла за ней по коридору в ее спальню не потому, что мне нужно было обезболивающее, а из чистого любопытства. Я почти не обращала на нее внимания с тех пор, как мы поговорили на лестнице в конце моего самого счастливого дня в жизни. Мне казалось, я должна избегать ее, разговаривать с ней с уважительной сдержанностью. Честно говоря, я ее слегка побаивалась. В ней не было ни капли того тепла, которое переполняло ее младших братьев. Было одинаково легко бояться ее и в то же время отталкивать, потому что она редко бывала поблизости. Из этой комнаты, где она проводила почти весь день, она вела не только домашние дела, но и практически весь туристический бизнес. Мне было очень интересно посмотреть, как там внутри. Я представляла себе толстую паутину, из центра которой она следит за всеми всевидящим оком. А оказалось, это светлая, бело–золотая комната с обитыми парчой креслами и огромным столом, а по соседству, за двойными дверями, спальня.
– Входи, – сказала она. – Садись.
Я села на маленький позолоченный стул. Очень неудобный.
– Полагаю, я должна перед тобой извиниться, – сказала она, роясь в ящике стола, видимо в поисках анальгина. – Ты уезжаешь в воскресенье, а мы так толком и не поговорили.
– Боюсь, это я виновата, – вежливо ответила я. – Я нечасто бывала дома.
Она бросила поиски. Возможно, это был всего лишь предлог и никакого анальгина у нее не имелось. Она уселась за стол, как будто это было официальное интервью.
– Итак? – начала она.
Мне явно предлагалось сделать некое заявление, но я не поняла какое и улыбнулась.
– По–моему, ты сегодня немного расстроена? – напомнила она.
– Да нет, с чего бы, – соврала я.
Она разгладила воображаемые складки на черной юбке.
– Конечно, ты будешь скучать по Гастону. – «Это что, критика?» – Тебе ведь нравились ваши прогулки.
– Очень нравились, – сказала я.
– Мы тебя в последнее время почти не видели. Все верно, критика.
– Я как‑то не подумала, что отнимаю у него все время, – извинилась я.
– Ох, милая моя, ему наверняка было хорошо.
А это что еще значит?
– А нынче утром, – говорила она, – я стояла у окна и видела, как ты ходишь тут повсюду, и думала: интересно, Мари–Кристин так беспокоится из‑за отъезда Гастона и ей просто скучновато здесь или есть какая‑то другая причина?
Я размышляла, что бы такого ответить и, главное, в чем, собственно, скрытый смысл этого вопроса, но тут в дверь постучали.
– Войдите, – сказала tante Матильда.
Это была Франсуаза. Она извинилась и сказала, что внизу ждут полицейские, хотят поговорить с Мари–Кристин.
Tante Матильда внимательно посмотрела на меня.
– Ты как себя чувствуешь, в состоянии встречаться с полицией?
– А что им нужно? – спросила я.
Франсуаза покачала головой.
– Они не сказали.
Я обнаружила, что вытягиваю нитку из ручки парчового кресла.
– Скажи им. что Мари–Кристин очень устала, но скоро спустится, – сказала tante Матильда.
Я пыталась усмирить резкую боль в животе, из‑за которой было трудно дышать. И тем не менее мне хватило сил, чтобы восхититься выдержкой tante Матильды. Вот как это делается, подумала я.
Франсуаза ушла.
– Полагаю, это имеет отношение к несчастному случаю, – сказала tante Матильда, доставая из ящика стола пяльцы с вышиванием. – Надеюсь, тебя не обвинят в опасном вождении.
Только бы они все не испортили. Что бы ни случилось, мне необходимо самой сказать дяде Ксавье правду. Я не хотела, чтобы что‑то омрачило завтрашний день, последний день его любви ко мне.
Он поднялся по лестнице вместе с ними, чтобы показать дорогу.
– Она не вполне здорова, – говорил он. – Не вздумайте ее расстраивать.
Они отвечали вежливо, но с прохладцей. Я представила картину: он вертится у них вокруг ног, как разъяренный терьер, норовя цапнуть за лодыжку. Они закрыли дверь перед его носом.
Это снова был Пейроль и его миниатюрный дружок.
Tante Матильда продолжала тихо вышивать. Они с Пейролем обменялись несколькими быстрыми фразами по–французски. Ее племянницу мучают боли, сказала она, и если они не возражают, она хотела бы остаться в комнате на тот случай, если мне понадобится ее помощь. Пейроль согласился. И извинился за то, что вынужден нас побеспокоить.
– Садитесь, месье, – tante Матильда указала на пару жестких стульев у окна, но они отклонили предложение. Они не отнимут у нас много времени, сказали они, им нужно только вернуть мне паспорт.
– Спасибо, – сказала я, забирая паспорт. И бросила быстрый взгляд на tante Матильду, пытаясь понять, уловила ли она важность происходящего. Ведь я собиралась ехать в Англию без паспорта. Она уловила.
– Вы очень вовремя, месье, – заметила она, считая стежки на вышивании. – Моя племянница собралась завтра уезжать.
– Меня ждет работа, – сказала я. оправдываясь; можно подумать, это требовало объяснений.
– Не могли бы вы вот здесь расписаться… – Пейроль протянул мне листок бумаги, похожий на какой‑то рецепт. Я не стала его читать. Притворилась, что читаю, а сама лихорадочно соображала: какова же настоящая цель их визита. Было что‑то не то в том, как они стояли, как смотрели на меня, мне это очень не нравилось. Может, возврат паспорта – всего лишь уловка, чтобы выманить у меня подпись. Или они хотели вынудить меня бежать, чтобы потом проследить за мной. В любом случае я ничего не могла поделать. Я расписалась. Я рассчитывала, что к тому времени, как они сравнят мою подпись с образцом, явно полученным из Англии, и решат, что между ними нет ни малейшего сходства, я буду в Марселе и дядя Ксавье уже узнает правду. Если они протянут с этим еще двадцать четыре часа, мне будет уже неважно, к какому заключению они придут.
– Спасибо, мадмуазель, – сказал Пейроль. Он даже не взглянул на подписанный листок. Он был слишком умен для этого. Сложил его и сунул в карман. – Да, и еще одно, – небрежно добавил он. – Вы часто навещаете своих родственников во Франции?
– Нет, – ответила я.
– Когда вы были здесь в последний раз? Не было смысла врать.
– Много лет назад. Мне тогда было восемь. Я заметила мимолетное, почти неуловимое выражения удовлетворения в лице коротышки.
– Восемь лет, – произнес Пейроль. И обернулся к tante Матильде. – Это очень давно. Ваша племянница, должно быть, сильно изменилась с тех пор.
Tante Матильда подняла глаза от вышивания и улыбнулась.
– До неузнаваемости, – сказала она.
Я ждала следующего вопроса. И старалась не выдать волнения.
– Впрочем, – добавила tante Матильда, – были редкие визиты и с нашей стороны. – Пейроль заинтересовался. – Мой брат Гастон – боюсь, вы как раз с ним разминулись, он вчера уехал, – мой брат Гастон довольно регулярно навещал Мари–Кристин. В Лондоне.
Пейроль и коротышка обменялись взглядами.
– А давно вы видели месье Масбу? – спросил меня Пейроль.
– Капитана Масбу, – поправила tante Матильда.
– Вы имеете в виду, в Англии? – спросила я. – Примерно год назад.
Tante Матильда ловко продела иглу сквозь туго натянутую ткань.
– Они вместе обедали. Забавно, на днях они как раз об этом вспоминали.
– И эти встречи были регулярными? – спросил Пейроль.
– Да, пока мой дядя работал водителем грузовика, – ответила я.
Последовала пауза. Коротышка смотрел под ноги. Пейроль пробежал по губам языком.
– Мадмуазель, – внезапно сказал он, – вы знаете человека по имени Мэлколм Хейвард?
Я как следует, подумала, прежде чем ответить. Видимо, он имел в виду Мэла. Петля быстро затягивалась. Кажется, у них было всего две версии. Или я Крис Масбу, и тогда меня следует арестовать за темные делишки, которые проворачивали Крис с Малом, – или я Маргарет Дэвисон, и в этом случае они меня арестуют за мошенничество: подделка подписи Крис в целях получить ее деньги. Что еще хуже, они свяжутся с Тони. Единственное, что было мне на руку, – это что они пока колебались, по какому пути пойти. Я видела, что они приехали с подозрением, что я не Крис, но эта версия с грохотом провалилась благодаря уверениям tante Матильды. Но мне‑то было без разницы: в любом случае меня арестуют за то, что я выдаю себя за другого человека.
– Да, – сказала я. – Да, я его знаю.
– Спасибо, мадмуазель, – сказал Пейроль. Потом обернулся к tante Матильде и спросил по–французски, нельзя ли с ней переговорить наедине.
Я поднялась, чтобы выйти, но tante Матильда жестом велела мне остаться.
– Давайте я провожу вас до дверей, – сказала она. – А поговорить мы можем по дороге.
Они были очень вежливы. Пожелали мне спокойной ночи. Выразили надежду, что я скоро поправлюсь. Сказали, что свяжутся со мной. Пейроль записал для меня свой телефон «на случай, если я что‑нибудь вспомню и захочу ему рассказать».
Когда они ушли, я принялась мерить шагами комнату, прокручивая в голове весь разговор. Чем больше я думала, тем больше осознавала, насколько тонко tante Матильда отмела подозрения, что я не ее племянница. Но сбило меня с толку другое: как быстро она поняла, что я не ее племянница! Осознав это, я мужественно села в ее кресло. Взяла в руки ее вышивание. Поглядела на стопки брошюр, накладных и счетов. Ящик, в котором она копалась, остался незапертым. В приступе любопытства я открыла его. Там было полно всяких скрепок для бумаги, конвертов и наклеек с адресами. В углу какие‑то пакеты из фольги с таблетками от расстройства желудка. Я закрыла этот ящик и потянула за ручку второй сверху, до отказа забитый пачками старых писем, перевязанных резинкой, с марками разных городов. На глаза мне попалась английская марка. На верхнем конверте довольно худосочной стопки – не более дюжины писем: – было написано карандашом «Мари–Кристин». Уже не контролируя себя, я сняла резинку и открыла верхний конверт. Внутри был единственный листок, сложенный пополам. Почерк был крупный, по–детски кособокий. По–французски, на школьном уровне языка, Крис благодарила tante Матильду за шарфик, полученный в день рождения. Я быстро сунула записку обратно в конверт и открыла другой.
«Ma chwre Tante» [87]87
Моя дорогая тетя (фр.).
[Закрыть]. – прочитала я. Почерк был уже взрослый. Она извинялась за невозможность принять приглашение и приехать этим летом в Фижак из‑за «загруженности работой» и т. д. и т. п. Написано было четыре года назад.
Я быстро проглядела остальные конверты, думала, может, найду более позднее письмо. В середине связки отдельно лежала фотография, прикрепленная скрепкой к газетной вырезке. Фотография Гастона и Крис. Они стояли на какой‑то площади, вроде Трафальгарской, на заднем плане было полно народу и голубей. На обороте было написано: «Avec Oncle Gaston – le cirque touristique [88]88
С дядей Гастоном – туристическая суета (фр.).
[Закрыть], 1990». Я снова перевернула ее. И была поражена, насколько Ксавье похож на Гастона. Но важно другое. Главное – Крис. Невысокая, худощавая, тонкокостная, она смотрела на меня, улыбаясь широкой улыбкой Масбу. Ее запросто можно было принять за Селесту. Запросто. Да они почти двойняшки! Но перепутать ее со мной было невозможно.
Я поняла, что жестоко обманулась. Tante Матильда с самого начала знала, что я не Мари–Кристин. Доказательством служил этот снимок. И еще более странным было то, с каким спокойствием она уверяла полицейских в обратном. Как зачарованная, я озадаченно смотрела на фотографию. Потом отцепила ее от статьи из газеты. И увидела свое старое фото с паспорта, расплывчатое, плохо отпечатанное. Под ним по–французски было несколько кратких строк о Маргарет Дэвисон. «une femme Anglaise qui est disparue», «ргй–sumiîe morte» [89]89
«Исчезнувшая англичанка», «считается погибшей» (фр.).
[Закрыть]и т. д. Я торопливо скрепила фото и вырезку, надела на письма резинку и сунула их в ящик.
У себя в комнате я сидела за туалетным столиком, расчесывала волосы и глядела на бледное отражение, которое, возможно, было моим лицом. Я ждала, что с минуты на минуту войдет tante Матильда и скажет что‑нибудь разоблачительное. Я хотела подготовить для нее ответ, правдивый ответ.
Стемнело. По трубам побежала вода. Я услышала, как tante Матильда крикнула кому‑то «Bonne nuit» [90]90
Спокойной ночи (фр.).
[Закрыть], но у меня она так и не появилась. Я твердила себе, что у нее нет никаких разумных причин приходить. Она не знает, что я видела фотографию и вырезку, так что, каким бы ни был мой статус–кво – а он, оказывается, очень далек от того, что я навоображала, – мое открытие ни в коей мере его не меняло.
Мне не спалось. Бросив безуспешные попытки заснуть, я встала и принялась собираться. Я не взяла ничего из вещей Крис кроме полюбившегося мне халата с пятнышком, джинсов, рубашки и (по причинам, носящим сентиментальный характер) зеленого шелкового платья – все эти вещи я считала подарком Крис. Кроме них я забрала только то, что покупала сама. В Марселе я куплю все, что мне понадобится, и недорого. Я упаковала и снова вынула эти несколько вещей. Потом снова упаковала. Потом вытащила, встряхнула их и снова уложила, потом переложила в другом порядке, и так без конца, лишь бы не думать, лишь бы заглушить тупую боль от необходимости окончательного и неотвратимого отъезда.