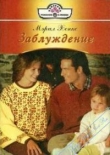Текст книги "Лгунья"
Автор книги: Валери Виндзор
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Наверху в своей комнате я критически изучила себя в крапчатом зеркале, где всплывали и тонули мои многочисленные отражения. Я увидела загорелую молодую женщину. Ее тугая, покрытая шрамами кожа была усеяна веснушками, а может, это были отслоившиеся чешуйки серебра в зеркале. Бедная, старая, толстая, глупая, инертная Маргарет Дэвисон пряталась где‑то там; я и теперь, если хорошенько постараться, могла заставить ее образ всплыть на поверхность, но удержать ее надолго было трудно. Она была слишком нереальна, эта раздувшаяся утопленница, которую я поднимала со дна, ее слишком тянуло обратно, в гущу водорослей. Как только она исчезала, женщина со шрамами снова появлялась в зеркале. Я начинала ее узнавать. Я все лучше и лучше ее узнавала.
Я вымыла голову и приняла ванну. Почистила вечно грязные ногти. Высушила волосы феном Крис и заколола их на затылке, несколько прядей сразу выбились и упали на плечи. Пора было прекращать наказывать свое тело за то, что оно пробудило к жизни Маргарет Дэвисон, потому что ее больше нет. Все. Проблема только в том, что многолетние привычки сидят в нас слишком крепко, ломать их очень трудно. Стала красить ногти. Уже на третьем ногте мне наскучил этот утомительный и неприятный процесс. С какой стороны ни взгляни, мало что может сравниться с ним по скуке.
Я надела шелковое платье Крис, короткое, в котором ноги почти полностью открыты, и туфли на каблуке. Надушилась какими‑то страшно дорогими духами, которые, наряду с уймой других экстравагантных вещей, купила при помощи своей новой кредитной карточки. Даже подумала, не воспользоваться ли косметикой.
– Погляди на меня! – сказала я. Странное дело, но, по–моему, я обращалась к Тони. Хотела, чтобы он меня увидел в элегантном платье, с худощавым, покрытым шрамами лицом и тремя наманикюренными ногтями. Хотела, чтобы он увидел меня в этой просторной комнате с ее обветшалой красотой в крыле эпохи Ренессанса средневекового французского замка. – Вот видишь! – победоносно сказала я, словно мне, наконец, удалось что‑то ему доказать.
Уж и не помню, когда я последний раз надевала туфли на каблуках. Я споткнулась о складку ковра за дверью моей комнаты. Мне пришлось спускаться по лестнице очень осторожно, цепляясь за перила. Первой увидела меня Селеста.
– Боже мой, – сказала она. – Что ты с собой сделала?
Я холодно ей улыбнулась и прошествовала в кухню. Дядя Ксавье открывал бутылку вина. Tante Матильда выкладывала на стол хлеб. Франсуаза что‑то помешивала у плиты. И кроме детей, там был еще один человек: человек, которого издалека в первый момент легко было по ошибке принять за дядю Ксавье: человек, чье короткое, квадратное тело стало причиной моих столь могучих эротических фантазий в сводящей с ума жаре полудня, что при виде него определенные мускулы у меня вздрогнули, откликаясь.
– Мари–Кристин, – восторженно завопил дядя Ксавье, и лицо его вспыхнуло от радости при виде меня. – Смотри‑ка! – он излучал веселое волнение. – Смотри, кто здесь!
Что делать? Я почувствовала, как яркий румянец заливает мне лицо и шею. Ладони стали влажными, а в горле пересохло.
Странно усмехнувшись, tante Матильда сказала:
– Ты что, не узнаешь его?
Конечно, я его узнала. Узнала мгновенно. Всем телом узнала.
Дядя Ксавье засмеялся над столь абсурдной мыслью:
– Как так не узнает? Собственного дядю? Разумеется, она его узнала.
Собственного дядю? Это было одно из тех мгновений, которые тянутся так долго, что начинаешь удивляться, почему остальные не замечают столь неестественного течения времени. Нуда, конечно, это мой дядя. Кто же еще? Он был лет на десять моложе дяди Ксавье, но сходство было несомненным. Мгновение тянулось и тянулось. У меня было в запасе целое столетие, чтобы рассмотреть все возможные варианты дальнейшего поведения и отвергнуть их один за другим. У меня было время понять, что я оказалась до смешного не подготовлена к одной–единственной вещи, к которой готовилась, казалось, всю жизнь. Теперь в любую секунду кто‑нибудь обязательно это скажет. Заглянет, наконец, мне в глаза и скажет это. Я вдруг задрожала от возбуждения. Я хотела, чтобы это произошло. Я была готова. Я ждала: нервы напряжены, поза как у бегуна на старте. Но ничего не происходило. Время тянулось. В конце концов, этот человек – дядя Гастон – протянул ко мне руку. Я автоматически пожала ее. Потом его лицо приблизилось, принимая угрожающие размеры, пока мы целовались: правая щека, левая щека, правая щека.
– А мы уже виделись, – сказал он, беря меня за плечи и немного отодвигая, чтобы рассмотреть. Он был ниже меня примерно на дюйм, но я‑то была на каблуках.
– Я думала, вы в море, – сказала я смешным, визгливым голосом. Я спиной ощущала, как за нами наблюдает tante Матильда.
– Мы вошли в док в понедельник, – сказал он.
Я не могла вспомнить, как надо двигаться, как дышать, как вообще что‑то делать. Я ничего не понимала. Он был единственным человеком, который знал наверняка, что я не Мари–Кристин. Почему он этого не объявляет?
Мы расселись. За разговором, центром которого был дядя Гастон – его плавание, политическая ситуация в Северной Африке, проблемы с алжирским экипажем, – я сидела, гоняя по тарелке помидор, легкие работали болезненными, неровными толчками.
Tante Матильда не сводила с меня глаз.
– Что, потеряла аппетит? – спросила она. Я быстро проглотила кусок помидора. Он камнем застрял у меня в пищеводе.
Дядя Ксавье тревожно посмотрел на меня.
– Что с тобой? Заболела? – спросил он. Я покачала головой.
– Перегрелась.
– Нужно носить шляпу, – сказала tante Матильда.
– Я ей говорила, – отозвалась Селеста. – Она себе внешность портит.
– Какую внешность? – Я изо всех сил старалась вести себя естественно. – Портить уже нечего.
Дядя Ксавье потянулся ко мне и взял за руку.
– Нет, вы только полюбуйтесь, – неодобрительно проворчал он. И протянул мою руку через стол, чтобы Гастон полюбовался кровоточащими царапинами. – Шрамы, порезы, царапины, синяки.
А он опять ничего не сказал, мой дядя Гастон. На нем была голубая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей. Я поймала себя на том, что пялюсь на треугольник волос с медно–красным отливом, начинающийся как раз под ключицами.
– Как поживает Сандрина? – спросила tante Матильда.
– Замечательно, – ответил дядя Гастон. – Вся в делах. Она сейчас в Риме.
Не представляю, как я высидела до конца обеда. Он длился бесконечно, одно блюдо следовало за другим, и чем дольше он тянулся, тем слабее я понимала, что происходит. Они вели нескончаемые разговоры о ферме, о субсидиях, о паразитах, вызывающих заболевания у скота. Они обсуждали деревенские сплетни. Жаловались на засуху. Задавали вежливые вопросы о жене дяди Гастона, у которой было какое‑то собственное дело. Я молчала.
– Ты сегодня какая‑то тихая, Мари–Кристин, – сказал дядя Ксавье, сжимая мне руку.
– Как вы съездили в больницу? – спросила я. Ответа на этот вопрос я больше всего ждала и больше всего боялась.
Он презрительно фыркнул.
– Пустая трата времени. Я что, похож на больного? – Он широко раскинул руки, предлагая сидящим за столом самим оценить его цветущий вид. – Похоже, что меня надо срочно госпитализировать? Дураки они все, эти врачи. Ни черта не смыслят.
Гастон – у меня язык не поворачивался называть его «дядя Гастон» после всех этих глубоко интимных подробностей, которые нас связывали после той первой встречи, – Гастон посмотрел мне прямо в глаза.
– Рад тебя снова видеть, Крис, – сказал он. Его английский был таким же беглым, как у Селесты. – Давненько мы не встречались. С год, наверное.
Я подняла на него остановившийся взгляд. Реальность стремительно теряла всякий смысл. Что теперь происходит?
– Я не помню, – услышала я свой голос.
– Ты тогда как раз вернулась из очередной поездки.
– Правда? – равнодушно произнесла я. – Не припоминаю.
– И мы с тобой обедали в том итальянском ресторанчике. Как он назывался‑то?
Мне стало ясно, что он задумал. Он намеренно кидает мне мяч, надеясь, что я потеряю равновесие. Он втянул щеки и застучал пальцами по столу, делая вид, что старается вспомнить. Но я не позволю мужчине, даже такому, от которого у меня слабеют коленки, играть со мной в такие игры.
– «Россини», – сказала я. Первое итальянское имя, пришедшее на ум.
Он громко расхохотался.
– «Россини», ну, конечно же, «Россини».
– На Эдвард–роуд, – ледяным тоном импровизировала я.
– В «Россини» отменно готовят рыбу, – сказал он. – Ну ладно, расскажи мне, какие перспективы в мире кофейного бизнеса, Крис?
– Да все такие же, – сказала я. Хочешь в игры играть – ради бога. Я тоже недурно играю.
– Ты отлично выглядишь, наверное, оттого, что преуспеваешь?
– Глупости, – изрек дядя Ксавье. – Это все солнце, питание и отдых. Поэтому у нее такой здоровый вид.
– Ксавье сказал, тебе повезло, едва на тот свет не отправилась, – продолжал Гастон.
– Мы ее даже не узнали, когда она приехала, – сказала Селеста.
– Я узнала, – возразила преданная Франсуаза.
Дядя Ксавье рассмеялся.
– Узнали, узнали. Не говори ерунды.
Селеста шлепнула Бригама по руке.
– Хочешь хлеба – попроси, – крикнула она. Он заплакал. Дети устали. Зоя клевала носом, уткнувшись в плечо Франсуазы.
– Отведи детей наверх, Селеста, – сказала tante Матильда.
Франсуаза сделала движение, чтобы встать.
– Я отведу, – сказала она.
Не успев подумать, я заявила:
– Сиди. Ты не доела.
– Да нет, почему, – вспыхнув, упрямо проговорила Франсуаза. – Я с удовольствием. Правда.
– Сядь и доешь сыр.
Селеста сказала:
– Зря ты вмешиваешься. Мари–Кристин.
– Это твои дети, – гнула я свое. – Сама их и укладывай.
Дядя Ксавье даже закашлялся от смеха. Я слишком далеко зашла, подумала я. Меня переполняло чувство опасной самоуверенности. Хмурая Селеста с побагровевшей шеей рывком отодвинула стул.
– Давайте быстрей и поцелуйте на ночь grandmaman [85]85
Бабушка (фр.).
[Закрыть], – сказала она.
Двое мальчиков послушно подставили щеки для поцелуя и вышли из кухни. Я взяла на руки уснувшую Зою и вручила ее Селесте. Мы избегали смотреть друг другу в глаза.
Когда они ушли, Франсуаза сказала полушепотом:
– Да я же и вправду не возражаю. Мне нравится их укладывать.
– Чушь, – возразила tante Матильда. – Мари–Кристин абсолютно права. – Она произносила мое имя странно запинаясь, как будто в середине стояла запятая. – Доедай сыр.
Франсуаза села.
Дядя Ксавье прямо задыхался от хохота.
– Вот видишь, – сказал он Гастону. – У нее язычок острый как бритва.
Потом, когда мы убирали со стола, tante Матильда спросила Гастона, надолго ли он приехал.
– Ну, – пожал плечами он, – у меня увольнение до вечера четверга. Я не вижу смысла тащиться в такую даль, в Париж, на пять с половиной дней, так что…
– Жаль, – сказала я. Я до сих пор не имела представления, что происходит, однако шла точно по проволоке, с переполняющей меня уверенностью, как пьяная. – Очень жаль. Значит, мы оба пропустим праздник в следующую субботу.
– О чем это ты? – грозно спросил дядя Ксавье. – Даже не думай. Ты никуда не поедешь, пока полностью не поправишься.
Гастон поймал мой взгляд. Потянувшись через стол за доской для сыра, я случайно задела его. Наши обнаженные руки коснулись друг друга. Я свою отдернула, как будто меня ударило током.
Мне стыдно писать о любви. Я очень мало о ней знаю, я в этом деле новичок. Честно говоря, я вообще понятия не имею, что это такое, как это бывает, то ли это плод воображения каждого человека, то ли всеобщее заблуждение. Я не знаю о ней самых элементарных вещей.
У меня, конечно, с той самой первой встречи с Гастоном наблюдались все классические симптомы. Я не могла есть. Не могла спать. Лежала с раскрытыми глазами, ворочалась и ерзала, словно у меня горошина под периной. Я задыхалась от жары, хотя раньше засыпала и в худших условиях. И до этого прекрасно спала. Ночи без сновидений были легкими, освежающими. Просыпалась каждое утро с ясной головой, бодрая и энергичная.
Как же так, скажете вы, да ведь этот человек в любой момент мог тебя разоблачить. Ваша, правда. Не понимаю, почему он до сих пор этого не сделал. Но физические симптомы, которые я первоначально приняла за признаки паники, – дрожание под ребрами, влажные ладони, сухость в горле – могли запросто быть симптомами чего‑то иного, и это было более вероятным.
Я пыталась вспомнить, испытывала ли я нечто подобное к Тони. Лежала ли часами без сна, когда все было настолько переполнено им, что ни на что другое не хватало места? Но это – то, что я сейчас описываю, – это, конечно, вожделение. Оно не имеет ничего общего с любовью. Требуется время, чтобы взрастить любовь. Нельзя любить незнакомого тебе человека.
Да, но ведь я его знала. Я его всю жизнь ждала. Лесные чащобы, пятна крови, потерянные туфли, долгая спячка, заклинания, колдовство, страстное желание найти верное имя – все это мне было уже знакомо. Не хватало только прекрасного принца в том или ином виде. Наверное, я решила, что если он когда‑нибудь и объявится, чего, разумеется, не случится, то я его узнаю в любом образе – лягушонка ли, дровосека, – в общем, чего‑нибудь заметного. Но как мне было распознать его под маской дядюшки?!
Было время, когда я довольно долго себя обманывала, что он явится в облике юного коммивояжера из Ковентри. Принцу, убеждала я себя, очень легко принять обличие коммивояжера, не труднее, чем лягушки. И все вокруг, похоже, были того же мнения. Все мне твердили, какой Тони красавчик да как он обаятелен, так что вряд ли стоит удивляться, что я легко позволила запудрить себе мозги. Даже после свадьбы я тешила себя надеждой, что стоит мне захотеть, и я разрушу заклятие, и он, в конце концов, превратится в Принца. Не превратился. Он так и остался коммивояжером с неизлечимой страстью к машинам. А все я виновата. Он тут ни при чем. Или никакого заклятия не было, или я была недостаточно умна и благородна, чтобы его разрушить. Так и пошло. Настала новая реальность – терпение, паутина лжи, которой мы себя окружали, чтобы согреться, болячка, которую я расчесывала и расчесывала, никак не могла остановиться. И если все это не является дополнением к любви, настоящей любви, тогда что же такое любовь? Я не знаю. Меня не спрашивайте. Я ничего о ней не знаю.
Я много часов пролежала без сна, перебирая в уме обрывки мыслей, пока не рассеялась тьма и небо не окрасилось в холодный, усталый серый цвет. По полу разлились лужицы света. Я свесилась с кровати и смотрела, как они растекаются.
Вдалеке открылась дверь, спустили воду в туалете, скрипнули половицы. Я лежала и слушала. Шаги мимо моей двери. Я знала, кто это. Я ждала, лежа на спине, глядя на часы. Спустя десять минут я встала и пошла следом.
Он стоял возле бассейна на одной ноге, стаскивая ботинок. Аккуратно поставил его на пятачок травы, рядом со вторым ботинком. Начал расстегивать рубашку. Я стояла и смотрела. Он знал, что я здесь. Снял часы и положил их в правый ботинок. Я подумала: какой аккуратный, вот что значит морская выучка. Он поднял глаза и зажмурился, свет бил в глаза. Я скинула сандалии. Стянула рывком футболку. Он расстегнул ремень, и один из нас, не помню кто, быстро справился с пуговицей и молнией. Один из нас неуклюже боролся с застежкой на моей юбке. Я увидела: он весь бронзово–медный. Помню, меня ослепило. Он не был красавцем: слишком тяжелый подбородок, слишком маленькие глаза, слишком густые брови и нос расплющенный, как у боксера, но тело у него было красивое. Мне казалось – до боли красивое. Приходилось заслонять глаза, чтобы смотреть на него.
То, что случилось дальше, было настолько неизбежно, что мне даже не пришло в голову сопротивляться. Медленно, с бесконечной изобретательностью мы воплотили в жизнь мои эротические фантазии вчерашнего дня. Единственное могу сказать: это очень смахивало на любовь. На тот момент. Нет, серьезно.
Много часов спустя – солнце уже поднялось так высоко, что жгло нам плечи, – он небрежно спросил:
– Так кто ты такая?
Строившись рядышком, мы лежали на его полотенце, и я рассказала ему все с самого начала: про улицу Франциска Первого, про отель с аденоидным ребенком, про то, как мы ехали с Крис, о проститутке в туалете, об аварии на шоссе N20 к северу от Каора. Объяснила, что я просто не стала спорить с мнением большинства. В этом нет ничего необычного. Люди годами убеждали меня, что я Маргарет Дэвисон.
– А ты ею была? – спросил он.
– Нет, не думаю, – сказала я. – Никогда. Меня всегда одолевали сомнения.
И я рассказала о бедной, запуганной Маргарет Дэвисон, которой больше всего на свете хотелось стать невесомой, плыть без усилий среди водорослей, и о том, что Крис Масбу оказалась намного более сложной натурой, чем я ожидала, и теперь я не знаю, как мне перестать быть Крис, потому что дядя Ксавье этого не переживет.
Он долго молчал. Я чувствовала себя препаршиво. Чувствовала потребность извиниться перед ним за то, о чем даже не задумывалась раньше. Я украла у Крис право на смерть. Право на похороны, право быть оплаканной. Украла у нее и смерть, и жизнь.
От неловкости мы поменяли позу. Я прервала долгое молчание, задав вопрос, на который давно хотела получить ответ:
– Чего я совершенно не понимаю, – сказала я, один за другим покусывая его короткие, крепкие пальцы, – так это почему ты ничего не сказал вчера вечером. Почему сразу не объявил, что я не Крис?
– Ты меня насмешила, вот почему, – сказал он. – Я был ужасно заинтригован. Мне понравился этот разъяренный взгляд собственника, когда ты увидела меня у бассейна.
– Я действительно была в ярости. Это мой бассейн.
– Нет, не твой, – сказал он. – А мой. – Он удержал мою голову на своей груди. – А потом, когда тебя представили на кухне… – Он засмеялся. – Ой, не могу. Фарс какой‑то. Ты ничуть не похожа на Крис. С чего ты вообще взяла, что вы похожи?
– Да я так и не думала. Я вообще ничего такого не планировала. Я просто убегала.
– И тебе показалось, что можно вот так вот удрать в чужую жизнь?
Я кивнула.
– Ну, честно говоря, не слишком хороший выбор, – сказал он. – Что ты вообще о ней знаешь?
– Что ни день, узнаю что‑нибудь новенькое. Она была секретаршей, это я знаю. По крайней мере, так мне кажется. И еще знаю Мала.
– Мэла? Его‑то ты откуда знаешь?
– Он тут объявился. Искал Крис. Говорит, она у него украла двадцать тысяч фунтов.
Похоже, Гастона это не удивило.
– Она говорила, что собирается с ним порвать, когда мы последний раз виделись.
– В «Россини»? – напомнила я.
Он засмеялся.
– Вообще‑то ресторан назывался «У Салино». Мы иногда встречались с ней, когда я заезжал в Лондон. Я ее жалел.
– Жалел Крис? – очередная информация, сразившая меня наповал.
– Ну да. Ей досталось в жизни. Она долго жила вдвоем с матерью. Они были очень близки. Странная это была женщина, мать Крис. Очень властная. Очень ожесточенная. Она так и не поняла, почему Ксавье не развелся со своей женой и не женился на ней. Она ненавидела Матильду. Я единственный из всей семьи приехал на ее похороны, потому что единственный не держал на нее зла. И после этого я старался по возможности чаще видеться с Крис. У нее в Англии никого не было, она была очень одинока. Я в то время работал на переправе через Ла–Манш. Это моя жена такое придумала. Так что в течение нескольких лет мы с Крис вместе обедали примерно раз в месяц.
– А почему Крис никогда сюда не ездила? – спросила я.
– Потому что, скорее всего, унаследовала обиду своей матери. И наверняка придерживалась ее версии событий. А еще, думаю, она слишком часто лгала. И хотела, чтобы семья ей поверила. Хотела, чтобы они считали, будто ей и одной прекрасно живется, будто у нее отлично идут дела.
– А разве нет? – спросила я.
– Иногда хорошо шли, иногда нет. То вроде смотришь – она на вершине мира, а в другой раз приходилось давать ей в долг.
– Значит, она была далеко не той всесильной деловой женщиной, роль которой играла на людях? – полюбопытствовала я.
– Не знаю, – ответил он. – Не знаю, какой она была. Ее было не так легко раскусить. Пару раз ее не оказывалось по тому адресу, какой она мне оставляла. Говорила, что пришлось в спешке уезжать. Однажды я поймал ее на том, что она пользуется фальшивой фамилией. Она ловко оправдалась. Рассказала очень правдоподобную историю, почему ей приходится жить под чужим именем. Я не задавал лишних вопросов. Пусть живет как хочет, это ее дело. Я только наведывался время от времени, чтобы убедиться, что у нее все нормально.
– А Мэл?
Он пожал плечами.
– Они долго были вместе.
– И она целый год решалась на то, чтобы от него уйти?
– А ты сколько решалась?
– Я вообще ничего не решала, – сказала я. – Все получилось само собой.
Но, произнеся эти слова, я поняла, что говорю неправду. Я решалась на это в течение многих лет.
– У них были странные отношения, – сказал Гастон. – Крис делала все, что велит Мэл. Я никогда не мог понять, что она в нем нашла.
– Он сейчас в городе, я с ним разговаривала.
– А он знает, кто ты? – спросил Гастон.
– Думаю, да, знает. Он на это намекнул.
Я рассказала о нашей последней встрече с Малом.
– Ты поаккуратней, – сказал Гастон. – Не доверяй ему. – Он снял у меня с живота сухой листок. – Если он сможет в своих интересах воспользоваться тем, что о тебе знает, он обязательно это сделает.
Вдруг я почувствовала, что голос перестал меня слушаться. Только я начала говорить, как тут же разревелась.
– Я совсем запуталась, – промямлила я.
Он обнял меня за плечи и стал качать и баюкать, пока не прошел страх.
Вернулись мы раздельно. Я пробралась через автостоянку к оранжерее и долго там сидела, а у меня за спиной безымянный пес замер навеки, вонзив клыки в горло кабану. Я поднесла к лицу руки: они до сих пор пахли Гастоном. Втянула запах. Прислонилась спиной к стеклу. Подумала: удивляет ли меня мой поступок? Нет, не удивлял.
Я рассказала себе о кафе «Акрополис», в качестве теста, но сказка потеряла всю свою колдовскую силу. Она показалась тривиальной и устаревшей. Я знала, что делаю, и делала это со спокойной душой. Удивляло другое: я вдруг поняла, что потратила на Тони шестнадцать лет и ни разу не испытала ничего подобного. В голове у меня наконец‑то закрылась дверь, которую, как мне казалось, навсегда заклинило в открытом положении. Закрылась легко и прочно, с финальным щелчком замка.
Когда я открыла глаза, на меня в окно смотрел дядя Ксавье.
– Ты что тут делаешь? – заворчал он, стуча пальцем по стеклу, чтобы привлечь мое внимание. – Ты не заболела?
– Нет.
Он не поверил. Вошел и пощупал мне лоб.
– А что это у тебя с глазами? – спросил он с негодованием, обвиняя меня в том, что я плакала. – Посмотри на себя. Посмотри, что ты сотворила с лицом. Разве ты несчастна? Что стряслось? Тебе тут не нравится?
– Ну что вы, конечно нравится.
– Так чего же ты плачешь, а? Дурные вести?
Я покачала головой.
– Значит, ты сидишь тут и плачешь без причины, а? Какая глупышка. Понапрасну тратишь хорошие слезы.
Я засмеялась.
– Так‑то лучше. – Он сел рядом. – Ну, рассказывай. Опять тот парень?
– Нет, – сказала я. – Нет, просто мне стало грустно.
– Почему?
– Потому что все кончается.
– Что? Что кончается‑то? Ничего не кончается.
Он сидел рядом и молчал за компанию.
– Все‑таки что вам сказали в больнице? – спросила я.
– Ой, да что говорят в больницах, – фыркнул он. – Умеренность. Много не есть, не пить, не нервничать. – Он зашелся от смеха. – Доктора! Да что они вообще понимают!
Без всякой видимой причины слезы опять побежали у меня по щекам. (Очередная ложь: я отлично знала причину.)
– Простите, – сказала я. – Не знаю, что со мной такое.
– А я знаю. Знаю, что с тобой. – У него наготове было победоносно простое решение. – Ты ничего не ешь. Ты не завтракала. Если не есть, конечно, будешь плакать. У тебя понизился уровень сахара в крови. Я‑то знаю. Уж в таких вещах я как‑никак разбираюсь.
Он привел меня на кухню.
– Эта моя глупая племяшка ничего не ест, – сказал он и усадил меня на стул. – Сиди, – скомандовал он. – Ешь. Франсуаза, приготовь кузине кофе.
Я попыталась было сама, но он не пустил. На другом конце стола Гастон чистил яблоко. Он поднял глаза. Наши взгляды скользнули мимо, едва коснувшись друг друга.
– Доброе утро, – вежливо поздоровался он. Я сдержанно ответила тем же:
– Доброе утро.
Так начался новый обман.
У нас это отлично получалось, просто на удивление. По сравнению с еще большим обманом вам, вероятно, вовсе не покажется столь удивительным, что я так умело вела эту игру, но меня это удивляло. Я и не подозревала в себе такие таланты. Это все‑таки совсем другое. Это вам не уловки, не отговорки, не просто неумение определить, где, правда когда перед тобой нагромождается такое количество непреложных истин, что не знаешь, какую из них выбрать. Это сильно отличается от пассивного принятия истин других людей, чтобы не мучиться в поисках собственной. Это был прямой, кристально честный обман.
– Ну, какие у тебя на сегодня планы? – спросил дядя Ксавье Гастона.
Гастон пожал плечами. Планов у него не было.
Зато у дяди Ксавье были. Мари–Кристин расстроена, следовательно, ее нужно немедленно развеселить.
– Тебе нужно проветриться, – сказал он. – Я бы сам тебя свозил куда‑нибудь, да у меня на вечер намечено несколько деловых встреч. Банк, адвокаты, скучные люди.
Он сказал, что Гастон единственный из всех свободен, так что пусть он мною и займется.
– Да нет, зачем, – запротестовала я, прекрасно зная, что при малейшем сопротивлении дядя Ксавье превратится в напористый торнадо.
– Не нет, а да, – бушевал он. – Не спорь. Все решено. Кто тебя вообще спрашивает? Гуляй весь день. Развлекайся. Хватит с меня твоих глупостей. Ешь побольше хлеба.
Так что я улыбнулась и хладнокровно сказала Гастону:
– Если у вас какие‑то другие дела…
– Нет, – невозмутимо ответил он. – Никаких. Меня это устраивает.
Я обратилась к Франсуазе:
– А ты? Поедешь с нами? – Вопрос абсолютно безопасный. Я знала, что сегодня ее черед водить экскурсии. Она покачала головой. – Как жаль, – сказала я без капли жалости.
– Тогда через полчаса, да? – спросил Гастон, отодвигая стул.
– Хорошо.
Я даже не надеялась на такую удачу. Щеки у меня болели от сдерживаемого смеха. Всю дорогу до ворот, сидя рядом с ним во взятой напрокат незадолго до этого машине, я боролась со смехом.
Он был в джинсах и выгоревшей синей рубашке. Я помню каждую деталь. Рукава были закатаны. Я не могла отвести от него глаз: от его кистей, спокойно лежавших на руле, от его коротких, сильных рук, от его профиля. Он смущался. Я улыбалась как идиотка, во всю широту щек, меня распирало от неудержимого счастья.
– Куда мы? – спросила я.
Отъехав на пару миль от городка, он свернул на лесную дорогу, и мы ехали, пока нас не скрыла густая тень дубов.
– Хочешь пройтись? – спросил он.
Мне было все равно, что делать, лишь бы с ним вместе. Мы уходили все дальше и дальше в чашу, и как‑то довольно неловко, смущаясь, перекидывались фразами, как будто до сих пор не знали, о чем говорить, – да, в общем, так и было. А потом мы стали вести себя уже свободнее, естественнее. Легли, обнявшись, в прохладную траву под деревьями. По большей части мы просто смотрели друг на друга, словно где‑то на наших лицах или телах содержалось письменное объяснение того, что с нами происходит. Иногда ложились рядом на спины и глядели вверх, сквозь калейдоскоп многослойной листвы, и глупо улыбались. Иногда ложились лицом друг к другу и крепко обнимались, и тогда мир вокруг нас растворялся, дробился на мелкие осколки, словно и свет, и небо, и земля уходили за край сновидения, и единственной реальностью, единственной истиной был поток тепла между его губами и моими.
Часы шли и шли. Жажда привела нас обратно к машине, и мы съездили в магазин, купили минеральной воды и сока.
– Завтра, – сказал Гастон, – возьмем с собой питье и лед.
Его практичность привела меня в восторг. Не думала, что он может быть таким прагматиком. Я вообще не думала о нем объективно. Мне в голову не приходило, что он может быть наделен какими‑то определенными чертами характера. Ведь он – плод моего воображения.
– Ну как, развеселилась? – спросил дядя Ксавье, когда мы вернулись.
Я вся сияла от солнца и счастья и от всего остального. То, что я прекрасно провела время, прямо бросалось в глаза. Дядя Ксавье победоносно произнес:
– Видишь, что значит сменить обстановку. Я же тебе говорил.
– Мы подумываем завтра прогуляться до Горж, – небрежно бросила я.
Он кивнул.
– Хорошо. Очень хорошо. Просто отлично.
За обедом я сидела напротив Гастона, лишенная возможности прикоснуться к нему или поймать его взгляд, или сделать что‑нибудь такое, что развеет чары. Один раз он под столом незаметно дотронулся до меня ногой, и изнутри меня затопил поток тепла, но внешне я была совершенно холодна. Внешне я продолжала обсуждать с tante Матильдой, чем по вкусу отличается блюдо, которое в Англии называют французской фасолью, от того, что во Франции называют фасолью зеленой. До чего было приятно играть в эту бесстрастную, вежливую и опасную игру, тогда как под незыблемой с виду поверхностью каждый нерв до боли жаждал воссоединения. Обед закончился, потом мы пили кофе, мыли посуду, посидели немного в саду с дядей Ксавье и Селестой, дразня друг друга, чтобы убить время.
– Ну ладно, – наконец сказала я, зевая. – В постель.
– Так что, хороший у тебя выдался денек? – спросил дядя Ксавье, когда я наклонилась, чтобы поцеловать его на ночь.
– Прекрасный.
– Ты стала немного счастливее?
Потом я спрашивала себя, не был ли это «самый счастливый день в моей жизни», но «счастливый» – это слишком слабо сказано. Он был настолько сложный, запутанный, что одним словом не выразить.
– В постель, – повторила я, сладко потягиваясь. Позже, когда по трубам перестала бежать вода и единственным звуком, нарушавшим тишину в доме, было тихое потрескивание остывающих балок, я встала и ощупью пробралась в его комнату. Он лежал на кровати и ждал меня.
Второй день был копией первого. Никто ничего не сказал. А что тут можно сказать? Почему бы дяде и племяннице не провести день вместе, обозревая окрестности, если они оба в отпуске? Мы снова поехали в лес. Ослепленные жарой и друг другом, мы только и делали, что лежали, зато выбор ложа был бесконечно разнообразен: мягкая трава, сухая листва, влажный мох, папоротник. Мы без конца целовались, не могли оторваться друг от друга, словно пытаясь остановить какое‑то кровотечение. Мы занимались любовью до полного изнеможения. Часами изучали друг друга, запоминая наизусть. Наконец мы смогли говорить. Я снова рассказала ему все с самого начала. Мое повествование обрело более четкую форму. С каждым повтором открывалось все больше смысла.
Ночью, в его комнате, он рассказывал мне про море. Мы фантазировали, и кровать превращалась в лодку, и мы садились в нее и тихо качались на волнах, и был штиль, но вдруг налетал ветер, и лодку уносило в открытое море, все дальше от берега, пока мы не терпели кораблекрушение; но это всегда заканчивалось любовью – вернее, любовь была частью повествования, – так что эта история никогда не кончалась. Я могла без устали слушать о море. Заставляла его рассказывать о ночных вахтах, о пьянках во время увольнительных в Агадире. Меня поражала мысль, что этот человек, чьи маленькие, нежные пальцы доставляли мне ни с чем не сравнимое наслаждение, умел провести судно через самые бурные, самые коварные воды. Мысль, что он всегда может найти дорогу, восхищала меня. Это означало полный контроль над миром физического.