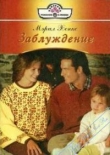Текст книги "Лгунья"
Автор книги: Валери Виндзор
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
– Ты хочешь стать моряком? – спросила моя мама. – Нет, дорогая, не думаю, что тебе это подойдет.
– Моряком? – спросил отчим, держа ложку с пшеничными хлопьями перед усами, испачканными молоком и желтыми от никотина. – Зачем, скажи на милость, тебе становиться моряком?
Так что с самого начала я знала, что это мне не светит.
Я разработала простой план. Через пару дней, когда я смогу понемногу ходить без костылей, я спрошу сестру Мари–Терезу, нельзя ли мне погулять в саду. Это значит, что ей придется найти мне какую‑нибудь одежду. А у меня появится шанс сориентироваться. Потом, во время посещений, когда всем будет не до меня, я смешаюсь с толпой родных и знакомых и вместе с ними выскользну за ворота. Потом сяду на поезд и поеду на юг, пока не окажусь за пределами страны, где притворюсь абсолютно свободной, свободной духом, как Крис, и намеренно не стану думать о будущем.
Я сидела у окна, сосредоточенно подсчитывая, насколько мне хватит восьми тысяч, если тратить 180 франков в день, но сбилась из‑за шума: в коридоре разговаривали на повышенных тонах. Я услышала, как бедная сестра Мари–Тереза, которая сидела со мной все реже – она теперь отвечала за стирку, – щебечет, как испуганная птаха. Мужской голос возражал и заглушал ее причитания.
Дверь распахнулась, будто ее снесло с петель ураганом, – в проеме, широко распахнув руки, стоял маленький круглый человечек.
– Мари–Кристин! – сказал человечек и так крепко сжал меня в объятиях, что я не могла шевельнуться. У него была толстая шея и барсучья голова с проседью, у этого человечка, который, к моему ужасу, кажется, принимал меня за Мари–Кристин. – Дай же на тебя посмотреть! – сказал он, немного ослабив хватку.
Меня смутила страстность и пристальность его взгляда. Я потупила глаза. Он был глубоко растроган увиденным – в его глазах стояли слезы.
– Ma pauvre petite… [48]48
Моя бедная крошка (фр.).
[Закрыть]– сказал он и снова прижал меня к груди. Ребра мои взвизгнули от боли. Он трижды поцеловал меня в обе щеки и тут же повторил всю процедуру. От его волос исходил странный, резкий запах. Он сказал – а говорил он на быстром, малопонятном французском, который, заметив мой растерянный вид, сменил на быстрый и совсем уже непонятный английский, – он сказал, что был просто оглушен известием о моей аварии, возмущен поведением властей, не пускавших ко мне родных, и теперь счастлив найти меня в такой хорошей форме. Он хочет забрать меня домой. Сейчас же. Сию минуту. Машина ждет на улице.
Сестра Мари–Тереза в отчаянии заломила руки. Мне стало жаль ее. Я попросила ее позвать доктора Верду.
– D'accord [49]49
Хорошо (фр.).
[Закрыть], – сказала она и поспешила прочь.
– Глупая тетка, – сказал человечек с барсучьей головой. Кожа у него была гладкая и загорелая. Он снова отстранился и. держа меня на расстоянии вытянутой руки, критически осматривал. Я заметила в его взгляде замешательство.
– Вы меня не узнаете, да? – спросила я. Теперь, когда настал решающий момент, я была на удивление спокойна. Я все продумала. Сочинила целую историю. Понимаете, скажу я, дело в том, что все были настолько уверены, что я Крис Масбу, что я и сама в это поверила; теперь память начала возвращаться, и я поняла, что я не она.
– Это я‑то не узнаю! – воскликнул он с обидой, прежде чем я успела рассказать свою сомнительную историю о потере памяти. Его, кажется, здорово задело, что я его в этом заподозрила. – Конечно, узнаю. По–моему, как раз au contraire [50]50
Наоборот (фр.).
[Закрыть], это ты меня не признала.
Я была на сто процентов уверена, что это тот самый дядюшка, о котором Крис упомянула в открытке.
– Дядя Ксавье? – спросила я.
Лицо его расплылось в улыбке. Под глазами, на щеках, на лбу заиграли морщинки.
– Столько воды утекло, – сказал он, – а ты все не едешь и не едешь. Совсем нас забыла. Когда я тебя видел в последний раз, ты была вот такая, – его рука застыла на высоте двух футов от пола. – Вот видишь, я не ошибся. Не помнишь. Не помнишь своего дядю Ксавье.
Я смотрела на него спокойным взглядом: помнится, я была восхитительно спокойна.
– А вот и помню, – сказала я.
Он засмеялся, счастливый.
– Знаю я, что ты помнишь. Помнишь пасеку, пчел?
– Пчел?
– Да. Помнишь? – он ободряюще кивал мне. Ах, как нехорошо, нехорошо дурачить его. Надо было с самого начала признаться, что я ничего не могу помнить.
– Нет, – сказала я. – Каких пчел?
На лице у него было ясно написано разочарование.
– Не помнишь пчел?
– Я была очень маленькая, – сказала я.
– Вот такой высоты.
– Я имею в виду возраст.
– Восемь лет, – сказал он. Он держал меня за плечи и разглядывал так, словно я какое‑то чудесное явление.
Нелепейшая ситуация, я просто не знала, что делать. Мне было ужасно любопытно, та ли я. кого он ожидал увидеть, поэтому я так прямо и спросила:
– Вы меня такой себе представляли? – спросила я. А сама подумала: до чего легко человек принимает то, что, по его мнению, должно быть правдой.
– Ты повыше, чем я думал, – сказал он. – Мне казалось, ты мне досюда. – Он дотронулся до середины лба.
– А все остальное? – не отставала я. Мне хотелось, чтобы он признался, что я ничуть не похожа на Крис Масбу.
– Раньше у тебя были светлые вьющиеся волосы.
– Ну, волосы. Волосы с возрастом темнеют.
– О! – сказал дядя Ксавье, ибо, наконец, прибыл доктор Верду, за ним по пятам семенила сестра Мари–Тереза, нервно всплескивая руками. – Bon [51]51
Хорошо (фр.).
[Закрыть].
Тараторя по–французски, дядя Ксавье принялся задавать вопросы. Доктор Верду насупился, надев маску холодной учтивости. Я сидела на стуле у окна и слушала; из десяти слов я понимала в лучшем случае одно. В один момент мне показалось, что дело дойдет до рукопашной. Дядя Ксавье был ростом ниже доктора Верду, но шире его в плечах. Доктор Верду рядом с ним выглядел почти хрупким. В конце концов, они, похоже, пришли к какому‑то решению. Оказалось, победил дядя Ксавье. Он шел к окну, задрав нос.
– Вы поняли? – спросил доктор Верду. Он разволновался, лицо его в обрамлении рыжих волос так и пылало.
– Ничего она не поняла, – снисходительно сказал дядя Ксавье. – Alors [52]52
Надо же (фр.).
[Закрыть], растеряла весь свой французский.
– Ваш дядя просит разрешения увезти вас домой, – сказал доктор Верду. Он был ужасно сердит. – Разумеется, это совершенно невозможно. Так я ему и сказал. Я не могу этого позволить. Однако если вы будете поправляться в том же темпе, я смогу в понедельник вас отпустить.
В целом из этой маленькой помпезной речи я поняла, что дядя Ксавье выдвинул доктору ультиматум: понедельник – крайний срок. К этому сроку выпишут меня или не выпишут, в любом случае дядя, который теперь расхаживал по палате с довольным и гордым видом, приедет и заберет меня.
Я пожала плечами. Мне тоже было все равно. Я вполне могу изменить первоначальный план и позволить этому самодовольному петушку увезти меня, совершив, таким образом, первую часть путешествия на машине. Это, по крайней мере, избавит меня от необходимости тайком удирать из больницы и от утомительной пешей прогулки до станции. А еще я сэкономлю внушительную сумму на дороге. Именно так и надо поступить, думала я. Нежданно–негаданно у меня появилась возможность выбирать. Я к такому не привыкла. Поэтому просто сидела на кровати, улыбалась и ждала. Торопиться было некуда.
Когда дядя Ксавье ушел, оставив после себя неуютную пустоту, доктор Верду плюхнулся на стул, нервно потирая лоб, словно у него разболелась голова.
– Он что, всегда так? – спросил он.
– Не знаю, – ответила я.
Минуту–другую я поиграла с этой мыслью: а не рассказать ли ему, что я не знаю по той простой причине, что никогда раньше не встречала этого человека. Но объяснение вышло бы слишком трудным и запутанным; и к тому же сейчас мне крайне невыгодно признаваться, что я не Крис Масбу, по крайней мере, пока я не улизну из больницы и не доберусь до своего дешевого отеля на берегу моря, где я смогу быть кем пожелаю. Я услышала, как мой голос произнес:
– Я его с восьми лет не видела.
Доктор Верду тяжело вздохнул.
– Простите, – сказал он. – Боюсь, по моей вине вы попали в затруднительное положение.
Это все, продолжал он, стряхивая с брюк невидимую соринку, его рук дело. Он сделал запрос в Фижак и попросил свою секретаршу связаться с семьей Масбу.
– Зачем? – спросила я.
Потому что ему была невыносима мысль, ответил он, что мне некуда будет пойти после больницы.
– Мне хотелось как‑то помочь, – сказал доктор. – И когда вы упомянули о своих родственниках в Фижаке… – голос его виновато дрогнул. – Я не представлял, что ваш дядюшка окажется таким… таким… – Он поднял на меня глаза, взгляд его был серьезным. – Вам не обязательно с ним ехать, если не хотите. Я могу все уладить.
Но у меня уже все было улажено. Так что я мило улыбнулась доктору Верду и сказала, что, наоборот, очень благодарна ему за звонок дяде. Ему не о чем беспокоиться, заверила я. У меня все будет хорошо.
Дядя Ксавье явился за мной в понедельник утром. А вплоть до понедельника каждый день присылал мне подарки: цветы, корзину с фруктами, пару бутылок вина. Дважды приходил доктор Верду и, нервно сжимая кулаки в карманах, спрашивал, не лучше ли мне вернуться в Англию? Это легко устроить. Он сам займется этим вопросом.
– Вернуться? Каким образом? – спросила я. – Полиция до сих пор не отдала мой паспорт.
– Я с ними поговорю.
У меня все внутри похолодело при мысли о возвращении. Жизнь в Англии была настоящей. В Англии мне пришлось бы вернуться в реальность. Поэтому я покачала головой и сказала: нет, большое спасибо, лучше я догуляю отпуск во Франции. Во Франции, добавила я, погода лучше.
– Может, я все‑таки кому‑нибудь сообщу о вас в Англии? Мне ведь не трудно, – повторил он. И я снова покачала головой. Он мне нравился. Он был ко мне невероятно добр. Я подумала, что оставлю ему те бутылки, что прислал дядя Ксавье. Больше у меня ничего не было.
– Вы так добры, все время мне помогаете, – сказала я и с удивлением заметила, что он покраснел. Это ему не шло. Рыжеволосые люди имеют склонность краснеть чаще других.
– Мне это доставляет большое удовольствие, – официально ответил он.
Я немного смутилась. И даже, наверное, сама покраснела. Я протянула ему руку.
– На случай, если завтра у нас не хватит времени попрощаться, – сказала я.
Мы пожали друг другу руки. На глаза мне навернулись абсолютно фальшивые слезы, пришлось мигать и отворачиваться, чтобы он не заметил и не принял их на свой счет. Он был тут совершенно ни причем. Все дело в неожиданно возникшем ощущении утраты. Все перемены в жизни воспринимаются как утрата. Остаться бы навсегда в этой белой комнате, где ничего не происходит. Уходить из нее не хотелось. Не хотелось начинать жить сначала.
Утром сестра Мари–Тереза принесла два моих потрепанных чемодана. (Нет, я имела в виду просто два чемодана. Это оговорка.) Все было сложено, выстирано и выглажено.
– Спасибо, – сказала я, понимая, что это ее рук дело.
Странно было перебирать аккуратные стопки одежды Крис, гадая, что надеть. Казалось почти непристойным трогать ее нижнее белье. Я целую вечность держала в руках ее бюстгальтер, который, если бы и подошел по размеру чашек, никогда не сошелся бы у меня на спине. В конце концов, решила обойтись без него. С трусиками – более интимной деталью туалета – почему‑то было легче. Гардероб Крис состоял в основном из футболок и шорт. Было несколько рубашек, два свитера, пара летних юбок, два платья, джинсы, белые хлопковые брюки и шелковистое изумрудно–зеленое платье с разрезами по бокам. Всё, даже футболки и шорты, на вид очень дорогое. Сначала я склонялась к тому, чтобы выбрать юбку, поскольку брюки вряд ли на меня налезут, но потом вдруг неудержимо захотелось надеть джинсы. Я подумала, что Крис Масбу предпочла бы как раз джинсы. Или, вернее, джинсы – это то, чего ни за что не надела бы Маргарет Дэвисон. Тони не любил женщин в джинсах. Говорил, что в них женский зад выглядит смехотворно. Не знаю, почему женский зад должен выглядеть более смехотворно, чем мужской: это зависит от того что считать нормой. Однажды я попыталась об этом заикнуться. Просто ради спора сказала, что, по–моему, мужские зады довольно уродливо торчат из брюк. Мужчинам ни в коем случае нельзя носить брюки, сказала я. Но, похоже, мы говорили на разных языках. Ведь он изрекал абсолютную истину, истину в последней инстанции, тогда как все мои возражения были смешным детским лепетом. Мы частенько общались в таком духе.
– Может, лучше юбку? – сказала сестра Мари–Тереза, с сомнением глядя на джинсы. – Жарко ведь.
– Я просто примерю, – сказала я, засовывая ногу в штанину. У меня была мысль – и не беспочвенная, учитывая нашу с Крис разницу в росте, – что они мне будут страшно малы, но я без труда в них влезла. На бедрах они были даже свободноваты. Я оглядела себя с удивлением и просунула большой палец под ремень.
– Вы похудели, – заключила сестра Мари–Тереза.
Похудела. Причем основательно. Сильнее, чем она думает. Я покрутилась перед зеркалом, украдкой скосив глаза на попку, которая, насколько я могла заметить, выглядела вполне сносно. Я не только похудела. У меня отрасли волосы, пришлось надеть резинку и сделать хвост. В зеркале отражалось хрупкое и очень молодое существо, которое с трудом можно было принять за особу женского пола. Лицо у особы было в синяках и лишь отдаленно напоминало Маргарет Дэвисон. Эта особа занимала намного меньше места в пространстве, чем Маргарет Дэвисон. Плечи ее казались уже скулы – острее. Я подумала было воспользоваться косметикой, но с такой кошмарной физиономией нечего было и пытаться навести марафет. Кроме того, я даже боялась невольно угадать черты Маргарет Дэвисон на этом незнакомом, худом, изрезанном шрамами лице и, в конце концов, узнать женщину, глядящую на меня из зеркала.
– Скоро все заживет, – с сочувствием проговорила сестра Мари–Тереза: решила, что меня беспокоят шрамы. Не понимаю, почему все считают меня такой недалекой, такой самовлюбленной.
Я попросила отдать кому‑нибудь цветы и оставшиеся фрукты. Поблагодарила ее за ласку и заботу.
– Je vous remercie de votre bontô [53]53
Благодарю вас за вашу доброту (фр.).
[Закрыть], – сказала я, и, на мой взгляд, это прозвучало вполне сносно, не на школьном уровне. Я теперь, что ни день, осваивала новые фразы. Она расцеловала меня в обе щеки и настояла на том, чтобы самой спустить вниз чемоданы и костыли. Я повесила сумку Крис на плечо. Я чувствовала себя очень легкой. Мои ноги в светлых джинсах были длинными, стройными и совершенно мне незнакомыми. Я была от них в полном восторге.
– Обувь, – подсказала сестра Мари–Тереза, смеясь над моей рассеянностью. Гляжу – а я босая.
– Обувь, – сказала я. – Да.
Ни одна пара из чемоданов не подошла. Ну, разумеется, еще бы им подойти. Ступни человека – вещь фундаментальная, очень приземленная. Они не меняются.
– Ума не приложу, что случилось, – сказала я. – Всё мало.
– Должно быть, из‑за жары, – сказала сестра Мари–Тереза. Я кивнула, хотя предположение было абсурдным: в белой комнате всегда стояла прохлада.
Она выбрала легкие парусиновые туфли, ярко–красные, в каких обычно ходят на пляж.
– Попробуйте эти, – предложила она.
Я сделала вид, что они впору, но не успела спуститься по лестнице, как уже натерла пятки.
Доктор Верду все‑таки пришел попрощаться. Вышел откуда‑то из тени в прохладном, темном холле. Стоял под деревянным распятием, прибитым над дверью.
– Au revoir. Mademoiselle [54]54
До свидания, мадмуазель (фр.).
[Закрыть], – сказал он.
Мне показалось, что он собирается поцеловать меня на французский манер. Я не знала, подставить щеку или нет. Но в следующий миг дверь с шумом распахнулась, и в тихий, сумрачный холл с улицы ворвался горячий воздух, а вместе с ним – шумный, захлебывающийся словами дядя Ксавье, который выхватил у сестры Мари–Терезы чемоданы. Печальное, восковое лицо Христа глядело сверху, в ужасе от такого наглого нарушения торжественной больничной тишины. Я улыбнулась доктору Верду и вдруг, поддавшись внезапному порыву, поцеловала его. Мы стукнулись головами. Он страшно смутился.
– Спасибо вам, – сказала я. Ведь он как‑никак спас мне жизнь. Спас жизнь неизвестно кому. И за это я должна быть ему благодарна.
– Непременно заезжайте нас навестить перед возвращением в Англию, – сказала сестра Мари–Тереза, вручая мне костыли. Она промокнула глаза. Странно, с чего это они меня так полюбили. Не представляю, что я такого сказала или сделала, чтобы пробудить в незнакомых людях теплые чувства. Должно быть, для этого достаточно просто позволить себя спасти.
– Или если возникнут какие‑то… трудности, – туманно проговорил доктор Верду. – Если потребуется какая‑нибудь помощь… – он смотрел себе под ноги.
– Спасибо, – повторила я.
Машина дяди Ксавье стояла у входа. Это оказался маленький потрепанный «рено». Странно, я ожидала чего‑нибудь посолидней. Дядя казался слишком могущественным, чтобы сидеть за рулем такой неказистой малышки. Должно быть, я ошибалась, принимая его за человека с положением. «Рено» и голубые дядины джинсы сбили меня с толку. Я не знала, что и думать. Жара на улице стояла плотной завесой: она оглушала, словно с размаху врезаешься в стену. Доктор Верду и сестра Мари–Тереза с крыльца махали нам вслед, пока мы отъезжали. Я попыталась опустить стекло, чтобы помахать в ответ, но оно не опускалось. Я надеялась, что они заметили мои старания, но, скорее всего, выглядело это так, будто я сразу о них забыла.
Ремень безопасности тоже пришел в негодность.
– Мне нужно купить какую‑нибудь обувь, – сказала я, когда мы миновали ворота больницы и въехали в город.
– Завтра, – сказал дядя Ксавье. – Завтра купишь обувь. Сегодня отдыхай и делай то, что тебе велят. Сегодня мы едем домой.
Домой. От этой мысли стало неуютно.
Мои ягодицы горели огнем на сиденье из искусственной кожи. Я пожалела, что не послушалась совета сестры Мари–Терезы и не надела льняную юбку. В джинсах было слишком жарко: но они чертовски хороши в них, эти мои новые стройные ноги, вытянутые под приборной доской.
– Нам далеко? – спросила я. Хорошо бы подальше. Хотелось никогда сюда не возвращаться.
Дядя Ксавье не слушал. Он был разозлен внезапно возникшей пробкой на улице с односторонним движением. Он несколько раз громко просигналил. Высунулся из окна, и махал руками, и сыпал проклятия на головы водителей. На перекрестке, где застопорилось движение, стоял знак со стрелкой влево, который гласил, что до Фижака сорок километров. Сорок километров пути – до того, как принять окончательное решение.
Мы застряли рядом с магазином Филдара. он был по левую руку, а за ним – обувная лавка с выставленными на тротуар стеллажами и корзинами с обувью. Дядя Ксавье не переставая молотил кулаком по сигналу. Мы продвигались еле–еле, в час по чайной ложке. Я могла прочесть цены: довольно дорого. Мне нужна всего лишь пара нежарких, удобных туфель. Честнее всего было бы сейчас выйти из машины, купить туфли и пойти прочь. Но честные поступки всегда мне плохо удавались, так что вместо этого я поерзала, чтобы отлипнуть от сиденья, и надела темные очки Крис.
– Любишь музыку? – спросил дядя Ксавье. У него были загорелые крепкие руки, от него исходил сильный запах – запах жизни. Запах силы.
– Да, – сказала я.
Он включил радио. Какая‑то универсальная поп–звезда вроде Джонни Холидея проникновенно пела задорную, сентиментальную французскую песенку. Мне, наконец, удалось опустить стекло и выставить локоть на край окна. Я была бы счастлива провести в таком положении много часов, навеки застрять в пробке, чтобы играла музыка и солнце жгло руку, а небо сияло яркой, неестественно яркой синевой. Но ничто не вечно. Мы неизбежно приближались к перекрестку и наконец, проскочили его. Дядя Ксавье нажал на газ, машина взревела, как сумасшедший биплан, и с рычанием рванула вперед. Мы шумно катили по широкой рыночной площади со стоянками для машин в тени деревьев, с магазинчиками и кафешками, потом проезжали заводской район, беспорядочно разбросанные пригородные домишки, совсем не похожие на бесконечные примитивные окраинные районы английских городов подобного типа. Затем мы внезапно очутились за городом, по радио женщина пела грустную галльскую песню о l'amour perdu [55]55
Потерянная любовь (фр.).
[Закрыть]. Солнце всей тяжестью легло на черепичные крыши. Дорога впереди плыла и дрожала в мареве размякшего гудрона. Дядя Ксавье вел машину ровно по середине шоссе. Он никому не собирался уступать. Каменные стены по обеим сторонам были увиты диким виноградом, покрыты зеленым мхом. Мы проезжали посадки грецкого ореха, луга с ульями, табачные поля, фермы, где во дворах гоготали гуси, проносились мимо густых перелесков с блестящей зеленой листвой.
Наконец подъехали к перекрестку. На знаке надпись: «Фижак – 29 километров». Время поджимало. Оставалось меньше тридцати километров.
– Дядя Ксавье, – сказала я через пару минут. Я не знала, как его иначе называть. – Д яд я Ксавье…
Он повернул голову, взглянул на меня. Я подумала: сейчас скажу. Попрошу высадить меня у станции в Фижаке. Но едва я открыла рот, чтобы произнести следующую фразу, как из‑за угла навстречу выскочил еще один маленький «рено». Дядя Ксавье вцепился в руль. Глаза его сверкнули. Он поерзал на сиденье, подался вперед, оскалил зубы. Он явно не собирался давать дорогу. Как, впрочем, и водитель другой машины. Я зажмурилась. Дядя Ксавье издал победный клич, ударил кулаком по сигналу и в самую последнюю секунду резко повернул вправо. Машины разошлись с зазором в несколько дюймов. Дядя Ксавье захохотал и удовлетворенно похлопал по приборному щитку.
– Salaud [56]56
Паршивец (фр.).
[Закрыть], – нежно сказал он и снова расслабился, откинувшись на сиденье. Он сиял от удовольствия. Теперь, когда дорога освободилась, он вспомнил, что я начала что‑то говорить.
– Так что ты собиралась сказать?
«Собиралась сказать, что я не ваша племянница», – подумала я.
– Нет, нет и нет, – сказал он, хлопая меня по костлявой джинсовой коленке. – Все в порядке. Не волнуйся.
Я так и обмерла. Сперва подумала, что он прочел мои мысли. Или я случайно проговорила их вслух. Странно другое: то, насколько сильно я встревожилась. Очевидно, я вовсе не намеревалась говорить ему правду. Но в таком случае, что есть правда, что истинно? Может, кто и знает это, но не я; я же вконец запуталась. Если истина – это то, во что верит большинство, тогда мне нечего ему сказать. А может, это всегда некий абсолют, как непреложные истины Тони, вроде его изречения о женских задах или истины сродни той, что Земля круглая? Хотя тут тоже кроется проблема. Если все поверят в то, что женский зад выглядит в брюках абсурдно или что Земля плоская, тогда сама эта вера превратит глупое предположение в правду. По крайней мере, пока большинство людей не заставят поверить в обратное.
– Нет, нет и нет. Не волнуйся, – повторил дядя Ксавье. – Я отличный водитель. Просто классный. Раньше мы каждый год принимали участие в гонках в Ле–Мане, я и твой отец. – Он оторвал взгляд от дороги и посмотрел на меня. – Ты совсем не помнишь отца?
– Нет.
Ведь и в самом деле не помнила. Он похлопал меня по коленке и между делом пощупал ее.
– Кожа да кости, – сказал он, громко фыркнув. – Так и осталась худышкой. Когда‑то я заставлял тебя пить козье молоко. Помнишь?
– Нет, – ответила я. Он засмеялся.
– Ничего‑то ты не помнишь. Что у тебя с головой? Она… – он явно рылся в памяти в поисках подходящего английского слова. – Она вся в дырках.
– Решето, – подсказала я. – Голова как решето.
В машине меня разморило. Я закрыла глаза.
– Знаешь, – немного погодя сказал дядя Ксавье, – чем больше я на тебя гляжу, тем больше замечаю, как ты похожа на мать.
Я сонно улыбнулась.
Потом, наверное, ненадолго задремала. Когда же проснулась, мы уже ехали по предместьям города.
– Где мы? – спросила я.
– Фижак, – сказал дядя Ксавье. Не включив поворота, он неожиданно свернул направо. Дорога пересекла реку и запетляла между гаражами и застекленными кухнями, открытыми для любопытных глаз.
– Куда мы едем? – тупо спросила я.
– Домой, куда же еще.
Вот тогда мне и следовало с этим покончить. Это был мой последний шанс, и я обязана была им воспользоваться. Сказать правду, извиниться и попросить отвезти к станции. Но меня охватила удивительная, прямо какая‑то фатальная пассивность. А почему, собственно, я употребляю слово «удивительная»? Ничего удивительного в этом не было. Я вообще всегда такая, это мое привычное состояние. Вечно плыву по течению, мол, будь что будет, поскольку для того, чтобы сопротивляться обстоятельствам, требуется несравненно больше энергии и уверенности, чем у меня имеется в наличии. К тому же на деле всегда выясняется, что возможностей для выбора все равно гораздо меньше, чем себе навыдумываешь. Посему я молча сидела на горячем, липком сиденье, не в силах покинуть это место, напоминавшее утробу матери, и рассеянно ждала, что кто‑то явится и спасет меня в этой нелепой ситуации, ибо самой мне для этого не хватало ни желания, ни сил.
Пейзаж постепенно изменился. Мы проезжали убогие заброшенные деревни. Потом начался подъем. Зеленая придорожная полоса, полная полевых цветов, сменилась сухой, колючей, как щетина, травой. Земля отступила перед камнем. По обеим сторонам дороги потянулись бесконечные массивы – из низкорослых дубов и сухого чертополоха. Казалось, мы взбираемся на вершину мира. Стволы коренастых деревьев поросли серым лишайником. В жизни не встречала более скучного зрелища. Скалы и камни, камни и скалы. Тощие овцы с колокольчиками на шее щипали редкую траву. Эта бесплодная, выжженная солнцем земля вызывала у меня отвращение. Проселочные дороги переплетались, как змеи, сходясь и расходясь, тянулись на многие мили. Впереди показалась ветряная мельница. Дядя Ксавье остановил машину.
– Voila – Кос, – сказал он, приглашая меня насладиться местными видами.
– Невероятно, – сказала я. Затем на случай, если этого недостаточно, повторила: – Совершенно невероятно.
– Другой такой страны в мире нет, – сказал он. Вот уж действительно. Ничего похожего я не видела и не испытывала желания увидеть. Во все стороны тянулись бесконечные пустоши и исчезали в далеком синем мареве.
– С этой стороны река, – сказал дядя Ксавье. – И с той река. Горж, – добавил он, вероятно считая, что я понимаю, о чем идет речь. Для меня это был пустой звук. Окружающие ландшафты источали недружелюбие.
«Рено» покатил дальше. Посреди беспорядочно разметавшейся деревушки мы повернули налево по дороге, усыпанной комьями глины и соломой. На перекрестке стоял выгоревший голубой знак с надписью: Шато (де чего‑то там).
– Мы почти дома, – сказал дядя Ксавье, и я вдруг занервничала. Даже во рту пересохло.
Я начала внимательнее присматриваться к домам, мимо которых мы проезжали. Сперва на глаза попалась полуразвалившаяся ферма. Ставни почти сгнили и болтались на петлях; прямо перед открытой задней дверью – навозная куча. Но неподалеку в поле стояла новенькая бетонная сельскохозяйственная постройка, так что, возможно, здесь жили не совсем бедняки. Посреди двора, с потрескавшейся на солнце грязью, на стуле сидел старик. В знак приветствия он взмахнул палкой, вспугнув гусей и возмущенных кур. А может, это была угроза, а не приветствие. Трудно сказать. Две злобные на вид собаки спали в тени чахлого грецкого ореха. Дядя Ксавье посигналил и поехал дальше. Я вздохнула с облегчением. Впереди показалась маленькая аккуратная ферма, каменный дом, приютившийся среди любовно ухоженных, ровных посадок табака и винограда. Я была убеждена, что мы приехали. Но вместо того чтобы притормозить, дядя Ксавье прибавил газу. Мы быстро катили с горы. Внезапно дорога резко свернула направо.
– Река, – сказал дядя Ксавье. – Вон там.
Внизу, в сотнях футов от нас, между высокими
берегами извивалась зеленая змейка воды.
– Un grand spectacle, uh? [57]57
Грандиозное зрелище, а? (фр.)
[Закрыть]– спросил дядя Ксавье. – Этого ты тоже, небось, не помнишь?
– Ровным счетом ничего не помню, – призналась я.
Он заложил крутой вираж – слишком скоростной и опасный. На другой стороне дороги высилась каменная стена утеса. Я про себя молилась, чтобы нам не попался встречный транспорт. В паре сотен ярдов после очередного линялого знака «Site Historique» [58]58
Историческое место (фр.).
[Закрыть]дядя Ксавье свернул влево, на узкую каменистую тропу, ведущую, казалось, прямо к обрыву. Кусты и хилые побеги черной смородины торчали из трещин в камне. Прыснули во все стороны ящерицы. Небо отливало темной, тяжелой синевой. Тропа резко свернула, и глазам внезапно открылся огромный природный амфитеатр, в центре которого, словно высеченный в скале, возвышался настоящий замок, топорща серые башенки в виде солонок.
– Alors. Nous sommes la [59]59
Ну, вот мы и на месте (фр.).
[Закрыть], – сказал дядя Ксавье.
– Это оно? – ошалело спросила я.
Он бросил на меня быстрый взгляд.
– Конечно, оно самое. А чего ты ожидала?
– Только не этого. – Я была поражена. Высокие, изящные башни поднимались из скал, а над ними нависали великолепные естественные колонны и ниши, вырезанные в камне временем и ветрами.
– Я забыла, – сказала я (попытка срочно восстановить нанесенный моральный ущерб), – совсем забыла, насколько он великолепен.
Он скромно пожал плечами, будто я говорила не о замке, а о нем самом.
Чем ближе мы подъезжали, тем огромней и прекрасней становился замок.
– Здесь новая автостоянка, – сказал дядя Ксавье, явно для того, чтобы я пришла в восхищение, что я и сделала, хотя кроме широченной, усыпанной гравием площадки, залитой жгучим солнцем, ничего примечательного не увидела. – В прошлом году построили. Здесь будет намного лучше, когда подрастут деревья. – Я разглядела несколько сомнительных, чахлых, изнывающих от жажды побегов. – Мы можем принять от пяти до шести десятков машин, – прибавил он с гордостью.
– У вас бывает столько посетителей? – спросила я.
– Пока не бывало, – сказал он. – Не всё сразу. Но в этот году, кто знает, может статься…
Перед нами была стена с бойницами, сильно смахивающая на театральный занавес. Дядя Ксавье въехал в готическую арку, миновал маленькую будку у ворот, на стене которой были вывешены правила посещения замка: «Visites Guidwes, tous les apris‑midis» [60]60
Экскурсии проводятся ежедневно, в послеобеденное время (фр.).
[Закрыть]. Дорожка, покрытая гравием, бежала между высохшими, запущенными клумбами и сворачивала так, что главный средневековый замок немного перемещался вправо, а впереди показалось сооружение поменьше – gentilhom‑minre [61]61
Небольшая дворянская усадьба (фр.).
[Закрыть], – скрытое стеной от глаз посетителей, осыпающееся, но пышное и элегантное крыло эпохи Ренессанса. Кто‑то совершил вялую попытку разводить под окнами цветы. У крыльца валялся трехколесный велосипед и старые пластмассовые игрушки.
Машина резко затормозила, взметнув гравий и едва не врезавшись в велосипед.
– Вот мы и дома, – сказал дядя Ксавье.
Я спросила себя: ну как, нервничаешь? Стало ясно, что я собираюсь продолжать в том же духе, позволяя себе плыть по течению. Во рту у меня пересохло, а ладони и белье были влажными от пота, но, возможно, это просто из‑за жары. Я стояла на гравийной дорожке у крыльца, глядя вверх на круглые башни–солонки, сверкающие на солнце чеканным серебром, и вдруг рассмеялась.