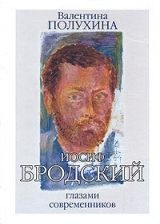
Текст книги "Бродский глазами современников"
Автор книги: Валентина Полухина
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
ПРИЛОЖЕНИЕ
В силу того, что полный комплект газеты «Новый американец» достать практически невозможно даже на Западе, по просьбе Томаса Венцловы редакция сочла возможным перепечатать его неоднократно цитируемую в интервью принципиально важную заметку из специального выпуска газеты, посвященного 40-летию Бродского. Приводим ее полностью:
Стихи Бродского для меня давно уже не просто поэтический, а жизненный факт. Дело не только в том, что я часто, сам того не замечая, объясняюсь цитатами из Бродского. Я привык смотреть на его стихи как на часть того шифра, который мне посылает жизнь – скажем, впервые увиденный город. Этот шифр по мере разгадки направляет мои поступки и меняет мое внутреннее пространство.
Поражает, далее подавляет виртуозность Бродского. Здесь он равен своим любимым римлянам – вплоть до Персия – или некоторым поэтам средневековья. Чувство стиля сочетается у него с тем внешним, ироническим отношением к стилям, на котором только и могут в нашу далеко не прекрасную эпоху строиться прекрасные стихи. Отсюда – полное отсутствие клише, точнее, преобразование их в "мета-клише". За несерьезным отношением к стилю стоит серьезнейшее отношение к поэтическому дару, как средству построения души, да, видимо, и всего остального.
Не знаю, можно ли Бродского назвать религиозным поэтом: эпитет "религиозный" часто употребляют всуе. В любом случае его тема близка к религиозной. Эта тема – "бытие и ничто" (логическое ударение может сдвигаться). Стихи Бродского написаны с точки зрения "испытателя боли": это придает им глубинную нравственную перспективу, которая помогает выжить – как стиху, так и его читателю.
Бродский относится ко всей предыдущей русской культуре с той свободой, которая естественна для законного наследника. Конечно, он петербургский поэт – поэт того замечательного и страшного города, архитектура которого, как обмолвился Алексей Лосев, вся вышла из Ледяного дома (и, добавлю, была завершена Большим).
В своем поколении Бродский – один. В этом "рассеянном поколении" (рассеянном в любом смысле слова) есть настоящие поэты, близкие ему биографически, да и не только. Но это – спутники, как лицеисты были спутниками Пушкина (не буду настаивать на полноте аналогии). В своей эпохе Бродскому не с кем соперничать и вступать в диалог. Ахматова или Мандельштам были в более счастливом положении.
На том уровне, на котором пишет Бродский, разумнее отмечать не влияния, а сходства и переклички. Вероятно, я выскажу распространенное мнение, если прежде всего вспомню Цветаеву – поэта той же крайности, предельности, внутреннего неблагополучия, нередко и подобных приемов (сверхобилие переносов и др.). Можно вспомнить иных обэриутов (Введенского). Есть, пожалуй, и достаточно неожиданная связь, которую скрадывает внешнее различие судеб, – связь с Маяковским: разумеется, не с тем, которого пережевывают советские и полусоветские авторы.
Бродский освоил западную поэзию органичнее, чем кто-либо из россиян со времен даже не Серебряного, а Золотого века. При этом, как и в Золотом веке, речь идет не столько о современниках, сколько о поэтах, старших на одно-два поколения. Оно и к лучшему.
Есть заметная разница между ранним Бродским – и зрелым, тяготеющим к прозе, к нейтральной интонации. Внешние события содействовали этой перемене, хотя и не предрешили ее. То, что находится на стыке двух манер, по-моему, особенно замечательно – например, "Натюрморт" или "Сретенье". Впрочем, вероятно, я еще недостаточно свыкся с новой манерой, чтобы оценить ее до конца.
Рой Фишер
Рой Фишер(Roy Fisher) родился 11 июня 1930 года в Хандсворфе, Бирмингем. Поэт, джазовый пианист. Окончил в 1953 году Бирмингемский университет, работал преподавателем в школе и колледже (1953-63), читал лекции в Bordesley College, Бирмингем (1963-71) и Килском университете (1972-82). Сейчас он вольный художник и музыкант. Образцом для его первого стихотворения (1949) послужил Дилан Томас, за ним последовали стилизации под Одена, Йейтса и Элиота. Фишер заслужил репутацию «городского поэта» публикацией своих первых двух памфлетов «City» (Worcester, 1961) и «Hallucinations: City II» (Worcester, 1962), в которых он продемонстрировал новый подход к материалу путем смешения идей и образов из картин, газет и фотографий. В конце 50-х годов он вместе со многими американскими поэтами работал вне английской поэтической традиции того времени. Фишер приобрел известность благодаря своей последующей книге «The Ship's Orchestra» (London, 1967). Это сюрреалистическая поэма в прозе, начатая в 1962 году как эстетический отклик на «Трех музыкантов» Пикассо. В 60-е годы Фишер опубликовал еще несколько сборников: «Теп Interiors with Various Figures» (Nottingham, 1966), «The Memorial Fountain» (Newcastle upon Tyne, 1967), «Titles» (Nottingham, 1969) и наиболее совершенный из них – «Collected Poems, 1968» (London, 1969), принесший ему международное признание, престиж и титул «тихого провинциального эксцентрика». Критика оценила его эксцентрическую оригинальность и поэтическое мастерство. Он продолжил эксперименты на границе поэзии и прозы в книгах «The Cut Pages» и «Matrix» (обе 1971, London), выстраивая некоторые стихотворения по законам музыкальной фразы. Из двух дюжин его сборников основными являются: «Poems 1955-1980» (Oxford, 1980), «A Furnace» (Oxford, 1986) и «Poems 1955-1987» (Oxford, 1988). «А Furnace» – большая поэма, представляющая собой двойную спираль, по определению Фишера, «смесь словарного опыта и физического наблюдения»; она продолжает тему города и производит «ошеломляюще субъективное ощущение одержимости определенным местом». Хотя сам Фишер определяет себя как «русского модерниста 20-х», его стиль столь элегантен и совершенен, вплоть до безукоризненности, использование тропов столь бережно и обращение с лирическим героем слишком аскетично для того, чтобы вписаться в какую-либо русскую модель. Общим с Бродским, тем не менее, для него является использование «медитации как основного состояния».
БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД ДОН-КИХОТА
Интервью с Роем Фишером
5 марта 1990, Кил
Питер Портер писал, что суть вашего высказывания в том, чтобы рассмотреть мистическое в варварские времена [397]397
Peter Porter, «Soliloquies on the City» («The Observer», 27 April, 1988).
[Закрыть]. Вы с этим согласны?
Я не несогласен. Он выдергивает некоторые слова из заключительной части "A Furnace" [398]398
Roy Fisher, «A Furnace» (Oxford University Press, 1986), P. 48.
[Закрыть], в которых я обращаюсь к нашим временам как к варварским. Вероятно, я отношу их к варварским в том смысле, что них нет словаря, нет каких-либо форм для обнаружения того, что он мог бы назвать мистическим. Я буду просто называть это правдой.
Критики обычно верно истолковывают ваши стихотворения, или они многое упускают?
По-разному. Обозреватели, пишущие обычно в спешке, имеют довольно различные мотивы для написания. Меня никогда не интересовали такие короткие клочки. Недавно было три или четыре более длинных эссе, которые кажутся мне дающими достаточно точное представление о том, что я делаю, поэтому я чувствую, что справляюсь с тем, чтобы быть постижимым.
Вы поэт, принадлежащий двум культурам: американской и английской традиции. Куда вы сами себя помещаете?
Я никогда не думал об этом. Мне не кажется, что я сделал что-либо большее, нежели понял, как начать, просто организовал пространство вокруг себя, в котором могу работать. Я не думаю, что находился сознательно под прямым влиянием многих поэтов, я не чувствовал большой корпоративности, в глубоком смысле, с творчеством многих поэтов.
Какой критерий вы бы выбрали для того, чтобы определить свое место? Ваша техника? Ваше отношение к английскому языку? Ваши основные темы? Ваше отношение к проблемам современности? Что доминирует?
Ну, полнейшая бессодержательность моего ответа будет особенно интересна. Я не вижу себя с этого расстояния. Я не знаю, оттого ли, что сам вопрос, даже если вы его детализируете, не является очень значимым для меня, поскольку я испытываю антипатию ко всем этим критериям; или это из-за того, что я настолько солипсист и лишен чувства окружающего, или я понятия не имею, какой из этих критериев ко мне применим. Видите ли, я обычно ставился людьми, которые пытались меня как-то определить, в странное положение, абсурдное, но обладающее для них каким-то смыслом. То есть я был молодым писателем-экспериментатором, затем последовательным экспериментатором, сейчас я, по-видимому, старейший писатель-экспериментатор. Я "охотно идущий навстречу аутсайдер". Меня очень часто ставили в такого рода положение и рассматривали как кого-то, кто довольно упрям, кто следует собственному пути. Я с удовольствием отвечаю согласием людям, которые хотят опубликовать мои работы. Но я не прошу людей что-либо сделать для меня, поскольку, честно говоря, не верю в особенную существенность как той части литературного мира, которая принимает меня, так и той, которая меня игнорирует. Я обхожусь тем минимумом людей, которые приглашают меня что-либо сделать, пишут мне, говорят со мной, знают, очевидно, то, что я делаю; я использую их почти что социально, как людей, составляющих мой круг, благодаря которым я существую.
Можете ли вы определить наиболее характерные черты своей поэтики ?
Думаю, я могу на это ответить только проследив за собственным рабочим процессом. Я отношу себя, как, полагаю, и каждый писатель, к состоянию языка, простого повседневного языка, который слышу вокруг себя и которым пользуюсь. И суть того, по направлению к чему я продвигаюсь, это, в первую очередь, отступить от него к молчанию. Это не совсем то, крайнее философическое молчание Беккета, но нечто подобное. Я ухожу в молчание, в котором я не существую. И молчание доставляет мне удовольствие. Потом я позволю звукам и языку – столь мало, сколь это возможно, столь скупо, насколько возможно – занять свое место в молчании, только потому, что они должны вторгнуться, и я не в силах предотвратить этого. Мне необходимо, чтобы они были там. И я буду извлекать их из очень скупого использования языка, очень осторожного, бережного использования языка; мне нравится продвигаться через этот узкий проход к открытию лирики, или описания, или чувственности, или воссоздания природы в языке. Но только после того, как мой опыт прошел через ничто и молчание.
Я могу временами работать, не злоупотребляя образным языком, потому что мне гораздо более интересен ракурс высказывания, его тон, положение в котором оно направлено вверх, вниз, вбок; положение в котором оно живет, еле живет, уже мертво. Я начинал с этого, и я продолжаю это делать.
Чувствуете ли вы какую-либо близость с Бродским?
По мне, так это очень аккуратно сбалансированные и да, и нет.
Они почти равнозначны. Я уже говорил, что для меня испытывать чувство близости с поэтом почти бессмысленно. У меня нет подобного рода ощущений для другого поэта. Но если я буду искать родство с Бродским, я найду его через разделяющий нас занавес языка. Иногда занавес – это английский язык. Я нахожу, что это совершенно просто, как мне кажется, понять, что значит быть Бродским; что значит для него работа; что значит для него жизнь. И это отчасти потому, что он сам очень красноречиво говорит об этом. Сверх того я продолжаю относиться к нему как к любому другому, видя, где мы с ним расходимся. Бродский на десять лет моложе меня, и он всего лишь присутствовал где-то на периферии моего сознания когда мне было сорок-пятьдесят, так что он никоим образом не стал для меня чем-то формообразующим. Поэтому, думаю, я могу видеть его и ощущать его энергию, его дар наиболее ясно именно в точках наших расхождений. И я чувствую это очень хорошо. Есть место в одном из автобиографических эссе, где он говорит о молодых писателях в Ленинграде, когда он был совсем еще юным. Для них книги были свободой, книги были оппозицией авторитаризму. И "мировая культура", то, что они могли выбрать из классической литературы (которую он сейчас так много использует) вместе с тем, чем они питались в системе образования – это то, через что они прошли. Я могу видеть, как они приходили потом к книгам, которые являются ядром западных учебных программ, и оценивали их как символы свободы.
Для меня, однако, те же самые составлявшие ядро программ книги были достоянием касты, людей, являвшихся хозяевами, управлявших нашим обществом. Границы авторитарности в этих двух обществах так значительно разнятся, что сравнивать их трудно. Но для меня ощущение возможности использования разрешенной литературы, возможности быть книжным, думать при помощи определенных текстов, общаться с другими людьми посредством литературных аллюзий – все это удушающе и академично. Долгое время я испытывал побуждение работать совершенно антилитературным способом.
Подобным же образом Бродский, несомненно, испытывает, насколько я могу судить о поэзии по переводам, огромное пристрастие к дискурсивной поэзии, к совершенно открытой игре идей и образного языка. Это никогда не могло быть моим путем, поскольку я бы просто отнес себя к совершенно добродушному литературному истэблишменту, никогда не боровшемуся ни за какую свободу, заведомо ею обладая. Какую-то свою свободу я приобрел уходя из этого, утверждая, что я скорее пианист, нежели писатель, и занимаясь писанием таким образом, который не подвергает опасности быть захваченным культурой в качестве любимого сынка.
Мне кажется, что у вас с Бродским есть еще нечто общее. Вы, по определению Дональда Дэви, поэт города [399]399
Donald Davie, «Roy Fisher: An Appreciation» in: «Thomas Hardy and British Poetry» (Routledge & Kegan Paul: London, 1973), P. 152-72.
[Закрыть] . Бродский обладает особым даром портретирования городов: возьмите такие его стихи, как «Темза в Челси» [Ч:46-48/II:350-52], «Декабрь во Флоренции» [Ч:111-13/II:383-85] или «В окрестностях Александрии» [У:138-39/III:57-58], о Вашингтоне. Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали любое из этих стихотворений.
Моя первоначальная реакция на лондонские и флорентийские стихи была экстратекстуальной: никто не должен потворствовать претенциозности исторических столиц и городов-государств, награждая их поэтическими декорациями, пусть и блистательными. Если поэт, делающий это, является всего лишь культурным туристом, работа будет иметь затхлый запах. Но во всех этих стихах очевидно, что Бродский – подлинный чужестранец, имеющий право – в сущности у него нет иного выбора – перенести себя из города своего рождения в эти особенно "священные" места и оценить их как части более глубокого путешествия. Отсюда его неизменное присутствие. Ты сознаешь, что он смотрит из-под прищуренных век на разворачивающиеся перед ним виды; ты сознаешь также, что одновременно он рисует собственные картины этого, вычерчивая их на карте в сравнениях и метафорах, иногда вопиющих. Характерно, что он идет на монументальные самоуподобления мест, в особенности Вашингтона, но не испытывает благоговейного страха. Точно так же, отправляясь во Флоренцию, он вызывает дух Данте и обладает достаточной силой, чтобы справиться с этим. Немногие на такое способны.
То место во второй из замечательной пары строф – четвертой и пятой – "Темзы в Челси", где он, не обращая внимания на характерную скуку Лондона, ныряет в собственную неизбежность, я нахожу наиболее общей основой всего, что Бродский пишет о городах. Я не могу себе представить, чтобы он когда-либо испытывал потребность написать о городе, подобном моему: широкий, поспешный, немилосердный рост без каких-либо свойств метрополии, но с поверхностными притязаниями на имперскую историю – и тем не менее обладающем достаточной силой, чтобы потрясти поэтическое сознание. Хотел бы я увидеть, как он с этим справится.
Согласно Чеславу Милошу, Бродский «в экспериментах с поэтическими жанрами – одой, лирическим стихотворением, элегией, поэмой – напоминает Одена» [400]400
Czeslaw Milosz, «A Struggle against Suffocation», a review of Joseph Brodsky's «A Part of Speech» («The New York Review of Books», 14 August 1980, P. 23). Русский перевод А.Батчана и Н.Шарымовой: Чеслав Милош, «Борьба с удушьем» – в нью– йоркском альманахе «Часть речи» (No. 4/5, 1983/84, С. 170). В России пер. Л.Лосева см. «Знамя» (No. 12, 1996, С. 150-55).
[Закрыть] . Поскольку жанры лучше, чем что-либо, сохраняются в переводе, видите ли вы какое-нибудь родство между Бродским и Оденом в этом или любых других отношениях?
Вижу совершенно отчетливо. Это необычнее всего, поскольку означает, что добрая часть того, чем Бродский занимается по-русски, или по-английски, или по-русски в переводах на английский, выполненных как им самим, так и другими, представляет из себя нечто необщепринятое сегодня в английской поэзии. В значительной степени это жанр, или набор жанров, который, предполагаю, разработал Оден где-то между серединой 30-х и концом 50-х, когда он развивал свой стиль (как бы это сформулировать?) культурной дискурсивности, работая в том или ином неоклассическом варианте. Я не знаю, сколь далеко этот стиль письма вообще может отстоять от чрезвычайно сильной личности самого Одена. Я был озадачен количеством совпадений в открытии Бродским Одена, как своего пути в английскую поэзию.
Как вы знаете, Бродский написал два эссе об Одене. Почему, на ваш взгляд, он выбрал Одена из всех прочих английских поэтов этого века?
Ну, он сам объясняет это, не так ли, с точки зрения стихов Одена о времени, преклоняющемся перед языком [401]401
Имеются в виду стихи Одена «Памяти У.Б.Йейтса» (In Memory of W.B.Yeats):
Time that is intolerant / Of the brave and innocent / And indifferent in a week / To a beautiful physique, / Worships language and forgives / Everyone by whom it lives; / Pardons cowardice, conceit, / Lays its honours at their feet.
О том, как поразила молодого Бродского мысль, что "Время... преклоняется перед языком и прощает его служителей" см. подробнее в одном из двух эссе об Одене, "То Please a Shadow", [L:361-65]. Русский пер. Елены Касаткиной: "Поклониться тени" см. "Иосиф Бродский. Неизданное в России" ("Звезда" No. 1, 1997, С. 8-20).
Русский перевод стихотворения А.Эппеля был опубликован в кн. "Западноевропейская поэзия XX века" (М., 1977) и вошел в антологию "Американская поэзия в русских переводах" ("Радуга": М., 1983, С. 384-89, с параллельным английским текстом). Там указанные строфы выглядят следующим образом:
Время, коему претит / Смелых и невинных вид, / Краткий положив предел / Совершенству в мире тел, / Речь боготворя, простит / Тех лишь, в ком себя же длит; / Трус ли, гордый ли – у ног / Полагает им венок.
Ср. в одной из немногих доотъездных публикаций Бродского на родине – в стихах "Памяти Т.С.Элиота" ("День поэзии", Л-д, 1967, С. 134-35) (окончательное название "Стихи на смерть Т.С.Элиота" [0:139-41/1:411-13], датированы 12.1.1965):
Аполлон, сними венок, / Положи его у ног / Элиота, как предел / Для бессмертья в мире тел.
[Закрыть]? Меня это объяснение убеждает в том, что тут нет никакой случайности, поглощенность Бродского этим такова, что английский поэт, попавший в его сети, будет, говоря подобные вещи, ему созвучен. Я, возможно, не только не проясню до конца вопрос, но даже затемню его, заявляя совершенно противоположный пример из собственного опыта столкновения с тем, как английский читатель будет воспринимать русскую поэзию. Когда я читал в переводах Пастернака, первым просочившегося вследствие всеобщего интереса к «Доктору Живаго» тридцать лет назад, это был полнейший взрыв чувственности и эмоций, заставивших меня подумать: вот эстетика, которую я привью, это что-то, что я хотел бы написать, и чего нет в английской поэзии. Английская поэзия частенько представляет собой исключительно морализаторскую разновидность. Дидактизм Одена, его готовность к морализаторству, явились, возможно, для Бродского освежающими, поскольку ему несомненно нравится работать на этом уровне, и по иным, чем у Одена, причинам. Он обладает, например, могущественной метафизикой формы и дисциплины. Как он говорит о том, почему рифма так эффективна? Что-то вроде «она придает форму вашей умственной деятельности по меньшей мере более чем одним способом; она становится вашим методом познания» [L:350]. Так что я вижу в этом притягательность Одена.
Я могу только сказать, и, предполагаю, практически каждый пишущий сегодня английский поэт скажет, что это наиболее необычный выбор для кого бы то ни было, поскольку Оден был чрезвычайно сильной и влиятельной фигурой эпохи, и заполонил уши целого поколения людей, читателей и молодых писателей, обманчиво внушительной интонацией, которую он разработал. И с тех пор существует реакция против этого.
Интересно, что в то время как вы были поражены взрывом эмоций в русской поэзии, Бродский старался культивировать качества, которые обнаружил в поэзии Одена и вообще в английской поэзии: «объективное и беспристрастное рассуждение» [L:319]. Согласны ли вы с тем, что английская поэзия в целом звучит более нейтрально, менее эмоционально, стремится к объективности как интонацией, так и лексикой?
Ну, на это существует более чем один ответ. Способ, которым работаю я сам, явно зависит от очень ровной и объективной интонации, поскольку это основа, на которой вы должны стоять перед нарастанием. Я знаю, что нейтральность моей интонации заходит далеко, достаточно далеко чтобы устранить любое осуждение – хотя и полагаю свою работу дидактической. Но в английской поэзии существует тенденция быть утомительно и назойливо осуждающей; в конце 20-х или в 3 0-е годы средний пласт английской поэзии был во многом всего лишь описательным, всего лишь автобиографическим, почти журналистским, обладая лишь небольшой степенью мягкого осуждения, присущей хорошей журналистике, тогда как поэзия 1930-х, Одена, была сурово осуждающей. Я, скорее, предпочитаю это. Я до некоторой степени имею представление о том, что было сделано. Но это разновидность легкого уровня осуждения, разновидность вежливой морализации; описания вещей, их небольшого усовершенствования, использования некоторых хорошо отобранных фигур речи и придания им смысла.
Кроме уже упомянутых имен, кто еще, на ваш взгляд, особенно заметен в поэзии Бродского?
Я предполагаю, Данте. Но я снова отделен от поэзии языком. Возможно, я совсем не в состоянии ответить на это, поскольку мои познания в классике не столь хороши, как у Бродского.
Я намекаю на английскую поэзию XVII века, на Джона Донна и других метафизиков.
О да, в планировке его стихотворений мне виден тот особенный путь, по которому Донн проложил такие свои стихи, как "Nocturnall upon St Lucie's Day" ("Ноктюрн на день Святой Люсии"), или "The Flea" ("Блоха" [0:221/III:358]). Это определенная протяженность стихотворения. Оно разрабатывается в длинных строфах, включает утверждение, отчасти вербальное, отчасти фантасмагорическое, и содержит в себе грандиозный наплыв чувств и ассоциаций.
Вы знакомы со стихотворением Бродского «Бабочка» [Ч:32-38/II:294-98]. Видите ли вы Джона Донна в этом стихотворении?
Да, я думаю; я не знаю здесь другого источника, кроме английского XVII века, хотя это и не стилизация. Достаточно интересно – я говорю со своей колокольни и не заглядывая в книги, – что привычку Одена к разработке поминальных либо медитативных стихотворений, особенно с конца 1930-х, будут связывать с прямым влиянием XVII века. Кажется, это тот случай, когда Оден почувствовал, что ухватил сразу интонацию и богатство техники, достаточные для полета, хотя прежде мне никогда не приходило в голову поинтересоваться, где Оден взял все это. Он получал образование в то время, когда метафизики стали должным объектом изучения, это было в конце 20-х. До этого на них не обращали особого внимания.
Об английской метафизической поэзии написал Т.С.Элиот. Не писал ли он сам в том же духе?
Он откликался на прошлое, закономерно перенося эхо тех времен в будущее. Оден поднимал форму, чтобы создать средство выражения для культивируемой им современной, но не-английской способности движения сквозь непроницаемые абстракции.
Бродский открыл английскую метафизическую поэзию до того, как он открыл Одена или Т.С.Элиота. Думаете ли вы, что его интерес к ним обоим частично обусловлен интересом к Донну и другим поэтам-метафизикам, которых он тогда переводил на русский язык?
Я достаточно глух к Элиоту тех дней, тех десятилетий, поэтому не вижу никаких связей между его методом и методом Бродского. Я, конечно же, могу увидеть их у Бродского с Оденом, но я настолько сомневаюсь в его принадлежности к Элиотовскому пути развития, что просто не могу продолжить мысль дальше в этом направлении.
Продолжим. Том Ганн сказал, что «необходимо быть одержимым чем-либо для того, чтобы написать об этом хорошо» [402]402
Thom Gunn, interviewed by John Haffenden, «Viewpoints», «Poets in Conversation with John Haffenden» (Faber & Faber: London, 1981), P. 35.
[Закрыть]. Вы с этим согласны?
Согласен. Я думаю, должна быть определенная степень одержимости. И языковой одержимости тоже, так как слова волнуют вне своей обыкновенности, общепринятого уровня. Должно быть нечто, вторгшееся в вашу душевную жизнь, либо существующее внутри ее. Это живет за ваш счет, и вы живете за счет этого.
В чем заключается ваша одержимость?
В точности не знаю. Мне совершенно ясно, что лет примерно тридцать назад я начал писать, одержимый самим фактом существования своего родного города. Я знал, что в то время была одержимость, но она была готической. Она высилась. Бродский назвал бы это вертикалью. Она высилась надо мной. Она высилась вокруг меня. Я шел сквозь нее, как сквозь ландшафт сновидения, и я не знал, из чего он состоит, зачем он здесь, почему это действует на меня подобным образом. Теперь я знаю кое-что об этом, и всегда полагал, что полностью избавился от одержимости. И тем не менее я все еще бываю захвачен ею врасплох, и одержимость становится все более и более абстрактной, все более и более рафинированной. Я знаю, что обладаю и другой одержимостью, она проявляется в сдвигах употребления языка, на его границах: свет и тьма, день и ночь, жизнь и смерть. Я очень часто беру язык подобного рода пограничный и делаю слова неразделимыми, когда они стремятся к разделению. Я стараюсь, чтобы они чуточку перекрывали друг друга, стараюсь дать такое истолкование, чтобы перегородки между ними не были неизменны. Они противятся этому, но я одержим желанием использовать язык подобным образом. Это, несомненно, опять Беккет. Он возникает здесь снова и снова.
Имя Беккета возвращает нас к Бродскому, ведь он обожает Беккета. Надеюсь, вы знакомы с заключительной частью книги «То Urania», поэмой в диалогах «Горбунов и Горчаков» [403]403
Имеется в виду английское издание Joseph Brodsky, «То Urania: Selected Poems 1965-1985» (Penguin Books, 1988). «Горбунов и Горчаков» [0:177-2!8/Н:102-38| создавался в 1965-1968 гг.
[Закрыть] . Когда Бродский показал ее в Ленинграде своей подруге из Англии (поэма была написана в 1968 году), та сказала: «Неплохо, Иосиф, но в ней слишком много Беккета». Рассказывая мне эту историю, он добавил: «Я думаю, что это получше Беккета» [404]404
Иосиф Бродский, Интервью Валентине Полухиной, апрель 1980, Ann Arbor. Неопубликовано.
[Закрыть] . Усматриваете ли вы Беккета в «Горбунове и Горчакове»?
Я помню его рассказ о том, как он влюбился в фотографию Беккета, не прочитав еще у того ни единого слова [L:22/HH:22]. Да, там достаточно Беккета. Я вижу кусочки из "Годо" и я вижу кусочки из романов: эта специфическая разновидность напряжения между двумя фигурами. Полагаю, Бродский считает это лучшим, поскольку оно обладает внешней формой. По мою сторону стены наш идол – идея органической формы, заключающаяся в том, что энергия движения мысли может, сама по себе, привнести оптимальную форму. Вот почему я работаю часто с огромным риском потерять хоть какую-то репутацию в Англии, работаю на стыке поэзии и прозы, очень близко к прозе, разрушаю размер в собственных произведениях, чтобы этот размер не искажал – не само то, что я говорю, но не искажал мою поэзию.
Ряд критиков Бродского указывал на «прозаический» характер его поэтического языка. Памятуя, что он сохраняет размер и рифму, в чем, кроме лексики, на ваш взгляд, состоит его прозаизм?
Ничего не могу сказать о звучании русского Бродского, насколько оно сопоставимо с остальной русской поэзией, которая, возможно, считается менее прозаизированной. Парадоксально, но его нескончаемая игра метафорами, прочими образами обнаруживает в английском варианте структуру текста гораздо более изощренно сработанную и богатую событиями, нежели жалкая подражательность или велеречивость, характерные для большинства ныне пишущих английских поэтов. Так что мы вынуждены принимать предполагаемый прозаический элемент на веру. Если где и есть несомненное присутствие этого, так в самой его персоне: сфере ее интересов, сухости, иронии. Приемы используются не для перекачки воздуха, а для того, чтобы поддерживать постоянный процесс искусного понятийного домоводства. Лирические сантименты всегда присутствуют, но их полет недолог.
Как человек одержимый, можете ли вы распознать одержимость Бродского, не важно в поэзии или в прозе?
Я замечаю, в частности, поскольку это заставляет его представлять скопления предметов, что его очаровывает характерная тяга классических культур к прочности: к памятникам, строениям, статуям.
Как вы думаете, почему он до такой степени поглощен темой времени?
Я ломал над этим голову, поскольку это вещь, которую я воспринимаю как психологическую пытку. Я склонен жить с этим так часто, что не могу от этого избавиться. Я ни на шаг от этого. Так что я не могу говорить об этом, давать этому имя. Вполне возможно, что это моя личная мания, не менее сильная, нежели у Бродского. Это абсурдность каждой прожитой мной минуты. Я могу понять его интерес к этому. Должен сказать, что при чтении его эссе я замечаю, что он говорит об этом, как о первостепенно важном для себя, но я не могу ощутить, почему это для него так первостепенно важно. Те замечательные вещи, мелькающие время от времени по ходу рассуждений об устройстве стиха, специфике цезуры, – как там у него?
«...обращаясь к этому средству памяти внутри другого – то есть внутри александрийского стиха, – Мандельштам наряду с тем, что создает почти физическое ощущение тоннеля времени, создает эффект игры в игре, цезуры в цезуре, паузы в паузе. Что есть, в конечном счете, форма времени, если не его значение: если время не остановлено этим, оно по крайней мере фокусируется» [L:127/HH:34].
Он говорит об этом, как о способе управления временем или остановки времени. Я нахожу это очень волнующим, или очень взволнованным, очень пьянящим. Он позволяет себе делать грандиозные обобщения и очень широкие замечания подобного рода. Я вижу, что если он где и хочет управлять временем, так это в собственном внутреннем мире и в своем родном языке. Так как у меня отрыжка от английского, я не хочу им управлять. Я почти хочу управлять временем, но противоположным образом. Я хочу совершенно остановить язык, чтобы он стоял неподвижно, поскольку наш язык бежит, бежит поскальзываясь, и это было бы очень здорово – остановить язык. И, по-моему, средства для этого должны быть довольно жесткими. Ты используешь эти средства как машина, углубляющая дорожную колею. В буквальном смысле, я, возможно, буду вынужден вскопать почву поперек бега английского языка, во многом подобно тому, как рубят деревья перед стеной огня, я должен создавать открытое пространство, и это путь выпавшего мне языка, но не путь языка, выпавшего ему.
Язык – еще одна из вещей, которыми одержим Бродский. Для него поэзия это не 'лучшие слова в лучшем порядке', это высшая форма существования языка [L:186/IV:71], Почему Бродский, как видно из всех его эссе, так чрезвычайно одержим языком?
значительной степени это обусловлено тем известным положением, что авторитарное государство может украсть у человека его язык и потом, поскольку язык чрезвычайно уязвим перед запретами, сдать его внаем на поддельных условиях, используя как инструмент социального и психического контроля. Любые лингвистические отступления не могут не обретать магическую силу, да и реальную силу тоже – нагонять ужас на власти, менять ход событий, убивать людей, – тогда как нам язык достается дешево и, если вдуматься, он избыточен, следовательно, не вызывает удивления. Бродский не предстает в своих стихах фигурой романтической или драматизированной, но его поэтический импульс опирается на драматизацию его магического и интимного родства с мощью и судьбой русского языка.
Бродский тоже проводит границу между английской литературой и русской, скорее даже европейской литературой. По его утверждению, «европейцы... рассматривают мир как бы изнутри, как его участники, как его жертвы», в то время как английским писателям и поэтам присущ «несколько изумленный взгляд на вещи со стороны» [405]405
Иосиф Бродский, «Европейский воздух над Россией», интервью Анни Эпельбуан («Странник» No. 1, 1991, С. 39).
[Закрыть] . Откуда берется это, столь высоко ценимое Бродским, чувство отстранения? Является ли оно органичной частью самого языка?








