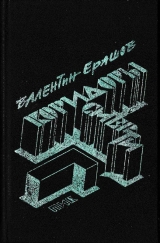
Текст книги "Коридоры смерти. Рассказы"
Автор книги: Валентин Ерашов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Лебедев уходил воевать
Станиславу Николаевичу Лебедеву, бухгалтеру швейной артели, повестку принесли для скорости прямо на службу, поскольку военкомат был рядом, принесли в обеденный краткий перерыв, когда в конторе он был один, по заведенному обыкновению перекусив домашней пищей. Доставила квиток военкоматская сторожиха, знакомая Лебедеву, как и почти все в городке, она было нацелилась похлюпать носом и запричитать, но Станислав Николаевич, сдержанный человек, не дал к этому поводу. Он протер очки, носимые больше для солидности, обчистил круглой суконкой перо и витиевато, с росчерком на манер птичьего крыла расписался, потянулся было поставить входящий номер, но спохватился, опамятовался, положил бумажку в карман, подумал и переправил в кошелек, пузатый, однако пустой. Пелагея постояла еще, целилась погоревать и поделиться душевным, Лебедев не захотел понять и сказал здраво:
– Чего стоишь, иди, не одному ведь мне тащишь.
– Промыкашка ты с чернилкой, а не человек, – ответила Пелагея, она любила, как и всякая русская баба, непотаенность и сердечный разговор.
– Иди, иди, – повторил Станислав Николаевич.
Еще не осознав до конца, какой поворот в жизни обозначила казенная бумага, он, привычный к исполнению любого указания, тотчас принялся действовать.
Дел, впрочем, предвиделось немного, поскольку в счетоводах у него сидела Анна Павловна, старая дева с бухгалтерским дипломом, она понимала работу не хуже Лебедева и только за неимением другого места прозябала. Станислав Николаевич открыл фанерную дверцу, прошелся по ладно переплетенным томам, извлек папку с годовым отчетом, на всякий случай – хотя и не было в том нужды – отщелкал снова и снова итог, поднял балансовый отчет и тоже проверил, почистил щеточкой хранимую у него артельскую печать, снял нарукавники, опорожнил личный ящик стола, где береглись крючки, блесны, грузила, – дома заела бы жена, что тратится на всякую чепуху… Подумав, Станислав Николаевич вытащил из стеклянной, над головою повешенной таблички бумажку со своею фамилией, тем обозначив, что с данной минуты должность бухгалтера остается незанятой… Ненадолго, конечно – Анна Павловна дождалась-таки своего часа…
Председатель артели, колченогий Карасев Виктор Семенович, для бухгалтера в неслужебных отношениях попросту Витек (вместе кончали школу), тоже обедать не ходил, однако не из экономии, а ради собственного ублажения: середь белого дня что дома, что в чайной выпить ему невозможно было, а тут, в кабинетишке, председатель – сам себе голова – трапезу налаживал с шиком: сало толстым на хлебе ломтем, хрусткая луковица, тугой огурец и, понятно, четвертинка, загодя вылитая в стакан, каковой ставился в тумбочку, к нему Карасев прикладывался в три приема, даже двери не запирая.
Когда Лебедев, не постучав, зашел, председатель спокойно прикрыл тумбочку, вроде бумаги туда положил, повел носом, втянув вместо закуски воздух.
– Ну чего, наркомфин, дебит-кредит, сальдо-бульдо? – спустословничал Карасев, лишь бы что-то сказать и перевести дух после глотка.
– А ничего, – Лебедев положил ему под красноватый нос военкоматскую бумажку. – Пиши приказ.
– Вон что, – сказал Карасев. И, не зная, как полагается в таких случаях быть – война ведь началась только, никого из артели провожать еще не довелось, да и работали тут, в основном, бабы, – Карасев, приученный ко всяческим казенным обрядам, поднялся торжественно, протянул однокашнику ладонь и сказал: – Поздравляю тебя, Станислав Николаич, с вступлением в ряды нашей доблестной Красной Армии.
Скажи такое Карасев на людях, пускай даже бы при одном свидетеле – Станислав Николаевич принял бы за должное, поскольку и его приучили к громким, показным словам, – но тут он скукожился, кашлянул неловко, попросил – сам того не ждал:
– Налил бы полстакашки.
– Правильно, наркомфин, – обрадовался Карасев причине и, отверзнув громкий сейф, добыл засургученную четинку, ополоснул стакан и подал Станиславу Николаевичу, сам же умело вытянул из горлышка и не поперхнулся ведь, собака.
– Митинг в честь тебя проведем, – посулил он. – Первый представитель из нашей артели уходишь.
– Дурак ты, Витек, – объяснил Лебедев. – Может, помирать иду, а ты – митинг.
Сказав так, он впервые представил, что в самом деле ведь и помереть там нехитро, сделалось жаль себя, и, расслабленный непривычной выпивкой, Лебедев хлюпнул тихонечко, но подобрался и достойно теперь возразил:
– Не заслужил я такой чести, чтобы ради меня проводить митинги.
Он сказал тоже как бы напоказ, приученный долгими годами к торжественным выражениям, и Карасев его скромность и политическую сознательность одобрил, в порядке поощрения выставил еще маленькую, Лебедев совладал только с одним глотком, а Витьку досталось прочее, он осилил без натуги, велел идти домой, оставив Анне Павловне ключи, печать и напутствия.
Так Лебедев и сделал, Анна Павловна его вслух пожалела и прослезилась от души, а за себя порадовалась-таки, что выбилась в люди – со стороны мужиков по случаю войны конкуренция больше не угрожала.
С конторскими женщинами Лебедев попрощался персонально, каждой пожелал успехов в труде и счастья в личной жизни, поблагодарил за совместную работу, женщины остались добиваться успехов и горевать о своих – уже мобилизованных или дожидавшихся повесток – и жалеть Лебедева, и лишь одна Тоня Горшенина, плановик, бросилась вдогонку, выхватив из ящика сверток, настигла в садочке напротив.
К Тоне у Лебедева отношение было смутное.
С одной стороны, Тоню за взрослую он почитать не мог: выросла на глазах, ученица была, потом швея, кончила заочный техникум, но все равно для Станислава Николаевича оставалась девчонкой. Если же прикинуть с другого боку – самостоятельная теперь, экономист-плановик… Лебедев ее ценил за скромность, хотя притом и раздражался: сам человек тихий, ненастырный, он втихомолку завидовал тем, кто умеет за себя постоять и гаркнуть где надо, и трахнуть по столу, и взять за глотку, – такого Лебедев не умел, а в других одобрял, Тоня же подобными качествами не отличалась, и это сердило Станислава Николаевича. И еще Лебедев Тоню видел замухрышкой, бестелесной как бы, а он всех женщин мерил, прикидывая к жене, броской и вальяжной, и потому для него Тоня как бы не существовала.
Догнала его Тоня в садике, где томилась убитая ногами и солнцем трава, где никли под июльской жарою кусты бузины и акации, где кликушествовала на привязи мосластая коза, где скамейки были плотно испороты надписями – любовными, похабными, озорными. Тоня взяла за рукав, попросила:
– Посидим чуток, Станислав Николаевич.
Место выбрала неподходящее – на виду любого прохожего и по соседству с паскудой-козой, но Лебедев, удивившись, не заспорил, послушно сел, прикрыв спиной надпись с картинкой, чтоб не оконфузить Тоню.
Но Тоня глядела ему в лицо, и Лебедев сам застеснялся, протер очки – понимал, что затевала Тоня что-то важное для нее, а может, и для самого Лебедева, и, покашливая, он закурил, тогда вот и сказала Тоня внятно и кратко:
– Станислав Николаевич, я вас люблю.
Тут приблизилась, волоча мохрастую веревку, вся в репьях, коза, круглые зенки ее были желты, осмысленны и наглы, она заорала котовым мявом:
– Мя-я-а!
Лебедеву стало вовсе неловко и, то ли думая, будто ослышался, то ли желая еще раз услыхать эти – впервые в жизни ему назначенные слова, – переспросил придирчиво:
– Что ты сказала?
– Люблю вас, Станислав Николаевич, – повторила Тоня, глядя в лицо. Лебедев понимал, что молчать не должен, однако не мог сообразить, какими словами отвечать.
Выручила коза: она приладилась ухватить Лебедева за штанину, и Станислав Николаевич пнул окаянную животную, та ощерилась, прянула, волоча веревку, а Тоня, ответа не дождавшись, тихонько вздохнула и сказала:
– Вот, примите от меня, Станислав Николаич, на дорожку.
И, тоже приучена к громким словам, добавила:
– Как доблестный защитник Родины.
Сверток лежал меж ними, сквозь бумагу обозначалась бутылка, Лебедев подумал, что надо, наверное, сдвинуть подарок, приблизиться к Тоне, взять руку ее хотя бы, но сделать этого не посмел, кашлянул опять, сказал:
– Я пойду, ладно? Ты… заглядывай к нам вечерком.
– Нет, – сказала Тоня, – прощайте, Станислав Николаевич и возвращайтесь живой и невредимый. Я вам желаю боевых успехов и счастья в личной жизни.
Покуда он шел пустой и жаркой улицей к дому, председатель артели «Красный швейник» Карасев, распаленный водкой, патриотизмом и дружелюбием, сооружал приказ о том, что за долголетнюю и безупречную работу бухгалтер товарищ Лебедев С. Н. в связи с мобилизацией в Рабоче-Крестьянскую доблестную Красную Армию награждается костюмом-тройкой – Карасев понимал, что большие события по возможности надлежит отмечать подарками, премиями, но ум его, навсегда заскорузлый, мог подсказать лишь про этот костюм, вовсе не нужный теперь Лебедеву, мобилизованному на войну…
А Тоня оставалась в садике, и – осатанелая от пыльного першения во рту, от навязчивой веревки – льнула к ней, ища ласки, желтоглазая, облепленная репьями коза, и Тоня гладила вонючую шерсть, трогала нагретые рога, коза бормотала тихо, успокоенно, а Тоня плакала и думала, что Станислав Николаевич непременно будет на войне героем – она ведь любила его! – и потому вряд ли возвратится, ведь герои чаще других ложатся на поле брани, защищая родную землю, ни пяди которой мы не отдадим врагу, как говорил товарищ Сталин.
А Лебедев шел, пригребывая медленными ногами пыль, и думал о всяком – и о мелком, но для него значительном, и о существенном, однако сейчас как бы отодвинутом на второй план, – обыкновенный человек 1905 года рождения, самого старшего возраста, объявленного в указе о мобилизации, преданный Отечеству слуга, покорный муж и скучный, очкастый работяга, – и скучна, обыкновенна и правильна была его жизнь, ее оставалось теперь Станиславу Николаевичу не так уж много, но про то не знал он и думал сейчас о разном, а о смерти не мыслил пока.
Про войну он так располагал, что ему лично и не доведется выпалить даже из пистолета, поскольку назначат начфином полка, будет шуршать ведомостями, пересчитывать купюры, подшивать бумажки. Оно и в самом деле предстояло ему так – до лета сорок третьего. Из техника-интенданта Лебедев стал капитаном в узеньких интендантских же погонах, получил не за храбрость, а за усердие Красную Звезду, медаль «За боевые заслуги», первую благодарность от имени Верховного – за Орел и Белгород, – и так бы дотянул до майской великой Победы, вернулся в свой городок – шуршать ведомостями, провозглашать, когда надо, лозунги, скучно и правильно тянуть пространный свой век, если бы тылы полка, ведомые головотяпом, не отстали однажды на марше и не вдрюпались фрицам в зубы… И тогда начфин капитан Лебедев, прикладывая к правому глазу левую стекляшку полуразбитых очков, садил из неухоженного, неумелого нагана – начфину и «ТТ» не выдали, а дали наган с патронным, на семь пуль барабаном. Лебедев знал, конечно, что в полковой кассе – железном ящике – оставалось всего-навсего девять тысяч двести сорок четыре рубля пятьдесят шесть копеек, по базарным ценам, известным из писем, на два десятка буханок недостанет, но то были казенные, государственные деньги, заработанные самоотверженным трудом советских женщин, подростков и стариков, заменивших на трудовом фронте защитников Родины, так помнил капитан интендантской службы Лебедев, и он палил из нагана, лежа у колеса, и неловко швырнул две гранаты, хранимые при полковой кассе, а третьей подорвал и ящик, и себя, чтобы не достались врагу деньги, заработанные самоотверженным трудом, и не достался гадам-фрицам на растерзание он сам, командир (пускай и в интендантском чине), коммунист и орденоносец.
Это ему предстояло через два года, пока же Лебедев и вообразить такого не мог, и он прикидывал сейчас, что надо с Прошкой-соседом договориться насчет дровенок зимою, и неплохо бы выпросить в МТС хозяйственного мыла для Розы, и успеть приколотить расшатанную доску на крыльце, и успеть написать маме – приехать она уже не угодит, поскольку отправка ему завтра спозаранок.
Такие вот обыкновенные мысли переплетались у него с другими – про историческую миссию, выпавшую на долю, про защиту Отечества, она, как сказано в Сталинской Конституции, есть священный долг каждого гражданина СССР, про несомненные успехи наших войск, вот уже десять дней сдерживающих натиск озверелого Гитлера.
Происходило все это второго июля, и только назавтра услышит Лебедев, собираясь в райвоенкомат, речь любимого и родного товарища Сталина, обращенную к братьям и сестрам, покуда же, пребывая от войны в тысячах верст, не знал Станислав Николаевич правды о творившемся там и потому еще не опасался ни за страну, ни за себя: газетам он верил, а газеты пока что помалкивали о большой беде…
Городок пустым выглядел – кто работал, тот работал, а прочие хоронились от несусветной жарищи, – и никого знакомых Лебедев не повстречал, хотя желал того, чтобы показать повестку и поговорить о себе. И еще – не понять, с чего бы – распирало что-то радостное и смутное, он угадать не мог сперва, но вскорости вспомнил Тоню и, остановись у чужого забора, сочинил длинный и красивый разговор про любовь, про долг и супружескую верность и, сочинив, затосковал, перекинувшись мыслями на Розу, свою законную супругу.
Женился он – по здешним понятиям – поздно, четверть века разменяв и, еще того чудней, взял перестарку, на шесть лет возрастом больше, но раздумывать Лебедеву не пришлось: Роза так ущучила за жабры, не трепыхнулся, двинул в загс, будто в баню или на базар.
Телом Роза была просторная и прочная, словно печь, а Лебедев на вид хиловат, но, удивив тем и порадовав жену, в постели он оказался хорош, Роза хахалей прежних отставила, ей и Лебедева хватало вдосталь. Ребенка, однако, сколько Лебедев ни усердствовал, зачать Роза не смогла, так она объясняла, на самом же деле травила себя спорыньею да йодом, баба она здоровущая была, однако утомлять себя заботами не желала, снадобья же всякие не вредили ей ничуть.
Лебедеву про ее хитрости нашептали, но перечить Розе не посмел, все делал, как она велела, только в одном не удалось ей своротить по-своему: рваной нитки, линялого лоскута с работы Лебедев домой ни разу не принес, и жульничать Розе приходилось самой; работала в райкомхозе, воровала от мужа втихаря, считала недоумком, он такой: возьмет, да и раскроет.
А любви не было, дом был да постель, и сейчас Лебедеву сделалось горько-прегорько, и тут он и подумал о смерти: не вернуться ему ежели с войны, так что после него на Земле останется? Ни дитяти, ни сада; ни стиха не выдумал, а жил ведь тридцать шесть годов…
Квартира у них числилась жактовская, но вроде бы и своя, ведь просуществовали тут десять лет с хвостиком, и Лебедев ценил и берег обретенное собственным горбом добро – и комод, уставленный вазочками да флаконами, бумажными цветами, коробочками из-под розовой пудры, и два сундука, поузоренных жестью, и венские стулья с протертыми добела сиденьями, и долгий стол под скатеркой-ришелье, и гипсовый бюст Александра Сергеевича Пушкина к столетию со дня трагической гибели, бюст, покрашенный, поскольку испачкан был, черным лаком, и тканные из тряпья половики, кровать с расписными сплошняком железными спинками, шкатулочку из уральского камня, где хранились Розины медные, со вставленными стекляшками серьги да колечко, и тяжеленный шар из стекла, в него хитроумно вставили разноцветные цветочки, стеклянные тоже. И еще лежали на комоде часы, дедовы еще, похоже, что корпус из чугуна, и циферблат черный, а цифры врублены из той же меди, совсем тусклой – Лебедев ценил и берег все это, и теперь ощутил жалость к тому, что приходится это все оставлять и кто как скажет – вдруг навсегда.
Роза придет лишь к вечеру, Станислав Николаевич мог, понятно, ей протелефонировать из артели, но этого не сделал и не жалел, что не сделал, – проститься еще успеют, разговаривать особо не о чем, а ему хотелось напоследок побыть одному в прохладном, ухоженном и, как бы ни было с Розою плохо, а все-таки родном доме.
Курить в помещении Роза, женщина культурная, ему не дозволяла, но, будучи в данную минуту полным и всецелым хозяином, Станислав Николаевич запретом пренебрег, доставил из спаленки в горницу дорогущую, из стекла под хрусталь пепельницу, задымил гвоздиками, папиросами «норд».
Прежняя его жизнь завершалась, и впереди мутно и неясно брезжила неизведанность, и еще подхлестывало воспоминание о разговоре с Тоней, об удивительном люблю, услышанном впервые. Лебедеву захотелось рассказать кому-то про себя, про свою жизнь, про то, что думает он теперь. Он достал из кармана оправленный в жестянку-наконечник тонкий карандаш, вынул тетрадку и принялся немедля составлять стихи.
Пела и просилась наружу лебедевская душа – и легкие, красивые стихи написал он за полчаса красивым своим почерком на красивой и гладкой – по восемнадцать копеек тетрадка – бумаге.
Вот какие стихи сотворил, уходя из прежней обыденной жизни, бухгалтер Станислав Николаевич Лебедев:
Над нами небо голубое
Сейчас затянуто грозой.
Когда страна быть прикажет героем —
У нас героем становится любой.
И я пойду сражаться за Отчизну,
Как знаменитый богатырь Антей,
Чтобы эпоху коммунизма
Приблизить для советских людей.
Не дам врагу топтать смородину,
Поля и реки, и луга.
Моя родная чудо-Родина,
Ты мне навеки дорога.
Под вой свинца и грохот стали
Пойду бесстрашно я вперед,
Куда ведет товарищ Сталин
Весь преданный ему народ.
И ты, любимая, поверь мне:
Сражаться буду как герой,
Я разгромлю фашиста-зверя.
Вернусь с победою домой!
Он семь классов кончил, Станислав Лебедев, да краткосрочные курсы и читал по большей части лишь областную газету – велели на работе – и еще радио слушал, тем и питался, что давали ему: передовицами да припевками… Он прочитал стихи вслух и с выражением, переписал чернилами и, положив на комод, принялся разглядывать фотокарточки, то и дело перечитывая свои стихи.
За глупым тем занятием и застигла Роза – услыхав шаги, листок он спрятал – и, как всегда, не сказала ему «здравствуй», не спросила ни про что. Лебедева она за человека признавала только в постели, но тут Станислав Николаевич заговорил сам, показал повестку, завиноватившись отчего-то.
– А ба-атюшки, – сказала Роза, припала к мужнину плечу, она тужилась заплакать, никак не могла и, попричитав, оторвалась как бы через силу, кинулась на кухоньку и там, разжалобив себя, остающуюся теперь солдаткой, вышла с мокрыми глазами. Лебедев принялся виновато утешать, помня о том, как все-таки худо придется ей в одиночку, и казня себя за сегодняшний, теперь вроде изменнический разговор с Тоней.
А Роза, мельтеша по комнате, принялась тотчас же собирать мужнины вещи, соображая про себя, что вряд ли с войны вернется Лебедев – она числила его трусом и считала, не своим, впрочем, умом докумекала, так газеты писали, что погибают трусы прежде остальных. И она Лебедева жалела – был удобный муж, покладистый, непривередливый, работящий, пригожий в постели, только вот шахер-махерами заниматься не мог, но Роза и без него приспособилась выкручиваться, добавляя к жалованью.
Мясо в погребе имелось, Роза велела крутить фарш на пельмени, чтобы позвать родственников и гостей, Лебедев послушно взялся за привычную работу и, ею увлечен, позабыл, почему соберутся гости, ему показалось – в жисть не покинет уютные свои комнатки со шторками дешевого тюля в цветочках, подзорами на супружеской постели, флакончиками на комоде, с обильной и вкусной едою и, когда пожелается, выпивкой. Правда, выпивки он желал редко, и за это Роза его втихаря презирала, поскольку настоящий мужик – он должен выпивать хотя бы для того, чтобы жене было приятно его бранить и показывать власть, а над Лебедевым власть показывать нечего ей было – так покорялся.
Пока Лебедев проворачивал мясо, наточив сперва нож мясорубки впрок, для Розы – он с женою разговаривал и, осознав себя главою семейства и будущим отважным воином, делал всякие назидания. Роза метушилась туда-сюда, прихлестнула к подштанникам пуговицы, подлатала нательную, что похуже, рубаху, прокатала вальком портянки – сказал сам, что сапоги обует, так он выразился – и разыскала эмалированную, с выбоинками, кружку, алюминиевую ложку, хотела положить и столовый нож, но передумала, обойдется и так, в повестке про ножик не сказано, там все перечислено, что мобилизованному при себе иметь.
Постучав мимоходом в стенку, она кликнула шабровскую пацанку, наказала, кого позвать на провожанье, мигом раскатала тесто, пельмени она будто выстреливала из-под рук, слепила три с половиной сотни – больше пожалела, все одно водки нахлыщутся, любая закуска им полезет, а то и вовсе жрать не станут, налимонившись – и еще за выпивоном быстренько сгоняла своего Лебедева, денег ассигновав, и за капустой его снарядила, за прочей соленостью. И тут – кто по душевному расположению к солдату, кто по соседскому, шабровскому обычаю, а иные ради выпивки дармовой – начали прибывать гостенечки.
Звано было – при мужьях или, соответственно, при женах – девять душ, но и негаданными явились несколько. На порожке Лебедев каждого и с почетом встречал, оплаченный в парад, и всякий ему говорил приветливые и сочувственные слова, титуловал защитником Родины, солдатом, рекрутом, и Станислав Николаевич повыпрямился и осанкою сделался поважней против обычного; хоть и без того, малорослый, он всегда старался казаться несуетным и достойным, как и полагается мужчине в годах и при хорошей должности в номенклатуре РИКа, райисполкома то есть.
Последним – но к назначенному все же времени – обнародовался Витек, Виктор Семенович Карасев собственною персоной, отягчен свертком, и Лебедев смикитил, что к чему, премию угадал себе, но спрашивать, однако, не унизился, и Карасев откладывал сюрприз напоследок, хотя и распирало – тишком Розе похвастался, показал синего бостона тройку, и Роза благодарила долго и проникновенно, зная, что костюм загонит за полторы тысячи, а может, и поболе.
Гости подобрались приятные Лебедеву, не по должности его уважившие, а по сердечной симпатии, например, Глебова Тамара Дмитриевна, секретарь исполкома, никак от него не зависимая, или Хотеев, краснознаменец и многих боев участник, и троюродные сестры и братовья. Только Шурку Апраксину, известную блядешку, Лебедев у себя в застолье видеть бы никак не хотел, но то была Розина подружка, воспротивиться – как?
Прежде все было у Лебедевых обыкновенно: лили в стаканы водку, роняли на застеленные полотенцами колени дрожливый холодец, говорили – как на именинах или поминках – кто про что. Но сегодня основное событие в памяти все-таки держали, толковали про войну и про Лебедева, и он, ослабнув с первой порции, вынул из нутряного кармана листок, с выражением, по-школьному огласил стихи. Витек Карасев, хлебанув с утра вдосталь, сильно Лебедева зауважал, полез целоваться и только тут, когда все приняли достаточно для трезвой оценки, мигнул хозяйке, та приволокла с кухни презент и, распялив тройку всем на обозрение, Карасев Виктор Семенович двинул речь о верных сынах Отечества, о близком и неминуемом разгроме бесноватого фюрера, о заботе Родины и прочем-подобном, а Лебедев целовал Витька в мокрые, пахнущие винегретом губы, и Витек сулил не забыть Розу и поддерживать ее чем только в силах и, коли не вернется Лебедев с войны, все равно пособлять Розе Леонидовне, – он так Розу обозначил напослед, хотя знал ее с малолетства.
А Шурка Апраксина, известная городу курвенка, заплакала от растроганности, от простой причины, что никто ей не дарил дорогих вещей и предметов, а чаще с нее же и требовали на поллитру после короткой любви. И пожалела очкарика Лебедева, уходящего воевать, и Розу пожалела, свою подругу, и, не умея ничего другого выдумать в утешение, сказала Розе втишок:
– Ночевальщика тебе обеспечу, не боись…
И Роза, не терпевшая без постельного баловства двух суток просуществовать, ей кивнула, а после, застыдившись, долго и липко целовала при всех Лебедева, жалась тугим животом, просила опять продекламировать сочинение про войну, и Лебедев повиновался, гордясь и собою, и своей простой, честной, открытою жизнью, в коей нечего ему прятать и таить.
Витек, из всех самый близкий Лебедеву, когда уж до полуночи допетушились, начал подмаргивать и намекать гостям на покой, а хозяевам желать последней радостной ночи. Тогда все разом подниматься стали, кто допив, а кто и не допив, но стараясь добрать на ходу, – тут вот, Лебедева отманив на крылечко покурить, и сказал Витек хмельные и честные мужские слова:
– Стаська, не вернешься ты, парень, точно говорю. Ты уж меня извиняй, однако – не вернешься.
Будь Карасев потрезвей – может, он такого и не сказал бы, а может, и сказал, потому что считал Станислава другом и тот уходил воевать, и напоследок, полагал Витек, надо не блудить душой, а говорить главное, вот он и объяснил, отчего и почему:
– Мужик на свете – он бабьей верой храним и любовью, а твоя, извиняй уж, Роза – ей только твой он и нужен, а сам ты ей…
Он это не так литературно Лебедеву обсказал, попроще, и Лебедев содрогнулся от смертной тоски, утащил Витька в горницу, налил два полных стакана и вымахал первым.
И тогда – под конец самый – поднялся не хмельной и свято верующий в правду инвалид многих боев краснознаменец Хотеев и, ударив по звонкому вилкой, сказал главное и основное, то, что, к слову, думал каждый за столом, только не умел выразить, – он сказал про нашу победу, про великие наши дела и великого вождя, и Лебедев, снова забыв о Витьковом пророчестве, осознал себя человеком значительным и отвечал Хотееву красиво – как он, Лебедев, правильно жизнь прожил, как честно воевать будет и как непременно вернется живым в родной город, к семье и товарищам по созидательному труду во имя построения социализма и коммунизма. И все загомонили, принялись тянуть стаканы поближе и чокаться. Только Лебедев больше пить не стал, исправно почокавшись.
На дворе туго лилась, одымляя траву, большая луна, верещала в сараюшке бессмысленная матка. Лебедев спровадил гостей и постоял у калитки, расшатанной и брякотливой. Невеликий хмель выветрился мигом – наверно, потому, что пил Станислав Николаевич редко и неподробно, спиртное в себе организм не держал, не копил… Думалось Лебедеву про важное, а про что именно – этого Станислав Николаевич ни себе, ни другим не сумел бы обозначить.
Но тут вспомнил он Витьковы слова, вдогон ответствовал вслух:
– Не вернусь, гришь? Хрен в зубы! Вернусь, и вся недолга!
Напротив, у палисадника, покачнулась гибкая тень, перечеркнула дорогу, и прошелестел ветерком Тонин голос:
– Стасик, прощай, любименький мой, прощай, родненький…
И не смея – рядом с домом-то! – к ней подойти, откликался Лебедев отчаянно и веряще:
– Я уж постараюсь, Тоня…
Он еще посидел на бревне и дал зарок – не ложиться с Розой сегодня, ведь не любила она. И еще зарекнулся разговаривать с ней напоследок. Он посидел, покурил, застал в комнате спорый порядок и стихи свои увидел вставленными в рамку рядом с карточками. Роза вовсе не ругалась, что задержался где-то, поднесла выпить, и Станислав Николаевич повиновался. А хлебнув, он снова полез в комод, выудил документы и карточки, стал Розе подробно втолковывать, как честно и правильно жил, хвастал благодарностями, справками, удостоверениями. Роза помалкивала.
Спать его Роза положила, конечно, к себе – а случалось, и на сундуке ночевал, – и, вздремнув мало совсем, Лебедев поднялся мятый, опустошенный, гордый собою мужчина. И, врубив репродуктор из черного картона, услыхал слова товарища Сталина: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои», – и содрогнулся, как велики оказались наши потери, но и возгордился тем, что его назвал братом сам товарищ Сталин.
И ушел он воевать и не вернулся живым…
1969, 1981 гг.






