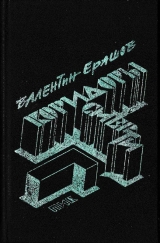
Текст книги "Коридоры смерти. Рассказы"
Автор книги: Валентин Ерашов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
– Родненький ты мой, желанный, да что ж ты это…
– А то, – отвечал Гаврила, – а то, едрит твою за ногу, допелись… «Будет бит повсюду и везде», слышь… Тольки мы покудов его бить стали, дак он нам таких п…….й навешал…
– Ну-ну, – прикрикнул тот, кто возглашал здравицу, – ты ври, да не завирайся, не поглядим, что инвалид…
– Эко дело, страх какой, – сказал Гаврила трезво. – Сам бы помалкивал, засранец, укрылся за броней, что твой танк, ну, и помалкивай в тряпочку. А мне, слышь, не грози, я пужан и без того. В тюрягу, что ли, засодишь? Хрен тебе в зубы, не посодют, меня там кормить задарма надобно, а нонче овес-то доро-о-гущий, сам знаешь, почем.
А кровь все текла, живая и веселая, а после, вытерев полотенцем, Юминов сидел тихий, и оранжевой полосой пересекало култышку йодное пятно. Все приумолкли, ко мне приблизилась Стеша, душно дохнула в затылок, позвала:
– Выдь на минуточку, Барташов.
Избяная дверь давно стояла нарастопашку, Соломатина из сеней поддала по двери ногой и, словно выключили репродуктор, тумашá и гвалт прекратились.
В сенцах из неплотного горбыля пахло трухлястым деревом, сыромятиной, квашеной капустой, мышами, прелью, плесенцой и мочою – видно, кто-то не дотерпел на двор. Из волокового, почти под крышей оконца пробивался луч, он освещал Стешу, и волосы ее казались впрямь соломенными. Стеша затолкала меня в угол, почти прижала большим рыхловатым телом – я даже испугался – и сказала четко и требовательно:
– Осуждаешь?
– Да ты что? – ответил я. – Мое-то какое дело?
– Ага, – с непонятной трезвой злобой сказала Стеша. – И твое какое дело, ихнее какое дело, а бухтить языком – всем до меня дело. А я чихала на всех, понятно? Нинка вон, почтарка, пятнадцатигодовалого в мужья взяла, ну порасписаться не дозволили, вроде так, гражданским браком. А он, муженек-то молодой, на свадьбе рюмку опрокинул, его развезло, упрятался на полати. Гости разошлись, она его на руках в постелю, а он отмахивается: спать, мол, хочу. А проспался, молока полкринки выдул, лыжи подвязал да с ребятишками своими по Зайцеву следу. Вот какая у нас зимой история была… А Гаврила – что Гаврила, рук нет – не в том соль. Мне ребятенка надо, мне все одно, парня или девку, и чтоб не в подоле принести, а по закону. Вот рожу, а после я этого Гаврилу выгоню, на кой мне он дьявол сдался…
Говорила она резво и жестоко, я испугался неприкрытой такой, рассчитанной жестокости, глянул, пересиливая себя, на Стешу и увидел: глаза ее по-прежнему печальны, влажны и вовсе не свирепы.
– Врешь ты все, – сказал я, и она откликнулась невпопад:
– Ох, как он моется, ты бы поглядел, страхи. Возьмет мыло в обрубки свои, да прямо куском лицо и намазывает… А полотенце на обе культяпки накручивает, вроде вытирает, ох страшно. Ничего себе сделать не может, штаны расстегнуть-застегнуть и те…
Я промолчал. Я бы и теперь, наверное, в такой ситуации ничего толкового сказать не мог, а уж тогда, в шестнадцать, какой был с меня спрос. Но Стеша глядела в упор, чего-то выжидая, и я сказал:
– Неправда ведь… Любишь его, наверно…
– Любовь – она в книжках да в припевочках, – отбросила мои слова Стеша и словно перед людьми, на виду, прошлась по сенцам, оттянув пальцами широкий подол, мелькали белые коленки, а волосы в тени стали коричневыми, и голос опять сделался надрывным, глухим:
Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка,
Взамуж выйти-то не штука…
Хотелось убежать отсюда – не в избу и не на прокаленную улицу, а куда-то далеко, в лес, прозрачный и тихий, но я не смел удрать и знать не знал, что делать, что сказать, я таился в уголке, а Стеша крутанулась еще и упала на крышку пустого ларя, плечи дрогнули, вся она оплыла, оползла как-то. Опять расхлебянилась дверь, вытолкнув пьяный рев и дым, провонялый перегаром, и, со свету не видя нас, объявился Гаврила, позвал громко:
– Стеш!
Она молчала и молчала, Гаврила шагнул, увидел меня и спросил недобро:
– Чё утаился, начальничек? Стешка где?
И тут приметил ее, и углядел, должно быть, как вздрагивают плечи, приказал:
– Дул бы ты в избу, начальничек-две-руки.
Я повиновался с охотой. Место мое за столом оказалось занятым, но белесый, с лежалыми глазами, тот, что возглашал про товарища Сталина, подвинулся, освобождая угол, усадил, притянул за руку, склонился к уху – воняло самогоном, – шепнул:
– Чего ж сразу не признавался, уполномоченный? Я-то мерекал – ты по комсомолу только. Ну, будем знакомы, коли так. Председатель я, Елхов Игнат Семеныч. Выпьем для приятного знакомства и пребудущие успехи, товарищ уполномоченный.
То ли насмехался – старый он, лет сорок, а я и впрямь ведь пацан еще, – то ли всерьез говорил; пить не хотелось, я боялся захмелеть вконец, набулдыриться, но Елхов настырно протягивал стакан, и, страшась и содрогаясь, я улькнул самогонную отраву, быстро покидал в рот как бы тряпичную капусту, и, как ни чуднó, после этой порции сделалось легче, голова не так плыла, мысли обретали определенность.
– Заём, значитца, будем проводить, – сказал Елхов громко, я толканул его под столом, помня про секретность, он же подморгнул, засипел в ухо: – Добровольно-принудительно, с высокой активностью, ага, понятное дело, по скольки на рыло нам определили?
– Завтра поговорим, утром, – ответил я, и Елхов в свою очередь ткнул меня в бок, похвалил:
– Понимаешь службу, товарищ районный представитель. Ну коль так, тады пить давай. На свадьбе я давненько не гулял, а ты поди так и вовсе перьвый разик?
Пить мне больше нельзя было никак, но Елхов пристал – ишь, мол, какой непитуха, брезгаешь, что ль? – и я по слабости поддался, опять шибануло в голову, физии напротив сделались белыми лепешками, а потом и вовсе соединились в одно, протяженное, качкое, но жениха и невесту я выделил, однако. Они вошли, обнимышки, кто-то возопил опять:
– Го-о-ор-рь-ка!
Подхватили, даже мальчонки на полатях, все орали, все ерзали стаканами, пришлось отхлебнуть, я понимал, что если притронусь еще – будет скверно, и, однако, пил, пускай и помалу, вбивая в себя омерзительный, отдающий керосином самогон, и все вокруг то приближалось, то отдалялось, расплывалось и на мгновения обрисовывалось опять, я еще приметил, как виновато и счастливо улыбается Стеша, и смог еще подумать, что, наверно, и натужны, и несправедливы – для кого только и почему сказаны? – те, в сенцах, ее слова.
А дальше все обдернулось дымным, самогонным, головокружным и шатким туманом, в нем обрывками выплывало напоминание о том, что я инструктор райкома комсомола и уполномоченный райкома партии, что завтра мне предстоит какое-то – какое? – ответственное дело, ах да, заём, и вот этот белесый, ненажорный на выпивку, дошлый, как там его звать, он завтра будет проводить со мной вместе мероприятие, а Стеша ляжет с искромсанным войною Гаврилой, а мне-то какое дело до них, и кому какое дело, и вот стакан с керосином, и холодная, размазанная по сковороде яичница, она ускользает, никак не поймать ложкой, и чьи-то сазаньи белесые гляделки ухмыляются, и в избе жарко, хуже бани, почему так, если зима, или это гроза падает с небес, руша деревья, и она – кто? гроза, что ли? – вопит надсадно и рьяно: «Из-за остро-в-ва н-на сыт-ре-жынь! На! П-ри-рас-тор-р р-ряч-ной выл-ны!»
И еще я ковылял где-то задами, меж прясел огорожи, по картофельным посадкам, середь грядок, меня и качало, и мотало, и с одной стороны поддерживал – кого? да уполномоченного! – этот, как его, Ерохин, что ли, с другой же – что-то ситцевое, горячее и пьяное, оно тоже шаталось-моталось, это ситцевое, и лепилось ко мне липкими потными локтями, и правда ведь, локти бывают потными, а то и не бывают, я не знаю…
Куда-то несло меня по реке, волнобойной и белопенной, и река была шершавой, пахла домотканой дерюгой, нестираной наволочкой и женскими волосами, я качался на волне, плывя и подныривая, запах женских волос загустел, и я на миг оклемался и услышал:
– Дак чё ж ты, дак чё ж это, господи, ну, ну…
– Спать, – сказал я и окунулся в медленную покачливую реку, но по мне шарили настырные, егозливые, нежные и наглые руки, я дрогнул от их прикосновений, однако не собрал силы проснуться, и я качался, качался по выдуманной, бредовой реке, что-то влажное, горячее, липкое обхватывало меня, и незнакомо сладостным было высвобождение, и ударил такой же требовательный, как и чужие настырные и ласковые руки, солнечный свет, и я обнаружился в нем, прохмельный, голый и стыдный.
– Маленький ты мой, – сказала женщина, она стояла перед прочной деревянной кроватью, где солома была набита не в тюфяк, а прямо в короб и прикрыта дерюгой, скомканной и брезготной. Холщаная рубаха, укороченная, как мужская майка, не просвечивала, но из-под нее видно было сокровенное, неназываемое, то, чего никто не должен видеть, я застыдился – нет, не за женщину, за себя, – попросил:
– Уйди, пожалуйста.
– Дурачок ты мой, – сказала она и опахнула запахом женщины, сунулась под вторую, сбитую в ноги жесткую дерюжку, я испугался и захлебнулся, я был счастлив, смешон и жалок и, должно быть, неумел, а она – опытна и настойчива.
Она сказала после:
– Ты хоть имячко запомни, желанный, меня Улькой, Ульяной то ись, кличут.
Я лежал на спине, и воздух плыл, покачиваясь, как река, и женское обмяклое тело со мною лежало рядом и пахло волосами, нестираной наволочкой, потом, скобленым полом, и она – первая в моей жизни! – касалась меня скорее привычно, а не от потребности ласки, она должна была обозначить свершенное дакими-то женскими, особенными словами любви и благодарности, и она повернула голову и шепнула:
– Слышь, миленок, ты заём-то мне скости, ладно?
Я не знал – плакать ли, засмеяться, кричать или садануть по ласковой отвратительной харе, я сказал:
– Вставать пора.
– Ясное дело, – ответила она, выпрыгнула из короба кровати – рубашка задралась – и в постель принесла чашку дурновонной самогонки, я отторгнул руку и встал голымя, натащил трусы и штаны, ополоснулся у брякотливого рукомойника, пил вместо сивухи одухотворяющее молоко с погреба, а Ульяна мельтешила по избе в той же короткой рубашке, и не было сил глядеть спокойно, и не было возможности не глядеть. А она, конечно, понимала меня и крутилась в избе, то и дело пригинаясь без нужды, и мы опять оказались в коробчатой деревянной кровати.
Меня еще мутило и шатало – шатало, правда, не только со вчерашнего, – но деревней я прошагал чин чинарем и в колхозную контору явился достойно, входя в предназначенную роль.
Контора выглядела, как и подобные в других деревнях, я понавидался, когда перед войной ездил с отцом по району, да и теперь, за инструкторскую деятельность, кое-где побывал.
Курослепая, шаткополая изба, обтоптанная вся. Впродоль стенок, морщинистых и траченных грибком, тянулись лавки без причелин, а посередке, у окна, зыбился председательский стол, обляпанный чернилами и пустой, а сбоку еще столишко – для счетовода. Там, где полагалось висеть иконам, в красном куте, пластался плакат довоенной выделки: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!» Ниже лепилась карта России, утыканная синими флажками – чья-то лиходейская рука присобачила их вплоть до самого Сталинграда… И еще водилось тут, разумеется, конское, уширенное кверху, ведро и при нем жестяная кружка на цепи, обшарпанный голичок у порога, издрызганный половик, лохань с вонью, ошметки махорочного курева и растертая овечья говяшка. Понятно, что владела избою, сдавая внаем, какая-нибудь бабка, причем за дополнительную, трудоднями, плату служила тут и уборщицей, и сторожихой, и рассыльной. В общем, все тут было, как и всюду.
– Здравствуйте, – сказал я, и первой откликнулась невидимая бабка из-за печи, и Елхов сказал небрежно и покровительственно, помня вчерашнее:
– Привет, уполномоченный.
А Стеша опустила глаза и поздоровалась официально:
– Доброе утро, товарищ Барташов.
– Головушка-то как? – осведомился Елхов и подмигнул бабке, я весь передернулся, а Елхов был деловит и прохиндеист, на поданную поллитровку он глянул как на свою невестушку, я сказал в отрез:
– Не буду, Игнат Семенович.
– Не хошь – как хошь, – ответствовал не опечаленный отказом Елхов, у него в горле булькануло, хрустнул прошлогодний, умело засоленный огурец, повеяло туманным перегаром, я замутился, вывертывать стало, и я – спасения ради, а заодно и лихости – скрутил махры, дыманул неумелой струей, сказал им обоим – Елхову и Соломатиной:
– Так, в двенадцать ноль-ноль будут сообщение передавать, митинг проведем.
– Ну да уж, – лыбясь, отвергнул Елхов. – Только митинга и не хватало. Бабы, они тебе такой митинг закотют, родного батюшку-агронома не вспомянешь. Хрен ли нам тянуть. Под вечер, гли, Хозяин сводку затребовает, айда счас почнем, без агитации… Им, бабам, все одно: постановленье, без постановленья… Я тут сам по себе: хучь маленький, да Сталин… Ложь на стол деньгу, вот и агитация.
– Поменьше языком бухти, председатель, – сказала Соломатина.
– А чё? – окрысился Елхов и опять налил. – Неправда, что ль?
– Если так, – сказал я и вытянул из гимнастерки вчетверо сложенный подписной лист. – Если так, – сказал я опять, – тогда, товарищ Елхов, районный комитет партии обязывает вас, как председателя сельхозартели, показать пример труженикам в исполнении своего патриотического долга.
У меня заранее была проставлена в той ведомости цифра против фамилии Елхова – 2.500, так велели в райкоме. Я протянул ведомость, он скособочился глазом, приподнялся, выдавил из себя:
– Мы, как и все советские люди…
Умокнул перо в чернильницу-непроливашку, нацелился было, но задержался.
– Антиресно только, товарищ уполномоченный, а ты, к примеру, на скольки там расписался?
Это было предусмотрено: Чурмантаев на совещании сказал, что партийно-советский и так далее актив подписывался по-прошлогоднему – на два месячных оклада, а желающие, сознательные – на три. Ведомость в приемной, расписаться, когда будем получать удостоверения. Я, конечно, подписался на три, о чем и поведал сейчас.
– Да-да, шибко сознательный, – протянул Елхов. – А ежели на деньги мерить – это скольки же получится?
Получалось не шибко, платили мне триста восемьдесят пять рублей в месяц.
– Сколько уж получится, – уклонился я. – Давай, Елхов, не тяни…
Он для чего-то подышал на перышко, вздохнул, сказал:
– Едрит твою мать…
Плеснул в стакан, выжрал, повторил выразительнее:
– … твою мать.
И наконец расписался.
Тогда Стеша, поулыбываясь, протянула руку, вписала новую свою фамилию – Юминова, обозначила в скобках – Соломатина, чтобы там, в районе, понятно было, и, не спросив ни о чем, поставила сумму: 4.000.
– За двоих с мужем, – неумело произнеся насчет мужа, пояснила она, и говорить было нечего, все шло как надо, а Елхов снова матернулся, и Стеша сказала: – Не охальничал бы, если тяпнул с утра.
Елхов взамен ответа крикнул, повернувшись к печному куту:
– Слышь, Емельяновна, скликай людей сюды! Жив-ва! Одна нога здесь, остальная там. Тольки для начала сама давай покажи пример политической сознательности, поскольки ты у нас при конторе, вроде зампредседателя по общим вопросам.
– Уж покажу, – отвечала старуха, она была высока и тоща, лицо казалось вырезанным из сосновой коры, так оно было темно и трещиновато. – На три сотенных размахнусь, так и пиши.
– Ладно, – согласился Елхов, я саданул под столом, он ответно прищемил мою коленку: молчи, мол. И я увидел, как Елхов против фамилии старухи – Чигвинцева – вырисовал: 1.200. Я хотел было возмутиться неприкрытым обманом: старуха наверняка неграмотная, подмахнет, не разобравшись, а если и грамотная, то полуслепая, но Емельяновна, крепко шагнув, неумелыми пальцами взяла подписной листок, далеко отставила, вперилась древними очами, огласила:
– Тыща и две сотенных. Чё-то маловато надбавил, председатель, круглил бы на две полных. Тыщи-то.
– Дак вить исправить недолго, – вроде смехом посулил Елхов. – Давай добавком впишу, а вот представитель про тебя статейку в районную газету пропечатает под заглавием «Передовик Емельяновна».
– Безлепый ты человек, балабон, сказать иначе, – необидно откликнулась бабка, взяла ручку, старательно, ровнехонько вывела: Чигвинцева П. Е. – Я так примеряла, что на полторы охмуришь, а ты, оказытся, еще не все человечье-то порастерял, махонька совесть осталась. Ладно, пойду народ заманивать. Хлебанёте вы горюшка, начальники, так я вам скажу. С утра пораньше все колготятся, бают, вдвое против прошлогодняшнего дарить государствию велено.
– Иди, иди, знатная патриотка, – потормошил Елхов. – Да рот не раззявливай допрежь времени. Благородный почин сделала, теперя черед за широкими народными массами.
Мне стало совсем легко: дела катились, как под горку. На предупреждение бабки Емельяновны я никакого внимания, конечно, и не обратил: мелет старушенция по дурости, сама-то вон без разговоров подмахнула, и другие подмахнут, народ у нас и сознательный, и сплоченный, глядишь, через час, от силы два закруглимся, и Елхов на радостях и в облегчении с почетом отправит меня подводой – у них, слыхать, аж две лошади остались, – и я первым в районе доложу об окончании подписки, товарищ Чурмантаев скажет весьма торжественные слова благодарности, запомнит свое обещание о выдвижении… Я закурил – теперь для пущей важности, втроем покалякали немного – так, ни о чем, – и тут, расшваркнув дверь, влетела в контору бабенка.
Ее иначе назвать никак не подходило, именно бабенка – на диво по военному времени круглобокая и кругломордая, в цветастом платке с кистями (по такой-то жарыни!), в колокольчиком, городской, юбке в шелковых чулках на мясных, перетяжками икрах. Она всем телом и лицом играла, как молодая кобылешка, и каблучки постукивали, точно копытца.
– Руководству – пламенный примет, – выпалила она и протянула руку сперва Елхову, потом мне и, наконец, помедлив, Стеше. – Не опоздала часом? Значит, так, товарищ уважаемый представитель району, записывайте в красивой тетрадке: «Как я есть сознательная и передовая гражданка и желаю внести свой посильный вклад в разгром озверелого кровопийца фашистского Гитлера, то и подписуюсь на два месячных жалованья – шестьсот девяносто рублей пятьдесят копеек. Труженик советского прилавка беспартейная большевичка Мыльникова Евдокея Федоровна». Складно получается, ага?
И она засмеялась, задробила смехом, будто каблучками своими пристукивала.
Я покосился на Елхова: вносить, что ли, в подписную ведомость? Председатель прихлопнул тертый листок, выставил Мыльниковой крупный грязноватый кукиш.
– Шесть, говоришь, сотен и девять червонцев? Да ишшо полтинник? Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты, гли, какая у нас Евдокея для Советской власти размашистая. И полтинника не жалко.
– Округляй, – быстренько сказала Мыльникова. – Семь.
– Да ну? – изумился Елхов. – Щас на крылечко выду, на всюё деревню базлать стану про сознательну Дуську.
– Тыща, – сказала Евдокия, вытерла рот кончиком платка, она дышала теперь тяжело и жарко. – Тыща, сказано. Пиши.
– А ху-ху не хо-хо? Сколь за неделю наворовываешь, на сэстоль и пишешь, так понимать? А може, на месячную сумму покражи подпишешься? На четыре косых? Писать, что ль?
– Гра-абют! – по-дурному заверещала Дуська. – Люди!
– Так и прибегли, – сказал с прищуром Елхов. – Прям разбежались круг Евдокеи оборону держать. Да их силком в контору тянуть… Ну писать на четыре? Не обедняешь.
– А ты мои деньги считал? – вдруг спокойно сказала Мыльникова. – Считал ты, черт облезлый?
– Я не считал, надо будет – милиция сочтет, – лениво ответил Елхов. – Ладно, сбавим тебе до поры до времени на прошлогодняшний уровень. Три тыщи безо всяких полтинников. Давай, честная гражданка, ставь свою жуликову подпись. Да чтоб деньги сразу на бочку. И мотай.
– А и ладно, – вдруг согласилась Евдокия и, не отворотясь даже, размахнула кофту, выказав половину грудей, полезла куда-то вглубь, извлекла пачку червонцев. – Могишь не считать, ровнехонько три, знала, как меня об….. станешь. А в газетке про меня, товарищ молодой уполномоченный, пропишите все, интересно мне в районной газетке «Сталинский путь» про Евдокею, про себя то ись…
– Сиськи убери, – сказал Елхов, глядя заинтересованно. – Напишем про тебя, напишем ужо. Только гляди, как бы раз там тебя не пропечатали под заглавием «Из зала суда»…
– Так уж, дожидай, – сказала Евдокия. – Не пальцем делана, председатель. Будьте хорошо здоровеньки, начальство. Заходьте, водочкой угощу задарма и закуску поставлю.
– От-т, блядюга, – восхищенно сказал Елхов, когда еще и дверь не успела прикрыться наплотно. – В Большом Тимергане торгует, – пояснил мне. – А числится у нас, на избу погляди, какие хоромы воздвигнула, блядёшка.
– Не лайся ты, – сказала Стеша. – Распустил слюни.
– Чё, не слыхала таких слов, ай? – огрызнулся председатель. – Правду говорю – блядина, блядина и есть. Вот как нам план прибавят по заёму-то, с нее еще две тыщи стребую, суки.
– Укороти язык, – велела Соломатина. – Стороннего постыдился бы.
– Баба он, что ль, – сказал Елхов и подмигнул мне.
Я глядел на председателя с уважением: скажи на милость, невглядный такой мужичонка, и впрямь облезлый какой-то, и грамоты, наверно, четыре класса от силы, а как ловко управляется, мне, похоже, тут и делать нечего. Я бы обязательно про фронт и победу, а он во как заворачивает.
– Арап ты, – сказала Стеша, видно, думала о том же, что и я. А Елхов только хмыкнул.
Дринькнул звонок телефона, прибитого к стенке, председатель уважительно снял трубку, дунул в нее.
– Ага, Вольный… Елхов я. Ага, счас позову… Из райкома требуют, – шепнул он, протягивая трубку, и я Услышал голос Сании, секретарши Чурмантаева.
– Здравствуйте, товарищ Барташов, – сказала она, было приятно слышать такое обращение, всегда звала Игорем, а то Игорьком. – Ну, как у вас? Радио слушали?
– Так ведь… – заикнулся было я и пошарил глазами, репродуктора не увидел.
– Нету радива, – тихонько подсказал Елхов, он слышал разговор. – Нету и не требоватся нам, скажи.
– Здесь нет радио, – объяснил я в трубку. – Мы и так…
– Сама знаю, что нет, – обидчиво сказала Сания. Постановление партии и правительства передано, можете начинать…
– А мы… – я опять осекся: может, не следовало, ведь подписку мы начали до ее официального объявления. – Понятно, Александра Федоровна.
– Между прочим, – сказала она, – кое-кто уже половину охватил, имейте в виду. Хорошо. В шесть вечера будет перекличка по телефону, готовьтесь доложить товарищу Чурмантаеву о завершении, у вас деревня маленькая, надо управиться, в обком доложим, что вы первые, там не знают, большая, маленькая, важно, что деревня целиком…
– Да мы раньше, – оповестил я радостно. – Мы через…
Елхов наступил на ботинок, сделал страшными снулые свои глаза, я умолк, и, похоже, Сания не расслышала моей похвальбы, повторила:
– В шесть часов быть на месте, вызовем.
– Не хвались, едучи до рати, а хвались, идучи с рати, – непонятно к чему сказал Елхов. – Молодой ты еще, инструктор, не клевал тебя в задницу жареный петух.
В окошко я видел, как тянутся к избе конторы тимерганцы – всё женщины, иные с ребятишками, они цеплялись за подолы, а одна – с грудняком даже, и еще одна, вовсе уж диковинно – брюхатая.
– Чапают, дисциплинку знают у меня, – удоволенно сказал Елхов и прибавил: – Очередно станем вызывать. Как это говорится? Дивидальная агитация.
Закурил, присоветовал:
– Ты с политикой не встревай, никаких тралей-валей.
И приказал вернувшейся Емельяновне:
– Давай запускай. Первую – Лушку Сальникову.
Я думал – Лушка, поскольку названа по имени, окажется разбитной молодайкой вроде продавщицы Евдокии, а вошла пожилая, по моей мерке, так и вовсе уж старуха, низенькая, в черном платке, от нее пахло чем-то сладковатым, чуждым.
– Здравствуй, Игнат Семенович, – сказала она старательно и поклонилась. – Здравствуйте, люди добрые, – сказала и мне и Стеше, опять поклон. – Готовая я, сколько скажете.
– Полторы, – рубанул Елхов, и женщина кивнула, и все в минуту завершилось.
– Лихо работаешь, председатель, – одобрила Стеша, я не понял иронии, Елхов пояснил:
– Монашенка она. Бывшая, понятно. А у них как? Дескать, всякая власть – от бога, значится, что бог велит, то и власти предержащие требуют, то и делай…
– Побирается она, христарадничает, – сказала Стеша, – и работать вовсе не может. Ох, Елхов, Елхов, нету в тебе совести.
– А у меня где совесть, там выросло, – щерясь, объяснил председатель.
Так – еще и еще – проследовали восемь человек, а после случился вот какой разговор.
– На полторы пиши, как и протчих, – потребовала женщина, одноглазая, по-нашему кривая, она была умученная вся, возле ног держался пацаненок, не понять, мальчишка, девчонка ли. – Как и всех, – повторила она, и Елхов сказал тихо:
– Поля, тебе не надо бы. Давай пять сотенных.
– Нет, – упрямилась она. – Полторы тыщи, как все.
– Брось, Поля, – попросил Елхов, – ты брось это, расхорошая…
И – для меня конечно – добавил:
– Мужика ты потеряла, и братов двоих, и сеструху, а ребятенков у тебя пятеро по лавкам; мал мала меньше, куда ты подымешь полторы. Скостим под личную мою ответственность.
– Мне поблажек не требоватся, – сказала Полина. – Потому и говорю – полторы, ежели Гитлерюга поганый и мужиков, и родную сестру сгубил. Я как все. Пиши.
– Ну, – согласился Елхов и обозначил пятьсот. – Расписывайся.
– Гляди, – предупредила она. – Влепят, Семеныч, тебе по перво число. Да и на себя охулки не хочу.
– На меня охулка, – сказал Елхов. – Люди – они чё, нелюди, что ль? Ты погляди, как остатние бунтоваться начнут. А для разгрома фашистского Гитлера твоя семья и так боле всякой меры положила.
– Мамк, – проверещало дитя, пацан, пацанка ли, – мамк, айда, обедать скоро ли?
– Скоро, – посулила Полина, – скоро, накручу вам заварихи горшок, да разом и стрескаете.
– Иди, Полюшка, – сказал Елхов. – Иди, мать.
– Нет, однако, не совсем ты сволочь, – одобрила Стеша, она в дело не ввязывалась, сидела осторонь, да и вообще дирижировал Елхов.
– Вот чего скажу, – заявил он. – И нам обедать впору. Самые заядлые стерьвы остались, кашу с ними не скоро сладишь. Потому, представитель, выпьем-закусим для разгона и примемся за отсталый элемент. Слышь, молодоженка, ты бы к себе позвала, у тебя осталось, поди?
– А и что, – согласилась Стеша, – осталось, понятно, как вам, мужикам, на похмелку не оставить…
И тут вломился муж, Юминов Гаврила, он был хмелен и разгонист, он протянул Елхову локоть, выставленный углом, Елхов привычно коснулся вместо рукопожатия, то же сделал и я.
– Баб обдираете? – спросил Юминов. – Объ…….те православных, начальнички. Катайте-валяйте, ваше дело такое. И ты, богом данная моя, в том посильное участие принимаешь?
– Выпить бы лучше позвал, – прекратил его речи Елхов. – Сам небось похмелился, без людей.
– А ты нет? – сказал Юминов и потянул воздух. – Не твое лакаю, моя судьба инвалидская.
– Ступай, Гаврюша, – попросила Стеша. – Иди, нечего тебе тут делать. Мы сейчас к нам обедать придем. Ступай пока, пускай мама стол приготовит.
– He-а, подивиться хочу, как простые советские бабоньки патриотический долг выполняют, – сказал Юминов и грохнулся на лавку. – Вызывай следующую, председатель, я речугу толкну про боевые подвиги и про советский патриотизм.
– Осмыслись, – уговаривал Елхов. – Осмыслись ты, Гаврик.
– Я те не Гаврик, – отвечал тот. – Когда укромсали, тогда я и осмыслялся. Давай, показывай свою постановку.
– Пьяный ты и есть пьяный, – завистливо сказал Елхов, будто сам не принял с утра полбутылки, – чево с тебя взять.
– Да уж много не возьмешь, точно, – подтвердил Юминов. – И так с меня взяли, во, – и показал култышки. – Айда, председатель, и ты, инструктор, приглашаю на стакашку с прицепом.
– Нельзя нам счас, – неведомо с чего передумал Елхов. – Вечерком, Гаврюша, заглянем… А покуда поснедаем у меня, тихо-мирно, как в детских яслях, молочком запьем.
На крыльце председатель объявил:
– Дорогие бабоньки, а также девоньки, обеденный перерыв. Прошу припожаловать через один час ноль минут по московскому времени отдать свои голоса кандидатам сталинского блока коммунистов и беспартийных.
Наверно, хлебнул-таки из остатка в бутылке, перепутал события.
А мне втолковал: у Гаврилы пить пока нельзя, по деревне мигом раскалякают, в райком донести не поленятся, от греха подале – до вечера.
После обеда пророчества Елхова как будто не сбывались: первая из вызванных женщин сама взялась за ручку, начертала 1.500, Елхов кивнул, отпустил с миром, глянул в окошко и предсказал:
– Держись, будет комедь – Сонька надвигается.
Теперь мы сидели вдвоем: Стеша осталась дома, прибраться и приготовить к вечеру.
– Комедь будет, – повторил Елхов. – Она такое учудит, инструктор, что и не вздумаешь заране, чего вотчебучит.
Сонька оказалась востроносенькая, востроглазенькая, тонконогая, обута в линялые, без галошного блеска резиновые ботики на босу, видать, ногу, а на груди, впалой и дряблой, болталась – с засаленной ленточкой – медаль ВСХВ.
– Валяй: мильен, – затарахтела она с ходу, не здороваясь, поскольку, вероятно, мы уже виделись давеча на крылечке. – Пиши, комсомольский бог: мильен рублей от колхозницы Соньки по фамилии Реутова. Потому как меня серебряным двугривенным на зеленой ленточке удостоили, так мне за этую почесть и мильена вот нисколечки не жалко.
– Садись ты, Сонька, – велел Елхов, – и не гоношись, говори ладком: на полторы ты сразу согласная али уговаривать надо?
– Не согласная на полторы, – быстренько прострекотала она. – Мильен, сказано, и ни копья меньше. Коровушку продам, избенышку продам, бывши лаковы сапожки вот, курицу не пожалею и горшок битый, ребятишек продам в рабство африканское, а мильен государству пожертвую…
– Не бухти, – сказал Елхов, поднимая голос. – Не бухти, дурища, кому говорено! Подписуйся! Полторы!
Он проставил в ведомости.
– Ну?
– А не запрег, так и не понукай, – отрезала Сонька и распрямилась. – Вишь, нукат, нукат, тоже мне, командир засраный. Не хошь на мильен писать? Самому товарищу Сталину тилеграмму отобью, на все сесесер тебя ославлю, как ты супротив почину знатной колхозницы прешь, вражина.
– Знаешь, чё, – сказал Елхов. – Поди морду в колоду укуни, поостынь, тогда объявишься. И помни, полторы тыщи, рублем не отступлю, хоть обоссысь.
– А тута и мы поглядим, чия возьмет, – сказала Сонька. – Мое слово – последнее: али мильен, али хрен тебе в нос твой сопливый, понял? – высказался Елхов вослед.
И тотчас перед нами появилась очередная патриотка.
Она молча вдавила в стол три истрепанных червонца и сказала без наших вопросов:
– Сама-то за палочки работаю, представитель, как и остальные прочие, а это солдатское мужнино жалованье за два, слышь, месяца. От него получено, ему и отдаю для пользы войны.






