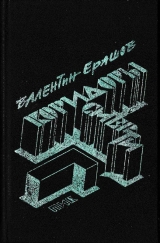
Текст книги "Коридоры смерти. Рассказы"
Автор книги: Валентин Ерашов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Глава пятая
Устроив себе неплановый выходной, отдохнув на морозце, услышав от домашнего врача после каждодневного осмотра, что сердце, легкие, печень в полном порядке, почти избавившись – на время, но все-таки – от привычной боли в руке, он съел стандартный, не меняемый даже при гостях обед (щи, гречневая каша с отварным, от первого блюда, куском говядины), запил боржоми, слегка подкрашенным вином, походил по кабинету и удивил порученца неожиданным заданием…
Неожиданность заключалась не в том, что велено было послать в Публичную (в отличие от всех москвичей он звал только так, а не Ленинская) библиотеку – это делалось часто, – негаданной оказалась книга, без указания автора и точного заглавия, только тема, да и она обозначена лишь приблизительно: о формах и методах подготовки и проведения массовых народных празднеств и гуляний.
Внешние проявления эмоций перед Ним – исключались, генерал записал, и минуты две-три спустя Он услышал, как зашумел всегда включенный на малых оборотах мотор дежурной машины, мягко пророкотали створки металлических ворот. Он представил, какой переполох поднимется в библиотеке, когда явится многозначительно молчаливый полковник ГБ, засуматошатся, подобно муравьям, десятки библиотечных барышень, забегают вдоль каталогов и стеллажей, выхватывая более или менее подходящее и сомневаясь, то ли это, что нужно, и не отваживаясь послать несколько на выбор, и боясь не угодить, и прикидывая, не грозит ли автору какая-то опасность, и норовя потому на всякий случай отыскать автора, уже покойного… Слегка повеселив себя придуманной, однако вполне правдоподобной сценой, он подсел к камину и прикрыл глаза, лишний раз оберегая их от света, как берег он каждую часть и каждый орган поношенного стариковского тела.
Веря в безграничную власть и силу собственной воли, он давно поставил прожить до девяноста лет, не меньше, чтобы исполнить только ему одному ведомые и ему одному посильные планы, прожить девяносто, однако и не больше, ибо сделаться развалиной и маразматиком отнюдь не желал. Срок земного существования он определил себе давно, когда завершились индустриализация и коллективизация, когда он объявил социализм построенным и, не спеша обнародовать, лелеял в мыслях далеко идущие планы. О назначенном себе пределе он даже имел редкую неосторожность, уже после войны, сказать – с легким оттенком шутливости – в обычном мужском застолье. Все притихли, так и не научившись распознавать, когда он подтрунивает, а когда говорит серьезно. Он помедлил тогда, спросил: «Что, испугались, голубчики, не желаете доброго здравия великому вождю и учителю?» Пародировать лозунги в свою честь и собственные официальные титулы он любил, это почему-то его забавляло и тешило. Шутливый – теперь очевидно – тон подхватил Берия: «Как говорят в Китае, десять тысяч лет Верховному!» Подразумевалось – вроде «Главнокомандующему», однако можно было подставить и другое – «Божеству». Верховный милостиво кивнул, поднял бокал, напряженность миновала.
В ту же ночь он испугался: напрасно сболтнул, могут ведь и управиться с ним, сговориться, подослать, подсыпать, подстроить. Преодолевая страх, владевший им постоянно и временами обостренный до ужаса, он угрюмо отсиживался в Кунцеве несколько дней, а после позвал всех на ужин и за столом, в томительной тишине огласил якобы услышанный им анекдот (все понимали, что анекдоты про себя слышать он не мог и если в минуту веселую или, напротив, грозную и рассказывал, то анекдоты, придуманные им самим; именовал он себя в анекдотах – как, впрочем, и нередко в статьях и речах – в третьем лице, товарищем Сталиным). На сей раз анекдот был такой.
Товарищ Сталин вызвал Молотова. «Слушай, Вячеслав, вот Каганович утверждает, будто бы ты заикаешься». – «Я и в самом деле з-заикаюсь, т-товарищ Ст-талин». – «Да, но почему это Лазарь так усиленно подчеркивает? Иди, подумай». После вытребовал Кагановича: «Знаешь, а вот Молотов говорит: ты еврей». – «Так я и есть еврей». – «Верно, только неясно, чего ради он всюду о том болтает. Прикинь, пошевели мозгами».
Рассказав, он мрачно всех оглядел. Никто не улыбнулся. «Не смешно?» – спросил он. Тогда моментально растянул губы самый трусливый и безликий – Шверник, за ним, ничего по глухоте почти не разобрав, засиял Андреев, нарочито, по-солдатски захохотал Ворошилов.
«И вовсе не смешно», – сказал Сталин. Все притихли… Ничтожества, подумал он, бестолочи, пешки…
Перебирая иногда в памяти тех, кто был уничтожен по его приказу (или просто намеку на приказ), он чаще других думал об Алексее Сванидзе, Алеше Сванидзе, единственном, кроме дочери, кого он любил и о смерти которого жалел.
Ни первую свою жену Екатерину Сванидзе (сестру Алеши), ни сына Якова, рожденного, понятно, в законном браке, которого он воспринимал, однако, ее сыном, но не своим; ни пьяницу-сапожника отца; ни рассудительно-спокойную, лишенную человеческих страстей мать; ни шалопая Ваську, готового прыгнуть в огонь по мановению отцовского пальца; ни его мать, Надежду Аллилуеву, не любил он, только Светлану и Алешу.
Но Светлана, повзрослев, отошла, замкнулась, поселилась отдельно в Доме правительства на Берсеневской набережной… Надежда, пусть и не любимая, но все-таки необходимая, предала его, покончив самоубийством, предала, покинула, оставила одного… И Алеша предал, став под расстрел, предал, ибо ведь Он распорядился через Берию (или Ежова, не вспомнить уж): пускай Сванидзе попросит прощения, докажет свою преданность, и Он простит. Но Сванидзе – ишь, какой гордый! – отказался и отправился вослед за такими же кретинами, не бравшими на себя никакой вины…
А как славно бывало с Алешей! Был на семь лет моложе, но разница не ощущалась, как не замечалась и разница в образовании: Алеша прошел курс историко-филологического факультета в Германии, в Йенском университете. Он был умен, образован, талантлив, занимался историей Древнего Востока, печатал научные труды, был притом прекрасным работником на ответственных постах. Алеша был полной противоположностью Ему – всегда в ровном расположении духа, всегда готовый к шутке, к розыгрышу и к серьезному, откровенному разговору, без недомолвок, без глядения в рот, заискивания, подобострастия. Он верил Алеше больше, чем себе, за собою зная и вспыльчивость, и дурной характер, и бешеную несправедливость… Но доложили, что Сванидзе, пользуясь доверием товарища Сталина, продался фашистам, сделался агентом – и не оставалось ничего иного, как арестовать его. Однако в последнюю минуту, когда принесли на утверждение список подлежащих казни, велел передать Алеше о возможном прощении, а тот… Что поделаешь, в политической борьбе нет места слабостям, нет места поблажкам, личным чувствам… Любви.
В любви ему клялись индивидуально, коллективно, всенародно; устно, письменно, печатно; возвышенно и слюняво; раболепно и правдиво; корявыми фразами и отточенными стихами; клялись в любви кинолентами, спектаклями, живописными полотнами, скульптурами; начертанными повсюду лозунгами; гимнами, торжественными обязательствами, детскими клятвами – он знал: все это ложь. «Пускай не любят, лишь бы боялись», – сказал как-то римский писатель, кажется, Акций; это любил повторять император Калигула. И в том – правда. Любовь – неустойчива, переменчива, преходяща; любовь между мужчиной и женщиной – только облаченная в красивые слова похоть; любовь к правителю в конечном счете – плата за благодеяния, которые другой господин легко заменит подачками еще более дорогими и лестными, а следовательно, вызовет к себе любовь еще более сильную. В итоге же так называемая любовь к Правителю есть лишь замаскированный страх, не более того. А там, где страх, – там нет места любви, там есть лишь ненависть, ее надлежит давить с помощью того же страха, таков замкнутый круг… Нечто вроде гомеопатии: подобное лечить подобным…
Страх был свойствен и ему, он это понимал, но и отдавал себе отчет в том, что его страх – иного рода, порожден опасением лишиться единственного, что теперь по-настоящему ценил он, – возможности властвовать самодержно, бесконтрольно, неограниченно; и детищем его страха была не панически сокрытая ненависть, но холодная, спокойная и осмысленная жестокость, холодная настолько, что лишь кивком головы, росчерком пера, даже молчанием он посылал на казнь тех, кто был, мог быть или казался опасным, посылал на смерть, не испытывая презрения, гнева, ненависти, – только трезвый расчет: нужно, требуется, необходимо.
С той же осмысленностью необходимости, неизбежности, никем, кроме него, не понимаемой, карал он и целые народы, всех этих поволжских немцев, а после – степных калмыков, крымских татар, караимов, чеченцев, ингушей, балкарцев, кого там еще…
Не шовинизм, не, Боже упаси, национализм руководил им. Немцев Поволжья спровадил подальше в порядке превентивном – гитлеровцы рвались вперед, пятой колонны дожидаться не годилось. А остальные… Остальные, на кого обрушилась его тяжкая, но притом не гневная длань, поехали в места отдаленные вовсе не потому, что были так уж плохи сами по себе, хуже других, просто – так надо было. Он говорил истинную, объективную правду, когда заявил, что провалились расчеты Гитлера на драчку между народами нашей страны; и не солгал, утверждая, что война привела к небывалому морально-политическому единству советского общества. И, когда вблизи стала призывно и очевидно маячить победа, он понял: это единство основано, конечно, тоже на страхе, но не перед Ним, а перед внешним – всем очевидно – беспощадным врагом, и единство это надобно сохранить, потому что, если оно развалится, в драчке придет конец и Его власти. Даже пускай не драчка, пускай только стремление к самостоятельности, к истинному равноправию, все равно – это не годится, это угрожает Ему. Значит, нужны снова превентивные меры. А выбор подвергнутых депортации, в общем, был случаен: предатели были среди любых народов, он выбрал тех, что поменьше, что подальше от русских, основных… Он с великой радостью вышиб бы в Сибирь украинцев, но тех было слишком много…
Но и этого показалось недостаточно.
Человек по сути малообразованный, тем не менее он достаточно знал историю Государства Российского. Он, конечно, помнил, что послужило непосредственным толчком к возникновению обществ вольнолюбцев, ставших впоследствии декабристами; он высоко ценил Ивана Грозного; он прекрасно понимал, почему Екатерина Вторая сказала о Радищеве, дескать, бунтовщик хуже Пугачева. Он соглашался – молча, тайно – с известной формулой насчет врагов внутренних и внешних, полагая, что внешние враги разнообразны, внутренние же в России это извечно – жиды и студенты; под студентами имелась в виду интеллигенция, и не только молодая.
Интеллигентов он, завидуя, не любил еще с юных лет; их он помянул недобром в самом начале войны, обозвав перепуганными интеллигентиками, сокрушать принялся тотчас после победы… Но в нем жил страх, сделанного казалось недостаточно. И, следовательно, оставались – жиды.
Дежурный генерал постучался осторожно, получил разрешение, положил на стол, не решаясь приблизиться и отдать в руки, пакет, опечатанный сургучом, как и все – даже самые безвинные – пакеты, доставляемые сюда.
– Ваше приказание выполнено, товарищ Сталин, – доложил он, внутренне, как всегда, спотыкаясь на обращении: согласно уставу полагалось, конечно, именовать – товарищ Генералиссимус Советского Союза… Но товарищ Сталин не признавал иных обращений, кроме общего. По имени-отчеству звать дозволялось лишь немногим. И лишь считанные единицы теперь еще могли называть его давней подпольной кличкой Коба.
– Распечатайте, – приказал Сталин.
«Народные праздники и массовые театрализованные действа» – называлась книга. Советское издание. То, что надо. Автор – какой-то Кугельман… Это хорошо, что Кугельман…
Глава шестая
Врача-академика с редкой, странной фамилией Мойся, унаследованной от еврейских местечковых предков, возвращали с допроса.
Его волокли по низким, почти квадратным в сечении коридорам, они причудливо змеились, делались то прямыми, то изломанными под неверными углами, то вдруг искривлялись, выгибались дугой; стены сближались неотвратимо, казалось, вот-вот они соприкоснутся, раздавят, превратят в кровавую лепешку; но, едва коснувшись истерзанного тела, стены поспешно пятились, прядали куда-то прочь, их выпуклости делались вогнутыми; стены вырастали ввысь, терялись в черноте, а может быть, они углублялись и тьма была внизу? Лампы, несчетные, разбросанные кое-как, непрестанно, безостановочно меняли цвет – зеленые, желтые, багровые, белые, синие, фиолетовые, опять синие, оранжевые, то в полоску, то пятнами; они менялись размерами – от чуть ли не микроскопических, тех, что применяют в медицине, до почти прожекторных; они отличались неустойчивостью формы – каплевидные, шарообразные, трубчатые, плоские, кубические, спиральные, змееподобные; они звучали – скрежетали, взвизгивали, трубили, гудели, даже мяукали; от них воняло сероводородом и благоухало тончайшими духами, они отравляли воздух трупными миазмами и сочились ароматами весеннего луга; они подмигивали, мерцали, разливали ровный лабораторный свет, они лупили с размаху по глазам прямыми, точно штырь, лучами, гасли, оглушая мглой, вспыхивали шаровыми молниями; они падали, звенели осколками, воссоздавались вновь сами по себе…
Гориллоподобные охранники, еще два часа назад подтянутые, стройные юноши, волокли его, ухватив под руки, а ноги волочились по каменным плитам, словно у паралитика, ноги волочились, цеплялись за малейшую неровность, ступни подскакивали, осеченные болью. Кровь лилась отовсюду, откуда только могла течь, – из ноздрей, ушей, рта, мочеиспускательного канала, анального отверстия, даже из-под век; ее было так обильно, что позади она покрывала каменные плиты сплошным слоем, похожим, наверное, на ковровую дорожку, она хлестала потоками, несоразмерными ни отверстиям, откуда она покидала хилое тело, ни количеству, данному природой любому человеку, но ведь здесь ничего человеческого и не существовало, ведь ни гориллоподобные стройные юноши, ни сам он, влачимый с допроса, ни следователь – каждый по-своему не были, конечно, людьми.
Обрывки, клочья ускользающего, меркнущего сознания – то ли здесь было, на допросе, то ли там, в коридоре… Нет, наоборот: здесь – коридор, там – допрос… Неважно!.. Ускользает… Обрывки, клочья…
Нет, нет, нет!.. Никто из нас… Ах, никто!.. У-у, гадина, мы все знаем… Нет, не я, только не я… А кто? …Не знаю… Не знаешь, сволочь, ну получай… Нет, вы правы, я Меер… То-то же… Да, я не Мирон Семенович, я Меер Соломонович… А еще кто, кроме?.. А кроме… я – Вершинин, да, я – Вершинин, нет, это он, он, Вершинин… А раскололся, падла, значит, Вершинин во всем… Нет, нет, я не Вершинин, я Мойся, академик, я никого… Никого, сука? А Вершинин?.. Не знаю, я генерал, стать смирно… Я тебе стану… А я на самом деле и не Меер, не Мойся, я ворон, а не мельник… Какой еще там мельник, из вашей банды?.. Да, он, он под кличкой Мельник, он, Вершинин, не надо меня бить… Не будем, вон плевательница, суй морду туда…
Его волокли по тщательно вымытым плитам коридора, ровно светили голые стандартные лампы под потолком, ноги подгибались, держали плохо, поэтому его и волокли, взяв под мышки, двое стройных, совсем не гориллоподобных юношей, он попросил остановиться на полминутки, даже дали платок, приложил к носу, посмотрел – чисто, ни капельки крови. Да и откуда ей быть, если охаживали какой-то матерчатой колбасой, наполненной, похоже, песком, отбивали почки, ударили по мошонке, лупцевали по животу, нет ни ран, ни синяков, ни кровоподтеков.
Сознание вернулось. Боже мой, простите, Василий Николаевич, я, кажется, упоминал вас, академика Вершинина, простите, многоуважаемый коллега, я потерял рассудок, но я, поверьте, не сказал им ничего дурного про вас, да и что я, собственно, мог им сказать на их бред, они же параноики с характерными симптомами, они фашисты…
Нет, нет, господа солдаты, я не подумал про фашистов, как вы можете предположить такое… Я думал о товарище Сталине, я всегда о товарище Сталине…
– Да здравствует великий вождь товарищ Сталин! – кричал он в гулком коридоре, где вообще не полагалось кричать, и тем же платком, что сжимал он в руке, – заткнули рог, ладонью тренированно ударили под колени, сшибли, поволокли тряпичным кулем по залитому кровью полу, кровь надвигалась потоком спереди, по ней гладко и приятно идти, ползти, волочиться, по этой бархатной дорожке, и какой дивный здесь, в прекрасном коридоре, свет… И какие умные, остроумные люди; утром вошел в камеру надзиратель, выкликнул: кто здесь на букву «МЫ»? И следом за каким-то Мироновым откликнулся он, Мойся… И надзиратель, ах как изящно, сказал: мойся, говоришь? Вот мы тебя и умоем, пархатая харя… И Вершинин мне пожал тихонько руку, когда выводили… Он, он всему виной, проклятый фашист Вершинин, фашист хренов… Он, честное слово, товарищи красноармейцы, ваши превосходительства, господа рядовые, я это утверждаю с полной ответственностью, я – не как-нибудь, я – генерал-майор медицинской службы, пархатый жид, заслуженный деятель науки РСФСР, России, проданной мною, я – бывший главный специалист Красной Армии всю войну, и войну развязал я, профессор Мойся Меер Соломонович, развязал по сговору с многоуважаемым фюрером, хайль! Смерть жидам, спасай Россию! Вы еще возражаете, пархатый Вершинин Василий Николаевич, а может, не Василий вы, а Дон Базилио, бразильский почтальон? Или вы – Баська, шлюха с Молдаванки? Хайль! Ур-ра! Эс лебэ!
Дверь громыхнула, от сильного толчка в спину Меер Соломонович едва не хлопнулся, но Вершинин успел его подхватить. Мойсю шатало, и, покачавшись на шатких ногах, он сперва поглядел мутно, после осмысленно сказал:
– Покорнейше извинения прошу, если можете, Василий Николаевич.
– Вы… Вы о чем? – дивясь и пугаясь, пробормотал Вершинин. – О чем вы, Мирон Семенович, благослови вас Бог? Разве вы меня затруднили хоть чем-то, я просто поддержал вас за руку, покорнейше прошу извинить, если я причинил вам боль…
– Нет, я не о том, вы меня поняли неверно, многоуважаемый коллега… Это я должен просить… Впрочем, знаете, просил бы вас покорнейше впредь называть меня так, как в документах, я не Мирон Семенович, я – Меер Соломонович…
– Да что вы, в самом деле, Мирон… Хорошо, Меер Соломонович… Да что с вами, голубчик?
– Я ворон, а не мельник! – речитативом спел академик Мойся, пал на четвереньки, шустро перебирая руками, приволакивая бессильные ноги, пополз, так воя, что камера смолкла.
– Оклемается, – профессионально заверил какой-то урка. – С ними, тилигентами, бывает.
И, уцепившись за слово «тилигент», прочастушил старое:
Бом-бом, тили-тили,
Нашу маму сократили.
– Тили-тили-тили-генты! – радостно закончил он.
Офицеры государственной безопасности – их временно втиснули сюда, в камеру, чтобы докладывали о врачах-убийцах и дополнительно воздействовали на их психику, – роли уркаганов играли хорошо, профессионально.
Глава седьмая
Вас приглашает товарищ Рюмин, сказала трубка, не поясняя, кто есть товарищ Рюмин, – фамилия заместителя Берии каждому известна; нет, машину присылаем свою; нет, никаких отчетных материалов и проектов не требуется; документы, удостоверяющие личность, необязательны; спасибо, ваш подъезд знаем; не откажите в любезности через пятнадцать минут быть внизу; номер машины записывать необязательно, вас знают в лицо; да, и, пожалуйста, воздержитесь сообщать сослуживцам, ваше руководство поставлено в известность; жене тоже нежелательно; спасибо, итак, через пятнадцать, нет, уже через двенадцать минут…
Трубка загудела, он из горлышка выпил противного теплого нарзана, принялся бесцельно выдвигать ящики письменного стола, распахнул сейф, неосмысленно переложил в нем бумаги, окинул стены, увешанные ватманами, понял бесполезность этого досмотра – кто их знает, чем заинтересуются, если придут в его отсутствие – и, запершись изнутри, словно это гарантировало от прослушивания телефона, торопливо набрал домашний номер. Телефон отозвался глухой немотой. С женой он говорил полчаса назад, связь работала исправно. В бюро повреждений звонить не решился, да и время истекало. Он быстро написал несколько слов, запечатал в конверт, адресовал жене, подумал секунду, порвал, сжег в пепельнице, размял черные невесомые лохмотки.
Лифт не спускался, он падал, стремительно и нескончаемо, хотелось, чтобы падение длилось бесконечно, до самого смертного часа, либо, подумал он, лучше бы конец настиг его здесь, в деревянной зашарпанной кабине, нежели там… Лифт, однако, остановился, и следовало идти навстречу Судьбе.
Едва он вытолкнул себя на крыльцо, подкатила машина, то была обыкновенная «эмочка» довоенного образца, даже не теперешняя «Победа», это обстоятельство почему-то успокоило. Несуетно, достойно вышел штатский, протянул руку, не спрашивая фамилии, сам не назвался. Усадил на заднее сиденье, сам расположился наискосок спереди. Стекла не были завешены. Ехали молча.
Его, приглашенного, вели по глухому, без окон коридору, один из сопровождавших шел рядом, другой слегка позади, но только слегка – то ли провожатые, то ли конвой. Глуша смятение, он вглядывался. Ковровая дорожка – не одноцветная, с продольной каймой, а украшена орнаментом; отлично поставлено освещение, люминесцентные лампы скрыты козырьками под самым потолком, бесшумны в отличие от большинства, которые отвратительно гудят. На стенах – не портреты вождей, не батальные сцены, а нормальные пейзажи, натюрморты, кажется, подлинники. И вид столь мирного, со вкусом оформленного коридора окончательно успокоил его.
Такой же была и просторная приемная. О нем доложили сразу. Импозантный красавец генерал, вполне натурально улыбаясь, встречал посередине светлого кабинета, протянул уверенную руку, обратился по имени-отчеству (не сказав, однако, своих, как и тот, что вез), проговорил с естественной, почти приятельской непринужденностью:
– Рад познакомиться лично с таким прекрасным мастером, да еще вдобавок Главным художником столицы.
– Извините, вы ошибаетесь, – робея, отвечал приглашенный, – я всего-навсего начальник отдела наружного оформления… При горкомхозе…
– Ай-ай, – сочувственно и укоризненно сказал Рюмин. – Плохо работает ваша, извините, контора, неужели вас еще не поздравили? Ваш отдел выделен в самостоятельное управление, вы становитесь Главным художником Москвы, на равных правах с Главным архитектором. Рад, что, оказывается, первым сообщаю вам приятную новость. Прошу… Чай, кофе, коньяк? Или, грешные, по такому случаю – рюмашечку натуральной, российской?
Кино, подумал Художник, фантасмагория, бред, мираж, ненаучная фантастика, вот сейчас нажмет кнопку или позвонит и будет тебе кофе с коньяком.
Рюмин же и вправду нажал какую-то невидимую кнопку, одна из стенных дубовых панелей сдвинулась, обнаружив бар, вынул запотелую бутылку водки, тарелку с разнообразными бутербродами, расстелил салфетку на столе у окна, пригласил.
– Ваше здоровье, – он чокнулся, вкусно крякнул, взял бутерброд с толстым брусочком икры. Художник выпил жадно, тотчас же спохватился: захмелеет, ослабнет, тогда вот его и…
– Да бросьте вы, – Рюмин дружески положил на его колено ладонь. – Комедии ломать мне, извините, положение не дозволяет… Ничего решительно с вами не случится. Давайте пропустим еще по единой и потолкуем. И жене вы звонили надраено, – добавил он.
Художник подумал: все знают, все… И каждую даже мысль улавливают…
– Спасибо, – неизвестно к чему сказал он и несмело провозгласил: – А теперь – за ваше здравие…
Вскоре они сидели рядышком за другим столом, просторным, голым, и Рюмин, видно, что-то смысля в рисовании, бегло набрасывал нечто похожее на эскиз. Художник смотрел и слушал внимательно, пытаясь догадаться: почему для такой обыденной работы его следовало тащить сюда, почему удостоил этой сомнительной, а точнее, страшной чести сам Рюмин, с какой стати надо обсуждать теперь, когда до Первомайского праздника три с лишним месяца, а схема оформления Красной площади, в общем, повторялась из года в год… И при чем здесь МГБ? Но спрашивать у Рюмина, по всей вероятности, не полагалось – здесь спрашивали они, и Художник слушал, как школьник слушает убогие объяснения посредственного педагога. Умный Рюмин, кажется, и в самом деле читал мысли, дружелюбно засмеялся, молвил:
– Думаете небось: а чего ради мне таблицу умножения втолковывают? И правда, я что-то не туда загнул, забыл, что разговариваю со специалистом… Извините…
И принес еще две наполненные рюмки с того, маленького столика.
– Бригада, – сказал Рюмин, – с вашего позволения, не свыше пяти человек, включая вас. И, если не возражаете, я бы попросил включить в бригаду ваших сотрудников товарищей Зусмана и Шмулевича. Не смею настаивать, это лишь просьба…
Странно, подумал Художник, из пятерых – трое нас, или спохватились, что перегнули с антисемитской кампанией, исправляют положение, или какая-то ловушка?
Он испугался этих мыслей: вдруг Рюмин и тут разгадает?
– Отличные мастера, – сказал он о Зусмане и Шмулевиче.
– Вот и зэр гут, – ответил Рюмин. – Задерживать не смею, еще раз поздравляю с назначением, желаю творческих успехов.
Проводив Художника к двери, Рюмин сказал в селектор:
– Наружное наблюдение за ним и прослушивание – круглосуточно.
В тот же день и примерно по такому же сценарию принимал Рюмин еще и главного режиссера одного из крупнейших театров. Тот был человек увлекающийся, умел мыслить масштабно, давно мечтал развернуться, жалуясь друзьям и даже труппе, что его талант зажимают мелкие чиновники от искусства. И предложение заместителя Берии принял восторженно, мигом сообразив, что действо развернется с таким размахом, какого не видывали ни греки, ни римляне, ни парижане во времена их Великой Революции, ни германцы при Гитлере. Смысл постановки был не отчетлив, однако постановочный размах – невиданный, сказал обаятельный Рюмин, при оформлении сметы можно, в общем, не слишком ограничивать себя.
Тут же составили список постановочной группы из пятерых, причем по деликатному совету генерала двое оказались из числа тех, кого еще недавно бранили космополитами, но Режиссер, находясь в состоянии некоей эйфории, не придал тому ни малого значения.
Дома он, хвастаясь перед женой, не обратил внимания, когда она сказала, что приходили с телефонной станции без вызова, в порядке профилактики, сами заменили аппарат на более современную модель. Что ж, это хорошо, сказал он мимоходом, не зная, что у аппарата есть особенность: вмонтировано приспособление, кое действует даже при не снятой с рычага трубке.
Возвращаясь на Родину в сороковом году, он, конечно, не мог быть уверен, что ему простят и давний-давний выход из партии, и фактическую эмиграцию; даже участие в Испанской войне (конечно, на стороне республиканцев) кое-кому обернулось бедой, награжденные, обласканные, после возвращения домой сразу очутились на Лубянке и бесследно исчезали; не был уверен, простят ли ему долгое общение с не нашими, «оторванность от советской действительности»; да и то, что ни единым словом, печатным, произнесенным ли вслух, не вознес он хвалы Великому Вождю, прославляемому в стране… Происходящее на Родине понять до конца не мог, на телефонные звонки взрослая дочь отвечала странно: вела длинные разговоры о московской погоде – в прямом смысле о погоде, – на расспросы о знакомых говорила что-то про их детишек, прикидывалась, будто забыла некоторые имена… Конечно, догадывался он о многом, не ведая подробностей, но и здесь оставаться не мог: как только Гитлер захватит европейскую страну, где он жил, участь евреев предопределена. И вот-вот фюрер грянет на Россию, и отсиживаться где бы то ни было – немыслимо, надо разделить участь своего, русского народа, какой бы ни оказалась она…
Первые признаки страха они с женой ощутили, когда бойцы на пограничном контрольном пункте без церемоний шуровали по чемоданам, вываливали вещи на вагонные диваны, когда вместе с багажом выводили на вокзал, в объяснения не вступали. Вот когда он порадовался, что основательно перебрал свои бумаги.
Все обошлось, хотя акклиматизация длилась трудно и обрел себя по-настоящему лишь с первых дней войны, страшной, заведомо долгой. Он ощутил себя нужным, работал на износ, редкий день газеты выходили без его статей, редкая неделя – без выступлений по радио. И не тщеславие, конечно, и не меркантильные соображения двигали тогда им, а – ненависть.
Фашизм, расизм, шовинизм, национализм стояли для него в одном, скотском, ряду, и он, рожденный евреем, по самосознанию русский, по воспитанию и культуре европеец, – не уставал развенчивать их: фашизм, национализм… Он лупил по стертым от непосильной нагрузки клавишам раздрызганной машинки, сунув в зубы погасшую трубку, машинка подпрыгивала и, казалось, дымилась, и раскаленными были строки, что двумя-тремя часами позже пойдут – без редакторской правки прямо на линотип, в ротацию, лягут в чрева самолетов, в тесные пространства вагонов, на конные упряжки, собачьи нарты, влетят в окопы, штабные блиндажи, лягут на стол Верховного, достигнут, переведенные, перепечатанные, фюрера – вот в этом заключался главный смысл жизни, ее содержание, ради одного этого стоило жить.
Война кончилась, и он долго еще не мог остыть, а после началось такое, что ввергло его в растерянность и недоумение. Он умолк, замкнулся; если в войну он понимал, что словом своим он помогает, притом помогает не кому-либо конкретному, а, думал он без ханжества, – народу, то сейчас никому помочь не в силах, и он молчал, замыкался, маялся бессонницей, постоянно ждал, когда придут и за ним, не ведая за собой никакой вины, однако ведь и остальные, кого травили, кто исчезал бесследно, тоже не были виновны…
Он закрывался в кабинете, курил, читал, писал стихи. Его – не трогали, но кто мог предвидеть…
Приехав на представительском, длинном, семиместном «ЗИСе» – его вел шофер, за многие годы незримо для окружающих постепенно повышенный от лейтенанта госбезопасности до капитана, – Генеральный конструктор выслушал у входа рапорт старшего по охране, козырнул с небрежной, властной уверенностью, прошел пустыми коридорами в кабинет.
Он любил приезжать к себе, в конструкторское бюро, до начала общего трудового дня, любил пройтись по этому светлому коридору, мимо застекленных дверей, мимо пустых комнат, представляя, как через полчаса комнаты заполнятся многими сотнями людей, таких разных и так одинаково подчиненных его воле, таланту, инициативе, беспрекословно подхватывающих его идеи, притом людей не безгласных, не усердных исполнителей, но воистину творческих. Он сумел внушить каждому – от своих заместителей до последних уборщиц и рассыльных – понимание сопричастности большому, государственному делу, всякий ощущал себя, пускай в малой степени, соавтором великолепных боевых машин, признанных лучшими в мире.






