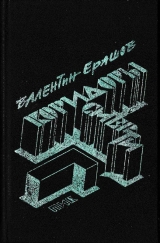
Текст книги "Коридоры смерти. Рассказы"
Автор книги: Валентин Ерашов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Пил, как только русский умеет: без передыху, не испытывая притом ни радости, ни веселости, ни облегчения, ни жалости к себе, ни раскаяния, а только мрачнея с каждой стопкой.
Таня сперва не углядела, что пьет всерьез, потом принялась увещевать, после – сердиться, отбирать деньги, водку. Наконец махнула рукой, выдала формулу, что стала у них знаменитой: «Не в меня пьешь, в себя пьешь». Он и обрадовался, теперь лакал нестесненно до тех пор, пока не ахнули события сорок шестого и следующие – о журналах постановления, о кино, музыке, театре… Тогда вот и докумекал: он – всегда звенышко в непонятной, неведомо кому и для чего нужной цепи, она охлестнула обоими концами уже многих…
Его имя на собраниях и в статьях не поминали – успели забыть, зачеркнуть, не считали, видно, за писателя, да он и сам теперь говорил: бывший писатель, говорил, не мытаря себя, а констатируя бессомненный факт. Иные бросали писать, голодовали. Кое-кто устраивался на службу – подальше от литературы, чем бы ни заниматься, лишь бы выжить. Другие зачислялись добровольно в литхолуи, в аллилуйщики. Кое-кто публично каялся. Кое-кого без шума командировали на казенные харчи в Воркуту добывать уголек…
А он в одночасье выкинул штопор и любимый хрустальный стаканчик, перестал окончательно появляться на люди, уселся за стол, оброс дикою щетиной и за три месяца сработал такое, что у самого перехватило горло.
И сейчас не знает, как жанр книги определить: роман, повесть, цикл рассказов, дневник, воспоминания? Было, пожалуй, что-то новое – сплав сюжетных построений с авторскими раздумьями, лирики с публицистикой, дневниковых записей с пространными описаниями природы, вымысла с документом, реальности с фантастикой, сплетение временных планов, параболы… Завязка, развязка, экспозиция, кульминация, прочая хреномудрия – он плюнул на школярскую премудрость, писал, как ложилось, и, прибавив, понял: может, это Главная книга.
Татьяна что-то продала, где-то заняла, купила на барахолке трофейную новенькую «эрику», достали хорошей бумаги. Сам тщательно и медленно перестучал, даже Татьяне не доверил, опять долго правил, переписал заново. Вычитал до буковки. Вложил в красивую папку и, принарядившись во что было, понес в издательство, где восседали прежде авгуры и где – у подъезда, с метлою – околачивается каждое утро теперь.
Секретарша, как и многие, его запамятовала, пришлось называть фамилию, секретарша поглядела диковато и сказала: «А разве…» Не обидясь, отвечал: «Да, представьте себе, жив курилка! Ну как, начальство принимает? Я тут рукописенку одну приволок…» – «Семена Михайловича нет, – отрубила секретарша, – и неизвестно, когда будет». – «Хорошо, – сказал он, – зайду завтра». – «Не могу вам гарантировать, лучше оставьте рукопись, зарегистрируем и пропустим обычным порядком». – «Нет, – он прижимал папку, точно собирались отнимать. – Только ему лично». – «Как угодно, позвоните предварительно».
Звонил неделю подряд, секретарша отвечала: нет, неизвестно, попробуйте завтра с утра… Пришел снова, на этот раз небритый, поддатый и, не спрашиваясь, прошагал через приемную, конечно же, Главный обнаружился в кабинете.
«Вот, – сказал Федосей Прокофьевич, как в те дальние времена. – Книгу написал. Хорошую». Главный посмотрел, как сазан, выдал привычной скороговоркой: «Оставьте в приемной, зарегистрируем, пропустим обычным порядком, загляните этак месяца через три». Будто видел Федосея Прокофьевича впервые. И присовокупил уже медленней, вразумляюще: «Но имейте в виду, план редподготовки утвержден, никому ничего не обещаю». – «А если я „Войну и мир“ принес?» – сказал Федосей Прокофьевич: взыграла злость и хмель разобрал немного. «Когда выпьем, все кажемся львами себе», – пренебрежительно сказал Главный.
Федосей Прокофьевич шмякнул рукопись на стол секретарше: «Зарегистрируйте и – обычным порядком». – «Давно бы так, – молвила она с назиданием. – Напрасно время у себя и других отнимали». – «Девчонка вы еще, чтобы мне грубить», – отвечал он, хотя секретарша была его постарше и не грубила, в общем.
Пакет принесли на диво спешно – курьер, под расписку, – через пять, кажется, дней. На фирменном бланке: «План укомплектован, свободных позиций в плане издательство не имеет, рукопись возвращаем». Ни рецензии, ни пометок на полях, листы сложены аккуратненько, как были. «Того и следовало ожидать, – сказала Татьяна, – ты ведь был готов к этому». – «Конечно, того и следовало ожидать» – согласился он мертво. Таня исчезла, вернулась быстро, поставила бутылку, попросила: «Ты выпей, родной, выпей, пожалуйста, прошу тебя».
– Ты ешь, родной, – говорит Татьяна, – простынет картошка, и котлеты вот опять холодные, подогреть еще раз?
– А? – переспрашивает он. – Ты что? Я есть не буду, перехватил там с ребятами. Ты погуляла бы, Танюшка?
– Хорошо, на сковородке оставлю, разогреешь, когда захочешь, да? – отвечает она и собирается. Так почти каждый день – Татьяна исчезает, чтобы оставить одного. Если наскребет деньжонок – посидит в кино, три сеанса в разных залах. При полном безденежье – заглянет к знакомым, их осталось мало. В хорошую погоду станет читать на скверике. Работать, когда рядом кто-то, он давно и напрочь не может, пускай Татьяна и затаится на кухне.
– Вернусь к пяти, – говорит она и целует в лысинку. – Садись, родной, и постарайся работать непременно, ведь тебе так много надо сказать…
– Хочешь напомнить – скоро подохну? – взрывается он и тотчас винится: – Не надо, Татьянка, я старый дурак.
– Дурачок ты мой, – говорит она. – Сиди, пиши. Или почитай. Или подумай. Только не пей сегодня больше, ладно?
Он почти не слышит, отмахивается: иди, иди. Татьяна понимает: повело. Иначе – полоснуло.
Лист заправлен в каретку, несколько самокруток приготовлены, чтоб не отвлекаться. Желудевый кофе в термосе. Впору начинать.
Тарахтелка-машинка не раздражает. Он строчит, не слишком примеряя слова, только бы не пропал настрой, ритм, только бы не упустить мысль, только бы не улетучилась мелькнувшая деталь. После он будет утюжить страницы тяжелым пером, заново переписывать, прятать в чемодан – на месяц, два, покуда ночью не потянет вытащить, снова править и перепечатывать – и так шесть, восемь, десять раз, и никогда не приходит успокоенность: получилось вроде.
Две страницы – за полтора часа. Не так уж скверно по количеству. Перекур.
…Он тогда – себе назло – потаскался еще с рукописью по издательствам, по журналам. Круг замкнулся, отдавать стало некуда. Но притом дотаскался до конкретного результата.
В газетенке одной тиснули про него аж целый подвал. Наверное, те газетеры Маяковского в буквальном умысле понимали, ехидство его, капиталу адресованное, приняли за догму: «Этика, эстетика и прочая чепуха – просто… женская прислуга». Этикой тут пренебрегли – не книгу долбали, а рукопись, такого и при Бенкендорфе не числилось. Дробили сильно, этак вкусно дробили: «В дни, когда советский народ под мудрым руководством… Наш некогда известный прозаик занимается созерцанием собственного пупа… Выворачивается наизнанку… Советские люди отвергают…»
Водкой он разжился в изрядном объеме, Татьяну к подруге ночевать спровадил, запалил печь, изодрал рукопись. Ворох бумаги лежал на полу – оскверненные, оплеванные, опоганенные листки; доконает бутылку, сунет обрывки рукописи в раскаленную пасть печки. Огонь, известно, от любой скверны очищает.
Тут его и застигла, неожиданно возвратясь – чуяла неладное, – Татьяна.
Неделю потом она раскладывала кусочки, склеивала все четыре экземпляра, бегала к переплетчику, одела в коленкор – сейчас темно-синие книги томятся на дне чемодана. Пускай томятся. Ежели переплести все насочиненное-ненапечатанное – наберется полтора десятка томов. Полное собрание… Кому нужны? Да – никому. Помрет – Татьяна станет хранить, уйдет и она – выкинут на помойку…
Машинка скрипит кареткой, буква «м» застревает, приходится поправлять клавишу, палец в краске от ленты…
На пороге в облаке пара, точно Саваоф, появляется шустрик-управдом.
– На работу собираетесь, товарищ писатель? – вопрошает он.
– На службу, – отвечает Федосей Прокофьевич угрюмо. – Работа у меня здесь, за столом.
– И работайте на здоровьичко, – ласково журчит шустрик. – Времени теперь прибавится. Вот со служебной квартиркой как… Освобождать придется.
Протягивает листок.
«Как не соответствующего занимаемой должности, за халатное отношение к служебным обязанностям уволить с выплатой выходного пособия младшего дворника гр-на…»
– Окончание на обороте. С месткомом согласовано, – подсказывает шустрик, но Федосей Прокофьевич не читает. Скидывает кожушок, швыряет на пол голицы.
– Нам писатели не требуются, нам дворники нужны, – сообщает шустрик. – А сегодня извольте отработать. Жалованье пока идет. До завтрева…
– Катись-ка ты, – говорит Федосей Прокофьевич.
Очень обстоятельно разъясняет.
– Пя-сатели. Художники слова, – подытоживает бывшее начальство, прослушав с интересом. Вздыхает почти восторженно. – А квартирку придется освободить. В двухнедельный срок.
– Пш-шел вон, – приказывает Федосей Прокофьевич.
– Ауфвидерзейн, – говорит шустрик. Добавляет с порога! – Аверьянычу, дружку своему, поклонись, может, уступит местечко в туалете. Строчить там можно без отрыва от основного производства: тепло, светло и мухи не кусают. И квартирку сохраним в таком разе, как полезному обществу элементу…
Федосей Прокофьевич хватается за метлу, шустрик испаряется. Метла и лопата летят ему вслед.
Писатели не требуются – дворники нужны…
Тетрадочный листок с приказом валяется на столе. Порвать, не расстраивать с ходу Танюшку? Но что изменится до завтра, все равно ведь не скроешь.
Медленно идет по комнате, выволакивает отовсюду – со шкафа, с полки, из-под кровати – связки рукописей, валит на пол.
Потолок сводчат, и для чего-то посередке загнут вопросительным знаком крюк. И бельевая веревка тянется через кухню.
Растапливает печь, хотя еще не выстыло за день.
Татьяна задержалась – наверное, ищет денег на завтра, получка лишь к вечеру. Занять – тоже проблема, дают неохотно, и не только ей, жене бывшего писателя, а и любому: время такое, сегодня человек жив-здоров и при деле, а через сутки – бог знает… Если Татьяна не вернулась к пяти, как обещала, значит, придет в семь, когда он оканчивает вечернюю приборку. Что ж, к лучшему, если не пришла…
Опрокинутым вопросительным знаком торчит крюк в потолке.
Подтаскивает, ногой подгребает рукописи к печке. Страницы сыплются. Лопнула бечевка, листки желтые, странно, с коих времен черновиков не хранит, а они – вот… Милая моя Танюшка, прости меня…
Усаживается на корточки спиной к двери, шурует кочергой, дрова разгораются плохо, сует пук бумаги…
На привычный скрип двери не обращает внимания. Не слышит просто.
– Родной, – говорит сзади Татьяна. – Я прочитала там, у ворот, на доске… Я прочитала приказ…
– Ну ты мне скажи, – отвечает он, так и не оборачиваясь, деловито спрашивает и буднично, будто советуется, пойти ли в кино. – Ты скажи, Татьяна, как жить дальше? Я тебя спрашиваю – как нам жить? И другим?
Она молчит. Открывает облезлую сумку, похожую на большой отощалый кошелек. Ставит две четвертинки, потные от холода.
– Выпей, милый. Ты выпей лучше…
1968 г.
КОРИДОРЫ СМЕРТИ
Историко-фантастическая хроника
Это повествование построено и на доступных автору документах, и на опубликованных материалах, и на собственных воспоминаниях, и на рассказах очевидцев, и частично на ходивших в ту пору и впоследствии разговорах. Описанное в хронике – было или – могло быть. Домысел автора – в рамках и пределах допустимого законами литературы.
Главное фантастическое допущение: Сталин завершил жизнь не 5 марта 1953 года, как официально оповещено, а немного позже; один из вариантов заглавия хроники был: «Сталин умер завтра». Используя этот прием, автор и строит повествование, особенно в заключительных главах, ибо события, составляющие ядро и суть произведения, были действительно запланированы и, вероятнее всего, осуществились бы, не помешай тому кончина Вождя.
Основные исторические фигуры реальны. Те, кому предстояло быть исполнителями, – обозначены условно, по роду занятий. Фамилии жертв – из уважения к их страданиям и памяти – изменены. В хронику введена семья, имеющая реальный прототип. Некоторые статисты кровавого спектакля оставлены анонимными.
Эпилог
I
Берию вели на расстрел.
Он шел по бесконечным, гулким, то прямым, то изломанным коридорам, пронзительно освещенным голыми, жесткими лампами. Резкие тени скользили впереди, отставали, двоились. Порой капитан справа наступал сапогами на его, Берии, тень, и Берия чуть отклонялся, оберегая свой распластанный на полу силуэт от ненавистного сапога. Тогда офицер слева коротко дергал головой – приходилось шагать прямо.
Направляющим конвоировал майор, и еще один топал позади, Берия чувствовал его дыхание и слышал размеренную поступь всех четверых. Собственных шагов не различал, хотя звуки громко взлетали под низкие своды.
Ему не требовалось глядеть, куда поворачивает направляющий. Берия слишком хорошо знал подземелья Лубянки, он знал каждый изгиб и любое спрямление коридоров, бесчисленные переходы, лесенки, пороги. Знал и ниши, куда полагалось – лицом к стене – втискиваться заключенному, если навстречу вели другого. От конвойных требовалось непрерывно прищелкивать языком или постукивать ключами о пряжку, предупреждая встречных, такой порядок придумали, кажется, еще при Николае Втором. Но сейчас офицеры не соблюдали этого правила: заведомо никто не мог оказаться на их пути.
Берию вели на расстрел.
Он понимал: никакое чудо не спасет его.
Он слишком хорошо знал, как приговоренные до последнего мгновения надеются на чудо, и привык с насмешкою думать об их надеждах. Человек ума трезвого, холодного и расчетливого, Берия не тешил себя иллюзиями: через несколько минут его шлепнут.
Время, совсем недавнее, до предела заполнялось работой – так он обозначал жестокое, нечеловеческое дело, коему отдал много лет кровавой, нечеловеческой жизни. Однако же удавалось выкроить время и на чтение. Из книг о прошлом, из записей подслушанных разговоров в камерах смертников Берия знал: перед казнью почти все думают и говорят о женах, о детях, о родителях, пишут им письма, остающиеся неотправленными в тюремных канцеляриях.
Берия думал не о том, семьи у него как бы не существовало.
То есть, конечно, она была, но Берия давно почти не встречался с женою и взрослым сыном, проводя ночи в угрюмом, крикливо обставленном особняке, где стол всегда ожидал его накрытым, постель – приготовленной, женщины – пронизанными то еле скрываемым страхом, то извращенным любопытством, то затаенным, однако очевидным отвращением, а порой и нетерпеливым желанием.
Берия думал в последние минуты не о семье.
Он думал – о Сталине.
Думал с привычной ненавистью к человеку, водворенному теперь на самое священное, как твердила пропаганда, место. Берия знал – он знал все высшие тайны, – недолго тому, набальзамированному, возлежать в хрустальном саркофаге Мавзолея, но и это не смиряло ненависть к мертвому. Берия так и обозначил его сейчас – мертвец. Себя он еще числил в живых.
Ненависть к Сталину была едва ли не изначальной, с двадцать первого года, когда они познакомились, – Берия понимал и сознавал причины ее.
Сам из породы отъявленных честолюбцев, Берия числил Сталина самым одержимым из властолюбивых маньяков. Даже фамилия, придуманная им, была претенциозна и многозначительна, Берия ненавидел ее звук и начертание.
Берия ненавидел Сталина за то, что повиновался ему и раболепствовал перед ним. И за то, что считал чистоплюем: Сталин лишь подписывал приговоры, притом не все, но сам не допрашивал, не избивал, не расстреливал, как делал это Берия, даже не присутствовал на казнях, как присутствовал часто Берия, находя в том хоть малое утоление жажды властвовать беспредельно, видеть людей беспомощными, жалкими, растоптанными, уже мертвыми раньше, чем наступала мгновенная смерть.
Ненавидел он и потому, что был тот – по крайней мере, до последних лет – умнее и хитрей, в этом нельзя было отказать своему врагу, коего приходилось называть другом, служа ему верой и правдой, чтобы уцелеть и после его смерти занять его место.
Он по-рысьи ненавидел Сталина за спокойствие, за уверенность, пускай внешние только, пускай выработанные, – за качества, так недоступные самому Берии, всегда нервически возбужденному, хотя он и пытался прикрыть это маскою самообладания.
Словом, Берия ненавидел Сталина – и сейчас, в последние минуты, мог думать лишь о нем, уже несуществующем.
Гибель других вовсе не волновала Берию, он привык и смертям не придавал значения, как не задумывается никто над комаром, прихлопнутым ладонью. Сталина же Берия ненавидел и конца его ждал с нетерпением, хотя ускорить боялся или – не мог.
Быть может, именно это – невозможность отправить на тот свет ненавистного – более всего терзало Берию, который был почти всемогущ. Истинно же всемогущим был только Он, а власть Берии перед Его властью была игрушкой – так, по крайней мере, казалось Берии.
Он помнил, какой сдавленный смешок едва не вырвался у него из горла, когда новый помощник Сталина (преданного ему Поскребышева вождь недавно прогнал – всюду мерещилась измена) позвонил из Кунцева и сказал: немедленно приезжайте. И тихо прибавил, что – беда… Берия торопился, его как бы приподнимала радость, его переполнял восторг, неохватный и сладостный, как и ненависть: все, конец, умирает, умрет, сдохнет, и теперь пойдет так, как планировал он, Лаврентий Берия.
Он мчался в Кунцево, мчался, чтобы опередить других верных соратников, чтобы раньше, нежели явятся они, вынудить Сталина, почти наверняка беспомощного, если еще жив, произнести при них так необходимые Берии слова завещания.
Мелькали площади, улицы, перекрестки, фасады, брандмауэры, и виделись Берии собственные бесчисленные портреты и транспаранты с его, Берии, именем. Он видел себя на трибуне Мавзолея – одного, без свиты, теперь спокойного, уверенного – и слышал как бы извне собственную речь. Составлена речь была давно, Берия называл ее тронной, и в том была правда, потому что именно самодержцем видел он себя, властным, не скованным даже формальными рамками демократии.
В недоступном, тщательно скрытом сейфе покоились загодя подписанные документы – новое правительство, марионеточное, безгласное; впрочем, разве бывают правительства, не безропотные перед Диктатором? И состав руководителей партии. Берия не собирался разогнать партию – зачем, пускай себе значится, пускай тешатся дураки… Робкие, безмолвные, безликие значились в его списках. Те, кто не был трусом и жополизом, состояли в других реестрах, в реестрах обреченных.
«Котята, слепые вы котята, как вы без меня?» – сказал однажды Сталин. И чуть ли не впервые Берия согласился искренне: да, котята. Болтуны. Словоблуды. Незадачливые заговорщики, способные лишь в дачных перелесках шушукаться о свержении Хозяина… Дерьмо. Он их мигом раздавит, он, Берия, и сумеет – уже посмертно – очернить в глазах людей, этих самых людишек, возвышенно именуемых народом. Он даст им хлеб – накупит за океаном. Он даст им зрелища – какие угодно: голые бабы на сценах, блуд на киноэкранах, кабаки, бардаки, факельные шествия, мордобой на цирковых аренах, бесплатный футбол, дешевая водка. Он внушит, что политика его подлинно демократична, и не Диктатором, а благодетелем предстанет он перед безмозглой, доверчивой толпой.
Черный «кадиллак», мощно бронированный изнутри, сопровождаемый двумя такими же, неотличимыми, летел по Москве зеленой улицей. Берия торопил шофера-подполковника, тыча в бок, словно извозчика.
И все-таки опоздал. У постели скорбно восседали они, верные соратники. Сталин лежал – белый, рыхлый, с резко заметными оспинами, грудь не дышала, глаза неплотно прикрыты…
А через несколько дней Берия стоял на трибуне Мавзолея – пока еще не в горделивом одиночестве, а рядышком с теми, кого именовал друзьями, глядел на гроб, поставленный у подножия, на человека, ненавистного и грозного даже сейчас. Молотов плакал – может, искренне, а возможно, актерскими слезами, думал Берия, не веря никому. Погодите, скоро вы еще не так поплачете у меня…
Время, казалось, настало, верные войска МВД стягивались к Москве, ждали приказа на окраинах. Операцию он сам продумал до мелочей. Слепые щенки даже не подозревали, что завтра будут покойниками. А если и подозревали – не все ли равно, так и так близок их смертный час.
Берия видел, суетливо расхаживая, стволы орудий, наведенные на Кремль; башни танков, повернутые туда, где заседал Президиум ЦК – организация, что завтра станет наполовину мертвой, наполовину бессильной; видел торжественный марш войск в чекистских погонах; слышал радостные клики толпы…
Он видел, как трусливо сожмутся они, верные соратники, послушно взденут руки, голосуя за вверение верховной власти ему, Лаврентию Берии, как польются верноподданнические речи – у них немалый опыт словоблудия, и тексты не потребуется заново сочинять, достаточно переменить имя Вождя…
Они перехитрили… Позвонили, пригласили на очередной Президиум и там, едва вошел, из-за тяжеленной створки двери, открываемой внутрь, вывернулся кто-то, заломил ему руки, тренированно извлек из его, Берии, галифе пистолет, и, поняв – конец, Берия с ужасом и стыдом ощутил: случилось то, что деликатно именуется медвежьей болезнью. И они, за длинным столом, унюхали; кто-то брезгливо бросил: «Уберите этого дристуна…»
…Берию вели на расстрел.
Он шел по гулким пустым коридорам, норовя, чтобы охранник не ступил сапогом на его распластанную тень.
Он шел спокойно – вовсе не потому, что отличался мужеством или не обладал естественным инстинктом самосохранения. Просто он привык видеть смерть, она давно перестала пугать и даже волновать, Берия словно забыл, что такое она. И еще он привык видеть себя далеко-далеко наверху и сейчас не представлял себе, что и его могут расстрелять, хотя умом и понимал это.
Сколько раз видывал он расстрелы – начисто лишенные трагической романтики расстрелов минувших времен. Никаких опереточных солдатских шеренг. Никаких ровно вскинутых винтовок. Никаких торжественных оглашений приговоров. Никаких слюнтяйских обращений к осужденному с предложением сказать слово перед казнью… Все просто, деловито, без эффектных поз у стены, повязок на глаза, прочей мишуры. Все просто, деловито – будничную процедуру отработал он сам, Берия, Осужденного ставят на колени, и тот, чья очередь сегодня – а все офицеры пониже рангом отбывали эту очередь, некоторые и опережая срок: за приведение приговора в исполнение полагался стакан неразведенного спирта и суточный отгул, – пускает в ложбинку на затылке пулю из малокалиберного, чтобы не слышно звука, пистолета. Один выстрел. Один слабый щелчок.
Лишь немногие – да, совсем немногие – в последние мгновения теряли самообладание, превращались либо в закоченелых, либо ватных. Таких волокли, сгибали, ставили на колени, случалось – стреляли в лежачих. Таких были единицы. Берия презирал их, но и радовался, как его кадры умели довести до подобного состояния этих бывших деятелей. Но большинство смотрели в упор. Большинство, прежде чем – повинуясь приказу, иногда насилию – стать на колени, успевали еще выкрикнуть в лицо палачам…
«Да здравствует партия!» – возглашали они, но партия – отвлеченное понятие, символ, она не может здравствовать.
«Слава Сталину!» – а Берия думал: глупцы, это же он приказал… И с наслаждением наблюдал, как выстрелом обрывало звук ненавистного ему имени.
«Фашисты!» – выплевывали они, но термины относительны, и слишком большое значение придают люди словам-символам, словам-ярлыкам… Фашизм, коммунизм, партия – пустые слова, думал Берия. Есть власть и есть те, кто повинуется власти, только и всего.
Никаким словам не суждено быть услышанными отсюда, в последние минуты пускай орут, что им заблагорассудится…
Последний коридор кончился.
Что ж, все на свете кончается рано или поздно, подумал он и почувствовал гордость оттого, что не было страха и думалось об отвлеченном – не о себе.
Теперь он стоял – по-прежнему спокойно – посреди комнаты, озаренной голыми лампами, короткая тень жестко лежала на полу.
– Три шага вперед, – приказал татарского обличил незнакомый полковник, и Берия в ярости – какой-то полковник, да еще татарин, осмеливается приказывать ему, Первому Заместителю Председателя Совета Министров, члену Президиума ЦК, Маршалу (он забыл, что лишился всех этих титулов), завтрашнему Диктатору (и про то, что никакого завтра не будет), – противясь невозможности не повиноваться, Берия сделал три прочных шага.
Цирк, подумал он. Спектакль. И такое бывало в этих стенах. Бред. Чушь. Комедия. Здесь, на Лубянке, остались верные товарищи. Сейчас они войдут, могущественные генералы, и…
– За тяжкие преступления против народа и партии вы приговорены к расстрелу, – старательно, с легким акцентом объявил полковник. – Вы желаете сказать что-либо? Здесь присутствует прокурор. Приговор сейчас будет приведен в исполнение.
Сколько раз слышал Берия эти слова – об исполнении, но сейчас они относились к нему, они были невероятны. Ноги перестали держать туловище, он упал на колени, почувствовал гуталинный запах от сапог полковника. Тот, должно быть, решил, что Берия добровольно встал на колени, дабы удобнее было его расстрелять.
– Встаньте… – сказал он тихо.
Но Берия не поднимался, он полз по шершавым каменным плитам и выл, выл громко и страшно и обрывчато думал: может, порядки завели другие и в коленопреклоненных, просящих пощады не стреляют и он будет жить, пока так стоит, на коленях, он будет жить еще хотя бы несколько минут, секунд, мгновений… Вдруг они успеют, его подчиненные, его товарищи…
Его подхватили под руки – не опустить, как делали обычно, чтобы поставить на колени, а поднять, – и Берия трудно выпрямился, ненавидя татарина полковника и того, мертвого. И еще он увидел перед собою – как наяву – начисто лысый череп, круглое, в родинках, улыбчатое, а тогда перекошенное злобой лицо и подумал, что его-то даже возненавидеть не успел, так стремительно произошли события.
– Привести приговор в исполнение, – приказал полковник, и Берия услышал три шага. Три громких шага к нему.
Он ощутил – сзади, чуть снизу – касание тонкого ствола к голове и, прежде чем горячий толчок опрокинул навзничь, успел выкрикнуть бессмысленное и грязное…
2
Берию убили так.
Позвонил помощник Хрущева (после смерти Сталина Никита фактически занимал должность Первого секретаря ЦК, хотя официально стал носить этот титул с сентября 1953 года), кратко доложил: в полдень заседание Президиума ЦК. Берия выругался: порядочки завели, без предупреждения, без предварительного согласования. Хрен с вами, вот-вот все пойдет иначе, плевал я на ваши Президиумы да Советы.
Не здороваясь, пересек приемную, глянул мельком на стол, куда при мертвом полагалось выкладывать личное оружие, полагалось всем, кроме Берии. Одинаковые вороненые немецкие «вальтеры» чинно, рядочком лежали там. Он ощутил в заднем кармане галифе – свой, непохожий, никелированный, по спецзаказу. Властно распахнул дубовую дверь, она открывалась внутрь кабинета. Успел удивиться: похоже, за длинным столом восседали уже все до единого.
И тотчас тяжелое, жаркое навалилось, заломило руки Берии за спину, знакомо щелкнули замки наручников. Усердным пинком вышибло почти на середину комнаты. «Туда его, туда, засранца!» – перекошенным ртом заорал Хрущев; тот, кто заламывал руки, ухватил, как мальчишку, за шиворот маршальского мундира, поволок в боковушку, где прежде Сталин отдыхал накоротке или беседовал с особо приближенными. Теперь Берия видел: тот, кто схватил его, – генерал Москаленко. Выскочка, тля, шавка, подумал Берия.
Там, в боковушке, Москаленко захлопнул дверь, приказал стать лицом к стене и не шевелиться, вытащил из брючного кармана Берии щегольской пистолет. В отполированной панели Берия видел: у Москаленко – автомат «на ремень». Чурка с глазами, подумал Берия, трус поганый, ведь я в наручниках, да и куда я денусь теперь.
Дверь открылась, на панели возник светлый прямоугольник, они появились друг за другом, и даже по отражению в панели – без пенсне, сшибленного Москаленко – Берия узнавал каждого. Москаленко скомандовал: «Кру-гом!» И повторил, видя, что не понят: «Берия, тебе сказано – кру-гом!»
Они стояли почти ровной шеренгой – подтянутый, при мундире Ворошилов; нервно вздрагивающий Молотов; кубастенький пухлолицый Маленков; осклабленный Каганович; извечный жополиз Шверник и прочие; Берия ненавидел их, равно каждого, ненависть и жуть переполняли его, хотелось выть, кинуться в открытое окошко, нет, бить по башкам наручниками; ему хотелось пасть на колени, проклинать и грозить, умолять о снисхождении. Он стоял молча, и безмолвно стояли они. Хрущев протянул руку, Москаленко шагнул навстречу – три громких шага – и передал Никите автомат. Черная жуть заливала глаза, охватывала тело, и через черную черноту, через туманную близорукость Берия видел, как Никита неуклюже прицелился и по-дурацки повел стволом не справа налево, как полагается, а наоборот; первые пули шарахнули сбоку, раздирая панель мореного полированного дуба, и Берия рухнул, не ощутив горячего удара, – он умер прежде, чем неумелая, дурацкая очередь достигла его. За окном рокотали двигатели мощных грузовиков, заглушая стрельбу…
3
Берию везли на смерть.
Его везли – в танке, он впервые ехал в танке и еще не ведал, что едет в последний, вообще в последний раз едет он.
Он – в наручниках – оказался еще и прикручен к сиденью, холодному и жесткому. На месте механика-водителя шуровал рычагами могутный майор, и двое майоров по бокам, а еще один – сверху, из башни, бдительно держали связанного, скованного Берию под стволами пистолетов. Идиоты, думал он, трусы, думал он – не про майоров, про тех… Сковали, связали, из танка не выпрыгнешь, а если даже и выпрыгнешь… И все-таки еще – под пистолетами. Трусы, шавки, думал он про тех.
Сперва он растерялся, и только. Вроде никто, кроме адъютанта и тех, кому адъютант передал распоряжение, знать не мог о его намерениях в этот вечер.
Измотанный приготовлениями, подготовкой к тому, что предстояло завтра, он решил, наконец, отвлечься, сказал адъютанту: поедем в Большой. Добавил: охраны не надо, переоденусь в штатское, машина – обычная, без правительственных номеров. В охране тут не было смысла, знал он: в Большом театре служили и ответственные за безопасность вождей.
Спектакль – он знал – задержат на пять – десять минут, дабы публика заняла места; сквер перед театром оцепят, главный вход перекроют; он войдет боковым, актерским входом, где шпалерами выстроится особый взвод – одни офицеры МВД, ради пристойности переодетые в форму рядовых милиционеров. Директор, безмолвно трепеща, сопроводит в боковую правительственную ложу, где в предбаннике приготовлен столик с коньяком и прочим, почтительно придвинет кресло, незаметное из уже притемненного зала, попросит разрешения удалиться. Адъютант останется в предбаннике, кобура с пистолетом сдвинута на живот. И тотчас поднимется занавес, грянет увертюра.






