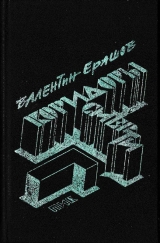
Текст книги "Коридоры смерти. Рассказы"
Автор книги: Валентин Ерашов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Конец сороковых[1]1
Рассказ публикуется в авторской редакции.
[Закрыть]…
Он пробуждается от оголтелого рева. Ржавый гриб содрогается в усердии, а нутро часов урчит глухо и болестно. Не отмежая век, хозяин нажимает кнопку, дряхлый будильник сопит, как приголубленный пес.
Конечно, и жена слышит, но вставать не полагает надобным – не по скудости душевной, а по трезвому разумению: маковой росинки не примет спросыпу, на труды же праведные собраться проще простого, тут подмоги не требуется.
Тягостно во рту, рваный кашель утомляет легкие, голова обременена мутным. Тянет руку, берет слаженную вечером самокрутку – осталась одна из десятка, остальные потратил за ночь. Приобадривает себя обманным никотином.
Думает он пока – о повседневном – и радуется тому. Размышления придут позже и не отпустят надолго.
Сухое и вялое тело противится, не желает разлучаться с постелью, обволакиваться едким холодом. Он понукает свое тело, и, еще поскулив, оно высвобождает кровать.
Светом себя не балует, не желая обидеть беспокойством жену, та придремывает на ухабистой кушетке. В качком тумане-сумраке впяливает ноги в штаны, облекает верх тулова трудовой рубахой, сбивчиво навертывает портянки, угревает валенками ступни.
Дворники по нынешним временам – люди, осененные счастием: заступив в должность, разом обретают жилище, притом не в отдалении от пределов забот своих, а на вверенной раченью территории. В предыдущей жизни он владел коридорным тупиком за неуверенной фанерной стенкой, в уютной и духовитой приближенности к общему туалету. Ныне обитают в сводчатой палате – ход четыре ступеньки вниз – и особым даже помещением, поименованным трапезной. Дворников надобно уважать и беречь, они – люди полезные.
Растирает холодное мыло по игольчатой коже, освежает прокуренный рот, оглаживает недобитую временем шевелюру. Гремит – алкая чуда – пыльными тремя бутылками. Чудесами его редко изумляла жизнь, склянки даже запахом сухи.
Кожушок обнимает вялое тело, брезентовая солдатская подпруга отчасти прямит позвоночник. Траченный старостью шарф делает вид, будто притепливает шею и грудь. Клочкастый малахай, голицы за поясом.
Орудия – ему вподстать – бесхитростные: деревянная лопата, метла на ухватистом держаке, совок, гудкая пешня.
Сирый фонарь – видом как ночная посудина – мотается у дверей, то сдлиняя, то укорачивая на снегу желтую проплешину. Отзывчивый на звуки двор сейчас немой, а стены слепые. Ночью пуржило, у каждого крыльца намет, вчерашние тропинки еле обозначены. Требуется подналечь, к восьми сотворить дела здесь, а к девяти – у парадного, чтобы после для блезиру шоркать метлою и ждать, пока появятся жаждущие славы, гонораров, общения со жрецами литературного храма сего.
И он восходил на заветные эти ступени лет этак тридцать назад. Легко нес пустое брюхо, сворачивал ноздри вбок от нектарного запаха жаренных вроде на мазуте пирожков, с почтением озирая озабоченные лики бегущих в столовку хлебать пшенку с плоской рыжей селедкой. Храму он поклонялся каждый понедельник, неся в жертву новый рассказ: листки оберточной бумаги плотно утыканы буквами, убережены дурацкой, величиной с газетину старорежимной папкой на витом шнуре и с тиснением на заграничном языке: Müsik. Двое авгуров священнодействовали за обшарпанными столами: один молодой, глупый я добрый, второй – старый, злой и умный. Принимали у него листки, с возвратом прошлонедельных, молча хохотали вослед, это понимала спина. А через новые семь дней он опять удалялся с облепленной хохотом спиной и хрустким песком на зубах.
Сочинял он тогда скоро, незадумчиво и плохо, как почти любой в телячьем безоглядном возрасте, когда единого солнечного блика предостаточно для бесшабашной радости, когда кочкою видится неодолимая гора, плевой лужей – океан, бессчетными – годы собственной жизни, а взъяренный Геркулес – глиняным Големом. Скверно писал, больно уж лихо, гладко и упоенно, и однажды старый авгур вместо известного «не пойдет» – обратился в пифию, ударился в прорицательство, где сыскалось место и цитатам из классиков, и умелым доказательствам, и увещеваньям, и раздражению, и соболезнованиям в смысле загубленного понапрасну времени. «Ладно», – сказал он авгуру. «Больше не приду – год», – посулил он с порога.
Ветер не убаюкался, бродит сонливо по двору, охапками таскает снег с места на место. Если через полчаса не затишится – к девяти не сладить, тогда нужда прикует к парадному – стынуть, выжидать, покуда гении, графоманы и таланты, чудаки да бессребреники станут поодиночке возвращаться – кто в ликовании, кто удрученный; от каждого предвидится в этих разах некий прок.
Намело невпроворот, лопата гнется от натуги, похрустывают несильные косточки. Пятьдесят два – не старость, да и не молодость, однако. В том ли, впрочем, суть… Про себя он ведает доподлинно: жить осталось ему год, ну два. И не болести, не износ тела причиной, а душевная исчерпанность. Страху не видит в том нимало: пожил, отжил, отойдет, как и всякий. Чем скорее – тем лучше, хватит обременять собою землю, и без того иззабоченную вдосталь.
Гудкой пешнею скалывает стылую мочу. Ну и люди – орошают крыльцо, а сортир – эвон, рядышком. Да еще какой – ампирный, с колоннами не то ионического, не то дорического ордера, с полукруглыми ступенями под мрамор. Взлет архитектурной мысли конца сороковых годов двадцатого столетия. Великая новостройка.
Шедевр неведомого зодчего изнутри озаряется, это приволокся на истоптанных шагалках Аверьяныч, коллега, сейчас вылезет из памятника эпохи, кликнет на перекур, на изначальный обмен мнениями. Пора и закурить, оно верно.
– Хорошо ли ночевал, Федосей Прокофьич? – каждоутрешними словами ведет зачин смотритель зодческого уникума.
– Обыкновенно, старина, – отлукавливается Федосей. – У тебя найдется, слушай?
– Зайди, – отлукавливается и тот. – Погрей телу в духмяном пару.
В закутке у Аверьяныча – прелестный ажур. Сияет кафель, изукрашенный переводными картинками младенческого свойства, блестят влажные метлахские плитки, чистая клеенка на столе, булькает чайник-торопыга. Выстроены по ранжиру щетки, палки с намотанными ветошками. На полке припасены флакон одеколону, пульверизатор, веничек-опахалка, гуталин, бархотка, жестяной короб для безгрешной мзды. Шурша, вертится вентилятор, но все равно густо воняет аммиаком, прелыми опилками, тряпьем.
– Говнецом у тебя попахивает, друг мой, – говорит Федосей Прокофьевич. – Да-с, говнецом.
– Не пекарня, не пирогами же… Почаще заглядывай, дак и принюхаешься, – советует Аверьяныч. – И мне-то поперву тошно было, а в теперешние времена атрофировался нюх. А говном – так оно везде несет, смотря только что каким.
– Атрофировался, говоришь… Ученый стал, времени у тебя лишнего много, производственная нагрузка твоя неполная, вот в райкомхоз стукну, он тебе по совместительству и дамское отделение вручит, книжками поменьше баловаться будешь. Чтенье, брат, к добру не приводит, от него, замечено, иные умней делаются… Хватит лясы-балясы вытворять, гони запас.
– Есть немного, – признается Аверьяныч. – Поправим шаткое разновесье и силы для подвигов укрепим.
Федосей Прокофьевич трясет мятую фляжку, на звук определяет!
– Полтораста. Шут с ним, скоро добавим.
– Тебе хорошо, – Аверьяныч завидует. – Твоя работа улошная, на виду, а мне тут киснуть в одиночку.
– Не беднись, не беднись, – укоряет Федосей Прокофьевич. – Звонкой монетой в лапу берешь, а я только натурой. Ну вздрогнули…
Закусывают утомленной, с ростком луковицей, молча дымят.
– Опять полночи будешь сочинять? – интересуется Аверьяныч. – На хрен тебе, ведь на любую руку мастак, шел бы водопроводчиком вон в контору, побольше навару бы имел.
– Навару-то побольше, – соглашается Федосей Прокофьевич. – Только, брат, литература – она вроде водочки, уж кто приник, тот не отстанет…
Глядит на прыткие ходики с кошачьей мордахой и шастающими при движении маятника глазами.
– Ишь, восемь… Открывай дворец, лорд-хранитель общественной сральни. А я пошел очеловечивать себя трудом.
– Заходь, – приглашает Аверьяныч. – Вот как ладно потолковали. Приятно.
Зыбкий сумрак не истаял еще, но почти все окна светятся, и на дорожках, заново припорошенных, видны первые следы, и свежие окурки валяются обочь. Федосей Прокофьевич их сгребает в совок и – себе в утеху – брюзжит.
Охаживает метлою главную магистраль – скоро прошествует непосредственное начальство – и при этом косится на окошко дворницкой. Оно мутно желтеет и, кажется, несильно сочится паром. Таниной тени Федосей Прокофьевич не видит, значит, жена сидит в драном кресле, утеплив себя одеялом, и либо читает, либо подперла щеки ладонями, думает и плачет – он ведь знает, как часто плачет Таня, оставаясь одна.
Сердце просится к ней, глаза, руки, все просится к Тане, однако уходить нельзя – надобно покончить со служебной канителью и выпить не меньше трехсот граммов, иначе до следующих, вечерних сумерек тоска задушит его, измотает, остервенит, а приняв дозу, он станет писать – печально и трудно – и лишь после второй приборки, может, налакается окончательно и будет за полночь сидеть в кухоньке-трапезной, размышлять о том, что мает его постоянно. Он ляжет поздно, и ему приснится рассказ – удивительный своей прозрачностью, простотой, точностью языка, изрядно лучше тех, что написаны, право, многие недурно. Рассказ приснится и забудется мигом, едва откроет глаза, чтобы взять загодя скрученную цигарку. Сколько раз велел себе – у изголовья класть карандаш, бумагу, электрический фонарик, записывать пробудившись. Но рассказы улетучивались и не вспоминались, на их место приходили другие, чтобы тоже выветриться, кануть не родившись.
Или ночь пройдет иначе – не в прерывистой и тягостной дреме, прерываемой куреньем, – а в бодрствовании, печальном, угнетающем, горделивом, – все вместе.
Тогда он выволочет на кухню папки, связки, просто страницы, обернутые ломкими газетными листами, разложит, подобно пасьянсу, на полу, на подоконнике, на скобленом столе, возьмется прикидывать – мучительной долго, – какие бы вещи отобрал, случись-таки немыслимое чудо и предложи ему сумасбродный, а то и смелый издатель выпустить трехтомник, нет, пускай два тома, или, согласен, единственный кирпичик избранного, да так, что составлять доверят – ему: давай самое дорогое, самое твое…
Он, тешась воображенным чудом, будет ночью прикидывать и так, и этак, вчитываться в знакомые строки, радоваться неожиданной мысли, естественному слову, обнаженной правде, запечатленной им, ставить на полях вопросительные знаки, отчеркивать – волнисто – неладные фразы, примерять, как бы теперь сказал иначе; придумывать заглавие этой предсмертной книги, набрасывать, неумело и коряво, начертание шрифта для переплета и даже рисунок форзаца… А после, хлебнув слегка из прибереженного на утро, прокрадется в комнатенку, вынесет раздрызганную тарахтелку – другую, Танину, отлаженную, берегут – и примется в десятый, в двадцатый раз перестукивать какой-то из рассказов, не основательной уже переделки ради (написанное почти немыслимо крутить наизворот), а единых слов исправления для: ведь каждое слово звучит само по себе, и любое неладное сочетание или созвучие может загубить страницу, и не смеет художник успокаиваться, сколько бы ни касался он содеянного им… И почти наверняка придет в голову счастливая деталь, и что-то захочется выкинуть, ужать, радуясь: не по редакторскому высокому велению, по доброй воле отсекает лишнее…
А то полистает он книги – тощие и пухлые (тощих – поболе), любимые и те, что стали почти безразличными, отчужденные или рождающие тайную, даже Татьяне не высказанную радость и горделивость, – в общем, свои книги. Не так их уж мало, чтобы терзаться мыслями о бесплодно пройденной жизни, однако и не столь много для уверенности в том, будто сумел выразить, высказать себя до конца, до той степени обнаженности, полноты самовыражения, какая под силу только истинному художнику, что не таит от людей ни малой малости. А главное – и не в том, много ли, мало напечатал книг, но в том, что лучшее лежит в загашнике и так останется лежать, покуда жива Таня, после же…
Или откроет в коричневой обложке тетрадку, там с давних пор и выписки, и собственные заметки, там и стихи, вроде этих, сочиненных такою же хмельноватой, печальной и горделивой ночью:
– Почему спиваются поэты?
– Почему стреляются поэты?
Да меня ли спрашивать об этом!
Разве я вам что-нибудь скажу…
И не потому, что я скрываю,
Или вроде я не понимаю.
Может быть, я все и понимаю,
Так, как будто сам в гробу лежу.
Вовсе не спиваются поэты,
Вовсе не стреляются поэты:
Спаивают их и убивают —
Равнодушьем, ханжеством и злом.
Слушайте, не трогайте поэтов!
Слышите: не трогайте поэтов!
Не топчите сапогом рассветы,
Душу не топчите сапогом…
Вас лупцуют – а поэту больно,
Вас целуют – а поэту больно,
Вас накормят – вот вы и довольны,
А поэту больно все равно.
Потому что, когда вас лупцуют,
Потому что, когда вас целуют,
Кормят, одевают и балуют,
За конфету выдают говно, —
Нет, они тогда не спят, поэты,
И говно не числят за конфеты,
Фейерверк не примут за ракеты…
Это им, поэтам, не дано!
Пусть они спиваются, поэты,
Пусть они стреляются, поэты:
После них останутся рассветы…
Впрочем, разве вам – не все равно?
И горькие прочитает слова, оброненные Юрием Олешей – тоже, скорей всего, во хмелю: «Я был один, один в мире. Я и сейчас один… Все хорошо… Скоро я буду черепом…»
И тетрадку ту полистав, согрешит он допрежь времени: выдует припасенное к утру, на подношение приятельское уповая, и ляжет, обслюнив самокрутки впрок, и будет глядеть в черный, дымный настил потолка, и думать о том же самом, пока не забудется в зыбком, прерывчатом полусне…
Так прикидывает он, шоркая в меру старательной метлою по главной магистрали. Хороша работка выдалась – думать не мешает, и денег платят хоть сколько-то, и квартира, вишь, выпала, с трапезной даже… А Татьяну вот поперли с издательской нивы, хотя была всего-то машинистка, добывала хлеб насущный перепечаткою на дому, однако теперь и того нет, заказчики былые отшатнулись…
– Приветствую, – раздается небрежный тенорок, и Федосей Прокофьевич, обернувшись, кивает.
Шустрик-управдом подкатился по тропинке, он в долгополом пальто с каракулем и – подобье воротнику – серой каракулевой шапке-нэпманке; он притормозил деловитую рысцу и топчется рядом. Его всегда – это Федосей Прокофьевич преотлично понимает – бесит, как дворник отвечает на приветствие, но заставить здороваться иначе управдом не в силах и оттого злобится еще лютей.
– Опять у ворот хламно, – стрекочет он и буравит востренькими поросячьими глазками-гляделками.
– Только что убрал, – отвечает Федосей Прокофьевич кратко и шерудит метлой.
– Это не книжечки тебе начиркивать, – втолковывает управдом дворниковой спине. – Хозяйство – оно требует внимания и рвенья, а то стучишь на своей таратайке, лучше бы лишний раз инструмент в руки взял.
Говорит, однако, не шибко уверенно: кто их знает, писак этих, настрочит еще в газету, не оберешься хлопот. Федосей Прокофьевич понимает опаску непосредственного начальства, в споры потому не встревает.
– Получка завтра, – упреждает шустрик, стараясь расковелить, вызвать на перебранку. – Гляди, с получки плепорцию соблюдай, не то вышибу.
Хорошо бы послать шустрика позаковыристей – и такой лексикон Федосею Прокофьевичу знаком во всем величии. Но каждого хама, дурака и подлеца не перематеришь, ни сил, ни слов не достанет. Да и вышибить может, а кормиться-то надо… Литература ведь редко питала служителей своих, а таких, как он, – особенно.
Дворницкое дело надежнее: твердое жалованье, бесплатная квартира, еще кое-что…
Он идет, как велено шустриком, к воротам, сгребает свежие обрывки, папиросные пачки, подбирает две недавние бутылки – сгодятся под самый уж крайний случай на пивко, Федосей Прокофьевич хоронит их в ящик с пожарным инвентарем.
На улице снегу меньше, ветер там не хулиганил, а подметал, и остается лишь, помахивая нешироко метлою, расчистить подход к парадному. Понемногу светает, сейчас погасят фонари, понемногу заглохнут окна, в казенных же домах, наоборот, они загораются одно за другим. Светится и то, почти лет тридцать знакомое, где восседали некогда молодой и старый авгуры.
Их, авгуров, навестил он, как и посулил, ровно год спустя.
Правильно, что не послушал их, не спалил рукописи, не сломал перья и не стал нудиться в непризнанных гениях. Был тогда, слава богу, не женат и здоров, как боксер, по-молодому самоуверен и способен голодать; мог запросто не спать ночь, а в следующую – прикорнуть часок-другой. Умел, обходясь без машинки, ученической вставочкой исписывать по тридцать страниц в сутки – оставались после две-три, правил себя нещадно и снова правил, оставляя одну. Мог не стыдиться щеголять в драных штанах, раззявистых по-щучьи башмаках. Тогда он все мог и через год, тощий, торжествующий, напрочь уверовав в себя, выложил рукопись – тоже тощую – не авгурам, а самому Главному, тот глянул пренебрежительно, сказал, что на рецензию отправит, велел заглянуть месяца, ну, допустим, через три. «Нет, – отвечал он, радуясь наглости собственной, – вы прочтете лично и не через три месяца, послезавтра прочтете, и вам понравится, непременно, да!» – «Ну и гусь. – Главный изумленно хохотнул. – Любопытно. Ладно, послезавтра».
Двое суток маялся от угрызений – господи, наплел чепухи, навыпендривался, несчастный сосунок, щенок брехливый – и, когда настал срок, томился в приемной, не смея войти, пока Главный сам не появился из-за толстой двери, сказал: «А, чего ж сидишь тут, заходи, потолкуем». Оказалось, толковать, в общем, не о чем: Главный, слов не тратя, извлек длинную бумагу, сказал кратко, чтобы подписал, и Федосей, ничего не соображая в обалдении, подмахнул первый свой договор.
Деньги – аванс – выдали сразу, тогда времена шли неволокитные, шумел кутеж в нэпманском трактире: с шампанским, отведанным впервые, и черная икра, и уха тройная, архиерейская; были мальчики, алкающие дармовой жратвы и выпивки; были девочки, взыскующие платной любви; согбенная в подобострастии личность лакея; и после шампанского – раки в пиве, а затем, вовсе уж по-дурацки, пельмени, приперченные густо; и такси «рено» вдоль Тверской; и тупое, унизительное похмелье наутро; и снова пустой карман и сухари, наспех размоченные в сырой воде; и листы бумаги, туго утыканные буковками.
Книга объявилась быстро – издательские дела решали без особых затей, – и о сборничке, жиденьком, на скверной бумаге, прошумела негаданно печать. Главный позвал сам – прислал курьера, не как-нибудь, не хухры-мухры, – попросил новые рукописи, так оно и закрутилось: что ни год, новая книга, случалось, и две, а однажды три подряд; и деньги повалили, стало жить легко – так же легко, как писалось в щенячьи годы…
А вот нынешний Главный – пешим способом, оставил машину за углом – поигрывает в демократизм. Понятно: как и все в округе, он знает Федосея Прокофьевича, но – времена такие – предпочитает не останавливаться, кивает мельком, следует своим путем. И Федосей Прокофьевич кивает, орудуя для блезиру метлой.
Поспешает – Главному вдогон – Венедикт Илларионович, маститейший нынче критик, человек в фаворе. Теперь в маститые фавориты угодить нехитро: долбани газетным подвалом нескольких безродных космополитов, раскрой скобки, за псевдонимом фамилию доподлинную обнажив, объяви, что не только лампа накаливания, а и сам Эдисон изобретен в России – тут и слава тебе, и честь, и монета. Между прочим, и Федосею Прокофьевичу – на удивление – предлагали, припомнив, должно быть, некогда громкое имя его. Послал искусителей туда и растуда, пошел дожевывать корки. А многие усердствовали, но вот Венедикт Илларионович почти всех потрясением ошеломил: тиснул статейку, где втолковывал популярно, будто в жилах Гомера текла славянская кровь. Заодно при этом некоему, ну, допустим, Рабиновичу досталось; он утверждал зловредно, будто бы нынешняя прославленная эпопея про Кавалера Золотой Звезды не продолжает достойно славные традиции гомеровских творений… Венедикт Илларионович в бобры стал облачен, а прежде в пальтушке на рыбьем меху бегал… Федосей Прокофьевич на маститого фаворита глядит вприщур, тот силится не отворотить лик, однако не выдерживает.
Вот, наконец, и человек появился; Сашка-поэт. Пальто нараспах, кепка у затылка, руки в карманы фертом – значит, при определенных средствах, червонцев пять заимел, а то и сверх. Портрет в самый раз – не стерпел побриться, бедолага заскорузлый, потянуло на опохмел и душевный разговор, а может, и внутренняя рецензия обломится, за полсотни очередного графомана распнет и тяпнет в его же память пресветлую.
– Айда, Федосей, – зовет он, «здравствуй» не сказав, лишнее время зачем тратить.
С этим – ничего, можно. И не подлец, и не халтурщик. Печатать перестали – в рецензерство ударился, благо пока от этого не отлучили. Федосей Прокофьевич упирает лопату и метлу черенками в стенку, шаркает валенками вслед за Сашкой.
Забегаловка именуется, как положено по традиции, «Стойло Пегаса», официально же – «Буфет от столовой № 43». Там четыре столишки, изубоженные пятнистыми скатертями, прилавок в мокрых разводах, ведьма-торговка с подпольною кличкой Цензура. Она знает клиентов наперечет и, не спрашивая, плещет в липкие стаканы служебную норму, полтораста каждому, выставляет хреновский холодец на блюдечке.
– Дернули, – приглашает Сашка, водка булькает в горле, словно в раковину льет. Федосей же Прокофьевич благостыню принимает уважительно, поскольку неизвестно, перепадет ли сегодня еще.
– И все-таки, – без вступлений тотчас изрекает Сашка, – писателя деньги делают: больше платят – больше пишешь, аппетит во время еды…
– Писателя страданье делает, – отвечает Федосей Прокофьевич. – Писак богатых полно, а вот писателей – шиш.
– Будто сам отказывался от тугриков, – спорит Сашка. – Нету их нынче у тебя, вот и разводишь турусы. Гегельянец ты, подгоняешь действительность под схему.
– Помолчи, – говорит Федосей Прокофьевич без всякого зла. – Еще бы по сотне лучше взял, чем о литературе баять. Литературой заниматься надо, а не бухвостить про нее, поскольку она – дама сурьезная, понял?
– Понял, – соглашается пиит. – Денег нету, изопьем авансом, если Цензура дозволит.
Цензуру, однако, не обведешь, и, поторчав еще за слюнявым столиком в надежде на встречу с заимодавцем, выходят: Сашка в издательство, Федосей Прокофьевич додежуривать на виду – требуется еще одна служебная норма.
Если глянуть поверхностно, сегодня ему вроде бы счастливится: минут через пять из парадного выплывает сам Преуспевающий, так его кличут.
– Трясешься, старина? – снисходит Преуспевающий. – Морозец ныне, доложу тебе…
– Морозец, – подтверждает Федосей Прокофьевич. – Двадцать пять.
– Сделаем восемьдесят. – Преуспевающий смехом колышет пузо. – Примем ликерчику под заглавием «бенедиктин», шестьдесят градусов. В ресторации. Пустят тебя?
– Меня везде пускают, – говорит Федосей Прокофьевич. «Кроме издательств», – добавляет молча.
– Федосей, – извещает Преуспевающий, – калым сшибить желаешь? К семидесятилетию Хозяина сборник готовим, воспоминания нацменов каких-то. Подстрочник будет, ну, какой там подстрочник, сам понимаешь, лабуда в чистом виде, писать за них придется. Но – стерлинги!
– Чихал, – отвечает Федосей Прокофьевич.
– Идеалист потому что, – Преуспевающий похохатывает пузом, и Федосей Прокофьевич добавляет:
– И на твой бенедиктин чихал. По мне уж лучше мой идеализм, чем твой материализм.
– Но-но, – Преуспевающий отшарахивается. – Ты знай край, да не падай.
– Знаю край, – отвечает Федосей Прокофьевич. – На тебя замахиваюсь и тебе подобных. Шагай, мне тут мести надо. А насчет восьмидесяти градусов обойдусь…
Пустые эти слова он говорит – лишь бы позлить. Снова пуржит, голове полегчало-таки от Сашкиного доброхотного возлияния, но до рабочего состояния все же не хватает… Подождать еще? Подождать…
Ждать-то привык. Не печатают, в общем, с тридцать шестого, а сейчас вот сорок девятый на исходе.
Тогда в пух и прах разнесли его сатирическую повесть, чего только не плели! Клевета на Советскую родную власть, пасквиль на партию, плевок в душу народа, злобное тявканье отщепенца, очередное сочинение бездарного недоучки… Смолчал, не каялся, не лез в споры. Только старые вырезки разослал в газеты, где теперь обзывали, а еще недавно титуловали большевиком, хотя и без партийного билета, ярким дарованием и все такое прочее…
Посадить – не посадили отчего-то; слыхал, будто прежние книги его поминал без хулы Сам; но из квартиры в писательском доме пришлось выкидываться в коридорный закуток; пробавлялся рецензиями – под фальшивым именем, так приказали, мол, иначе не можем…
Война – в этом, понятно, смысле – облегчила немного: хоть в газетах, да шли очерки, подчас рассказы, ездил на фронт, по здоровью в армию не взяли, был корреспондентом в штатском одеянии – сулили даже выпустить книгу, как только позволят скудные бумажные фонды, и вновь кто-то искал дружбы, виноватясь хвостиком за прежнее; вроде бы все налаживалось. Но тут…
– Как изволите здравствовать, дорогой мой Федосей Прокофьевич?
– Наиотличнейше, уважаемый Влас Генрихович, – в лад отвечает он.
Проходящие, наверное, дивуются: задрипанный дворник ограбастывает этакого вроде господина, иначе и назвать не удумаешь – пирогом шапка, ворот шалью, боты на меху, очки в золоте и бородища лопатой.
Облобызавшись, переводят дух. Им кланяются. Правда, не каждый воздает уважение обоим, иные только Власу Генриховичу – он пока в чести, как был профессором, так и остался, руки до него, видать, не дошли пока.
– Отойдемте, голубчик, – зовет профессор-доктор и в нетерпении даже тянет легонько к подворотне. Там озирается, извлекает газету, показывает украдкою, спрашивает: – Читали?
– Удостоился, – говорит Федосей Прокофьевич. – На витрине возле кабака. Там этой писанине и место. Впрочем, теперь везде про одно талдычат, кабаков не хватит все развешивать.
– Ради бога, ради бога, голубчик! – взывает профессор.
– Знаете, Влас Генрихович, – ответствует дворник, – я свое отжил, отпил и, кажется, отписал… Нет, может, еще и не отпил все-таки, а остальное… Однако горжусь: врать не доводилось. Наверное, правду не всю говорил, но петлять не дозволял себе, извините, при любой погодушке. Вас – ценю, литературу вы знаете… А только – чего ж нам родную прессу в подворотнях разглядывать, вон она, в любом киоске, пучок – пятачок… Извините уж, Влас Генрихович, мне подобрать надо, там вон лошадь насрала…
– Простите великодушно, Федосей Прокофьевич, я, кажется, ослышался? – профессор-доктор изумлен до чрезвычайности. – Как вы изволили выразиться?
– Пардон, вы не ослышались, – говорит дворник. – Говорю: насрала коняга. А что касается этого… Ну, в газетах и всюду… Пройдет, уважаемый профессор. Когда-нибудь пройдет. Не знаю, когда. Вероятно, не скоро. А если даже скоро – то, думаю, повторится не раз… Будьте готовы! И счастливо здравствовать, Влас Генрихович.
Он поворачивается.
– Минуточку, дорогой мой, – окликает профессор. – Простите великодушно за неделикатность: не могу ли я… оказаться полезным, если вы… испытываете нужду?
Произносит это почему-то по-немецки.
И на том же языке Федосей Прокофьевич ответствует:
– Благодарю вас.
Добавляет – на родном наречье:
– Если по большой нужде приспичит – к Аверьянычу наведываюсь, во-он туда…
Показывает на сооружение в стиле ампир.
Выпить захотелось еще пуще, чем несколько минут назад.
– Послушайте, – говорит он тому, что появился из парадного (лицо знакомо, а кто – не сообразить: кажется, рукопись его рецензировал в прежние времена). – Очень требуются финансы. В сумме, равной стоимости чекушки.
– Да ради бога, – говорит тот, не удивляясь, – с превеликим удовольствием, Федосей Прокофьевич.
Сует в руку, пугливо спешит прочь. Дьявол с ним. Раз имя-отчество помнит, значит, впрямь из пишущей братии. Когда-нибудь и разочтутся, может. А что шарахнулся – так многие теперь ведь, если не большинство… Еще небось рад, что дешево откупился и не видел их вместе никто.
Считает деньги. Хватит на четыреста и даже закусить.
Нет, конечно, сделает по-другому.
– Двести, – приказывает Цензуре. И – почти величественно: – Пять… нет, шесть котлет.
Цензура оглядывает подозрительно, требует:
– Деньги.
– Вот, – отвечает он достойно. – И еще – конфеты. Пять штук. Шоколадные. Подороже.
Пьет, отойдя в сторонку, занюхивает корочкой. Серые котлеты заворачивает в газетный обрывышек. Знакомый набор фамилий мелькнул: …ич, …зон, …ман, – опять очередной фельетончик тиснули, не всех, видно, допекли.
Походка стала твердой, во рту хорошо, и голова пригодна к употреблению. Пешня полегчала, и мороз неощутим.
Сверточек с котлетами несет, как торт.
– Здравствуй, милая, – говорит Татьяне, и она гладит по мокрым седым волосам, спрашивает:
– Завтракать будем?
«Ты выпил и сможешь поесть?» – так надо понимать незатейливый подтекст каждоутрешнего привычного вопроса.
– Да, спасибо, – говорит он. – Разбогатели мы, прошу.
Котлеты сочинены из хлеба и приправлены какой-то невнятной требухой, они сальные, холодные. Татьяна пробует кусочек, хвалит: ой как вкусно.
Тогда он выгребает из кармана конфеты.
– Ух ты, – говорит Татьяна. – «Мишка косолапый»!
Достает картошку, прикутанную в одеяло. Льет в розетку постное масло, чтобы макать клубни. Тонко, будто в войну, режет хлеб.
Как в войну…
Едва отликовали Победу – еще сочились горячей болью намытаренные сердца, – опубликовал рассказ, должно быть, самый лучший свой, о том, как жестоко и страшно встретила мирная жизнь изломанного душою калеку.
Плакал, когда писал, и Татьяна плакала, когда перепечатывала, и даже редакторша, окинув рукопись наторелым взором, уцепилась и не отпускала, тут же прочла до конца, поцеловала в лоб, не сказав пустого слова.
…Нет, его не прорабатывали публично – шла полоса победных реляций, лихих комедий, звонких докладов, митингов, амнистий, критикой вслух пока не увлекались. Но где-то что-то сказано, должно быть, намекнуто, присоветовано кому-то и, когда сдал рукопись издателю, коий сулил соорудить книгу, – велели подождать. И в другом издательстве тоже, и повсюду затем просили ждать, отговариваясь чепухой. Еще некоторое время что-то силился понять, выспрашивал, звонил, ждал рецензий… А после – проверки лишь ради – молча, как во времена общения с авгурами, клал рукопись и молча забирал через неделю, выходил, и спина понимала: ему не хохочут вослед, но глядят настороженно, сочувственно, понимающе, презрительно, злобно, бессильно или насмешливо.
Уже взыграл нелепый, в общем, азарт: стал сдавать одну и ту же рукопись поочередно в разные журналы, подшивал в папку ответы. «Портфель заполнен на два года» (будто бы он требовал печатать немедленно). «Не хватает бумаги, объем ограничен» (на лихие славословия бумаги доставало). «Не подходит по нашему профилю» (интересно, какой у них профиль; все на одно лицо)… С другим рассказом выходило наоборот: где «не хватало» – оказывался теперь «иной профиль»… Коллекционировать писульки эти обрыдло, сбивать ботинки тоже… Оставил каждой рукописи по единственному экземпляру, переплел в ледерин, спалил прочие, надрался для почину и взялся пить.






