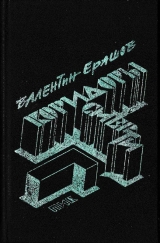
Текст книги "Коридоры смерти. Рассказы"
Автор книги: Валентин Ерашов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
– Лена, – сказал Елхов, – ты ради чего шебаршишь, знаешь ить, на полторы положено.
– И то, – согласилась она, – дак иде ж их взять, Игнат Семенович? Скажи, я возьму.
– Надо, Лена, – попросил тот. – У всех одна беда.
– Ты меня, Елхов, не уговаривай, – сказала она. – Помнишь, в тридцатые-то годы сама избачом была, сама такие дела проводила. А дать мне больше нечего, вот и весь тебе сказ. В тюрьму посодишь? Сажай, там пайку дают.
– Ладно, – сказал Елхов. – Значит, я за тебя добавлю. От ребяток своих оторву, а за тебя добавлю.
– Не добавишь, а коли впрямь надумал бы – мне милостыня не в надобность, – отрезала Лена. – Я сколько могу, столько и вношу государству от полной души, от пустого кошелька.
– Дак вить все одно уломаем, – честно посулил Елхов. – Ночь спать не будем, завтра цельный день с отказчицами долдонить станем, а всех на полную норму оформим, сама понимаешь.
– Попробуй, товарищ Елхов, – сказала Лена. – Поглядим. А покуда – бери наличными, вишь, вношу добровольно.
– Свободна пока, – разрешил Елхов. – К твоему вопросу мы еще вернемся. Свободная ты, Лена. Там, гляди, Никитишна рвется, аж пыль из-под копыт.
– Не баба, а конь с яйцами, – вразумил меня Елхов про Никитишну. – Не тушуйся, парень, она такое примется выкаблучивать, мне и то зазорно. Ты не смейся только да не покрасней, не то сразу поймет, сучонка, что ее взяла.
Определил я Никитишне лет этак тридцать пять и удивился, почему величают по батюшке, это привилегия пожилых. Никитишна выглядела хоть куда, вроде Евдокии-продавщицы: полномясая, розоволикая, нос как бы прятался между щек и глазёшки еле проглядывали.
– Цветешь, как майская роза, – определил Елхов почти одобрительно. – По скольки с вакуированных на базаре за яички-то лупишь? Глянь, морду-то нахряпала. Тебе сейчас мужика бы хорошего, не так бы ишшо расцвела.
– Это уж да, – согласилась Никитишна и уселась, не обдернув подол. – Тольки где ж его взять, не тебя же, сморчка, тебя и на свою бабу поди не хватат.
– Ты это брось, – Елхов обиделся. – С тобой и пошутить нельзя, в некультурность кидаешься. Давай ближе к делу. На сколь положено, знашь?
– Говорили бабы, как не знать, – откликнулась Никитишна. – На полторы тысчонки. А че, бери, коли надо.
– Молодчага, – сказал Елхов, заметно удивляясь и подмаргивая мне, потянулся к чернильнице. – Молодчага ты, Никитишна, – повторил он, волыня, видно, для всякого случая. – А я-то, грешным делом, про тебя неладно подумал и представителю, вишь, сказал, а ты, глянь, у нас передовик. Так писать, ага?
– А чё ж, – сказала Никитишна мирно. – Чё ж, пиши, писатель, ты грамотный. Пиши.
И она встала и неторопливо, будто собиралась в одиночестве на покой, взялась за подол и задрала юбку кверху, сказала ровненько:
– Стриги, дорогой председатель, и сдавай государству в счет первого взносу. Не боись, к зиме опять вырастут, новый взнос исделаю.
Я отвел глаза, меня осекло воспоминанием о сегодняшней ночи, об утре, а Елхов не дрогнул, он сказал:
– Эт-то я, душенька, в прошлом годе у тебя видал, нисколечки не переменилась твоя……. Кончай базар, иди к столу да расписывайся.
– Ха, вот те на! Даю натурой – бери, не хошь – тебе, дураку, плешь переедят, да вот этому, молодому-красивому. Поглядел? Не нравится? Тогда у своей лахудры гляди задарма.
– Ты мою жену трогать не смей! Катись отсюда! – заорал негаданно Елхов, мне показалось, не так уж он взбесился, напустил на себя, скорее, и, похоже, я угадал, потому что, когда остались вдвоем, Елхов заржал: – А ничегго бабец.
Он вздохнул.
– Помурыжит она, Барташов, нас, завтра полдня будем ее кино глядеть, помяни мое слово. Чё ж, поглядим. Ну ярар. Тут еще одна с пузом осталась, да Улька твоя напоследок.
Слово твоя Елхов не выделил, но я услышал явственно и теперь уж наверняка покраснел, хотелось уйти под любым предлогом, хотя бы до ветру, но дезертировать не годилось, пускай моя роль, как выяснилось, была тут совсем не из главных.
Ту, что с пузом, Елхов даже по имени-фамилии называть не стал, а ткнул пальцем в табуретку, чиркнул пером в усталой ведомости, распорядился:
– Ставь роспись.
– Не буду, – сразу откликнулась она. – На полторы и думать не моги, и не понужай. Не видишь, что ли, тяжелая, через месяц, опростаюсь, чем я дитенка прокормлю, твоими, что ли, облигациями?
– А где нагуляла? – вызверился Елхов. – Мужа нет, а брюха надутая?
– Твоя какая забота, – сказала женщина. – Не тебе приданое ладить да алименты платить.
– А такая моя забота, – вразумил Елхов, – что я есть председатель артели, отвечаю за твой полный аморальный облик. Не подпишешь – жениху твоему сообщу, какая ты обрисовалась курва.
– И то, – согласилась она. – Сообчи. И печать шлепни, скорей поверит, я ему писала, дак он все отнекивается, ври больше, он говорит.
– Точка! – Елхов шарахнул кулаком. – Нековды нам тут с вами, сучками, размудыхиваться, скоро сам товарищ Чурмантаев отчет стребовает. Пиши, сказано, и телись, сколь влезет, черт с тобой, хучь трех роди, мне дак насрать.
– Ори, орило, раз такой зевластый, – ответила она и двинулась к двери, Елхов позвал:
– Верк, послушай добром. Он еще, гляди, мертвый у тебя вылезет, че ж заране тревожиться про кормежку. Счас, кто запузател, многи мертвяков рожают, потому питания не та…
– Да ты ополоумел! – не помня себя, крикнул я Елхову, я впервые поднял голос, и председатель, изумившись, бормотнул невнятное, я позвал: – Вера, погодите, пожалуйста. Сколько можете, столько и согласитесь…
Опять мы остались с глазу на глаз, Елхов, покривись, облупал меня линялыми глазами, пригрозил:
– Учти, Барташов, о том райкому станет известно, как ты отсталому элементу потачку даешь… У нас народ такой…
Это почти совпадало со словами Чурмантаева, и я скукожился и смолк, дал зарок молчать – пускай и дальше распоряжается, расправляется Елхов, ему козыри в руки, ему отвечать, ведь мы проводим важнейшую политическую кампанию в помощь и фронту, и обороне страны, и здесь не место жалости, обывательскому слюнтяйству, всяким сентиментальным настроениям…
И тогда вплыла ночная Улька, она выступала павой, она почудилась мне красивей, чем утром, или я спьяну не разглядел ее как следует, она поздоровалась с Елховым и со мной тоже, как ни в чем не бывало, и я, по-дурацки заискивая, ответил:
– Здравствуйте.
Улька ощерилась еле заметно, скромненько притулилась на лавке возле простенка – и опять вел душеспасительную беседу Елхов, а я помалкивал, в данном случае имея к тому основания.
– На две тыщи тянешь, Ульяна, – прикинул Елхов, обозрев ее, будто самоё оценивал. – Постоялая изба, продукты для уполномоченных какие ни на есть, а выписываю со склада, и тут сама кормишься, и деньгу они тебе плотят и все такое прочее. Две тыщи с тебя.
– Ну-к что ж, – согласилась Улька, и заключалось в ее поспешности что-то неладное, и председатель загодя осатанел:
– Будешь, как та… Никитишна, свою……. показывать?
– Пошто? – лениво опровергнута Ульяна. – Ты частенько видал, он нонче тожеть испробовал. Давай, бери с меня же магарыч за мою обслугу, Елхов.
– Сильна, – Елхов озадачился, почесал затылок, поглядел на меня, а Улька сама потянулась к мятому листку, сотворила этакий с загогулиной росчерк, проткнула меня взором, объявила внятно:
– Говнюк ты.
«Как смеешь!» – хотелось мне завопить, но я удержался, за меня откликнулся Елхов:
– Язык у тебя, Улька, что коровье ботало. Дура ты, вот я как тебе объясняю.
– Може, дура, може, нет. – Улька засмеялась. – Подумаешь, общелкали, да плевала я на ваши две тыщи, у меня их на книжке, считай, сто лежит.
– А вот мы и проверим, – оправившись, пригрозил Елхов.
– Так и разбежался, – ответила Улька. – Тайна вкладов охраняется государством. Прощевайте, начальники. А спать его, – она показала на меня, – ты к своей бабе сёдни клади. Как вы сообча трудились на благо.
– Не тушуйся, – успокоил меня Елхов после. – По деревне трепать языком не станет.
Я не знал, куда мне деваться, никогда еще не испытывал такого липкого стыда, но что делать – только напускать удаль: дескать, нам не впервой… Так я и сыграл перед Елховым.
– Будем подбивать бабки, – оповестил председатель. – Остался ишшо Максим-хрен-Сергеич, наш уважаемый наркомфин, счетовод то исть. Этого я нарошно домой отпустил с утра, чтобы обедню не портил. Толковать с ним проку нет: скажет «пятьсот» и не отступится, хоть кол на башке, хоть убей. Его не припугнешь, помощником прокурора был, за взятки выперли, законы – все наперечет и досконально, говорить с ним – что против ветра струю пускать. Дьявол с ним, процентов двести тридцать к плану мы с тобой наколотим, на среднем уровне, в стахановцы не вылезти, деревня лесная, базар далеко. Будем считать, остались не охвачены трое: Сонька Реутова, Елена да Никитишна. Завтра их с утра примемся уделывать сурьезно, а пока на севодни – точка. Гляди, скоро шесть, на перекличку будут выволакивать. Рапортуй: одна баба осталась неохваченной.
– Врать не стану, – сказал я. – С какой радости? Завтра завершим и доложим честно.
– Гляди, с тебя спрос, – сказал, усмехаясь, Елхов. – Я-то вить так, доброволец-помощник. Только не вломил бы тебе Хозяин, другие-то врать ох как станут.
– А чего ж тут врать? – я удивился. – Из восемнадцати хозяйств четыре не охвачено, да и то, сам говоришь, счетовода можно считать подписанным, значит, всего трое, одна шестая часть.
– Так-то оно так, – промямлил Елхов. – Тебе виднее, инструктор, понужать не могу. Айда на крылечке подымим, воздухом подышим божьим.
С крыльца мы тотчас убрались – там еще палило – и сели на трухлявое бревно у ворот, в тенечке. Пыльная улица глядела пусто, и пусто, голодно зияли окна, и редкие дымки над трубами не пахли настоящей едой.
– Бедует народ, – высказывался Елхов. – Сам посуди: в сороковом и то за палочки работали, хреновая у нас почва, нам бы не хлебопашеством заняться, а промыслом каким ни на есть, да мужики-то и до войны еще разбеглись кто куда, кто помоложе да пошустрей, а прочих война умела всех. Да промыслом и не велят нам промышлять, хучь по камню, да сей… Жалко мне их, баб, троих тольки не жалею: продавщицу ту блядешку, да Никитишну, да вот Ульяну твою – подстилка для кажного, всё вкусу да выгоды ищет… Ну с Дуськой и Улькой управились… К Никитишне – мильтона завтра натравлю, будто имущество описывать, она еще раз ему свою кино покажет, а опосля дрогнет… Ленка, она грамотная, ее не обдуришь, я другим шугану: дров, мол, из лесу не дам, и лошадь не дам угород пахать, и с животноводства сыму, на поле кину, там и молочка не прихлебнешь, и на себе таскать борону станешь. Неохота мне Ленку стращать, да что поделаешь, Барташов… Вот с Сонькой, с Реутихой – беды, ребятишек у ней, слыхал, пять штук да мужик погибнул, и уж она сама такая баба трудящая, прям тебе обскажу, однако и ее надобно прижать, чтоб прочим неповадно. Я про медаль ей шарахну. Она хоть ту медальку двугривенным обзыват, а уж сама такая ей радая, такая радая, спасу нет. Прошлогод ей, ковды заём отрабатывали, посулил: отымем, дескать, медаль, аж самому Михал Иванычу товарищу Калинину отпишем прошение. Она знаешь как трухнула. И нынче согнется, я этот козырь напослед приберег. А жалко Соньку мне, честно тебе сказываю, парень.
Из оставленного нараспах окошка услышалось, как взыграл телефон. Елхов спешно поднялся, и я вскочил.
Древний аппарат, называемый «эриксон» – у отца был в кабинете такой, из когда-то полированного, а теперь похожего на пенек дерева, – нервно подрыгивал на стенке, я, опередив Елхова – меня ведь вызывают на перекличку, – сорвал трубку и принялся улавливать далекие голоса, перебитые шорохами, треском, писком.
Раздался голос Чурмантаева:
– Все у аппаратов? Перекличку начинаем. Вызываю по алфавиту населенных пунктов. Указания райкома – в конце. Алга, докладывай о результатах. Подготовиться – Байляры.
Я немного, если по-нашенски выразиться, отудобел: до меня далеко, Тимерган почти в конце списка, послушаю, что и как другие докладывают, сориентируюсь.
Алга докладывала чьим-то знакомым баском: сто процентов охвата, сумма – двести семьдесят процентов к плану.
– Якши, – похвалил Чурмантаев. – Мог и триста натянуть. Ну якщи. Давай Байляры.
– Двести семьдесят два процента. Полностью завершено, – сообщили Байляры, кажется, докладывала Нюра Тихановская, зав общим отделом РИКа.
– Хорош, – сказал Чурмантаев. И вдруг перескочил с алфавита ни с того, ни с сего: – Комсомол послушаем. Горбунов, ты где? Докладывай, парень.
– В Кичнарате, товарищ Чурмантаев, – отрапортовал Кеша. – Порядок. Сделали.
– Что значит – сделали? – рассердился первый и выругался по-татарски. – Кункретно, бит, давай.
– Триста двадцать восемь процентов, – торжествующе высказался Горбунов. – Сильно бились, но добились, Наиль Курбангалиевич.
Он вовсе ошалел от радости, забыл даже, что хозяев полагалось звать только по фамилии, так завел товарищ Сталин. Однако довольный Чурмантаев замечания не сделал.
– Молодец, Горбунов, хорошо, бит, парень, работаешь, – похвалил Чурмантаев. – Теперь твоего инструктора послушаем. Докладывай, Барташов. Вольный Тимерган, да?
У меня перехватило горло – я впервые был на телефонной перекличке, я медлил, Елхов подсунул бумажку, на ней скоренько выведено: «100 пр. 240 план». Я отодвинул писульку и сказал, окунаясь в неизбежность:
– Товарищ первый, секретарь, пока план идет на сто восемьдесят, из восемнадцати хозяйств не охвачено четыре…
Кто-то явственно хохотнул на телефонной линии, и грозовыми разрядами потрескивала трубка, и голос Чурмантаева показался мне гласом с небеси, это я сейчас определяю столь выспренне, а тогда я струсил и молчал.
– Аннан сыгаим! – выругался Чурмантаев, и женщины у аппаратов не воспротивились и не захихикали, – Пацан! – загремел Хозяин на весь район. – Пацан! Пуслали на свой шею. Елхова на провод!
– Елхов слушает! – отрапортовал мой председатель, и первый громыхнул:
– Райкум не спит сегодня, обкум не спит сегодня, туварищ Сталин, наверно, не спит, и вам не дрыхнуть, едри вашу в качель, чтуб утром всю расхлебать, пунятно? Район тормозите, область тормозите, вся страна подводите. С председателей летать хутел, Елхов? На фрунт захотел? Мы, бит, это тебе устроим, военком, слышишь?
– Слушаюсь, товарищ Чурмантаев, – лепетал Елхов. – Не поспим, конечно. Сделаем, конечно, товарищ первый секретарь…
– А этому пацану… – начал Чурмантаев, но удержался все-таки. – А инструктору райкомола ты, Елхов, помоги, ты человек зрелый, пускай и беспартийный большевик. А не сделаешь – бронь снимем, воевать пойдешь, Елхов. Понял, парень?
– Так точно, товарищ Чурмантаев, – говорил Елхов, зеленея. – Так точно…
– Валеево, докладывай, – перебил Хозяин. – Ага, слышу, двести шестьдесят. Кончай к утру. Следующий кто?
– Тебе хорошо, – сказал Елхов, когда перекличка наконец завершилась. – Молодой, неженатый, пойдешь, повоюешь, может, и возвернешься. А мне бронь как председателю, и жена хворая, и пацанвы полон двор. А ты и меня подвел, едрена корень.
Я смолчал. Я не жалел ни Елхова, ни его больную жену, ни тех бабенок, что у нас остались неохваченными, я думал только: ну как завтра покажусь в городе, ведь все районные работники, все председатели, совхозные директора, секретари партийных и комсомольских организаций слышали, как меня обозвал пацаном сам Первый, и как мне дальше жить и работать… А я-то, дурак, еще думал о повышении после того разговора с Хозяином…
Тусклела усеченная луна, Елхов смяк малость, успокоил – меня и, наверное, себя:
– Не вяньгай. Завтра выколотим. Придавлю, аж из-под ногтей брызнет. Айда пока к Стешке, дернем у нее и ко мне, спать, а как солнышко подымется, обладим.
– К утру велено доложить, – напомнил я.
– Ай, верно, – спохватился Елхов. – Ты посиди тут, я в Большой звякну, мильтона стребую на подмогу, Никитишну пужать. Мы им покажем, сучонкам, как свободу любить.
Пока он в конторе трезвонил, довольно времени прошло, и на бревешке не сиделось что-то, я побрел сонной, голодной деревней и вскоре увидел: у своей калитки, тоже на бревешке, сидит Стеша, облитая лунным подзаревом.
– Перекурить вышла? – глупо спросил я, остановился и мигом углядел опухлое, страшное лицо.
– Перекурить, – сказала она. – Да. Перекурить. Барташов, ты послушай только. Вот не могу я, третью ночь не могу. Как он меня своими обрубками тронет – не могу, и только. Сволочь я последняя, Барташов, ты понял? Я ведь его люблю. Вот. А – не могу. А дитенка бы мне, дитенка…
Выла на соседнем дворе собака; мерзко кривилась щербатая луна, я не умел сказать Соломатиной ничего, я постоял немного и выдавил:
– Можно, я пойду?
– Иди, выколачивай, – отозвалась учительница Стеша на мой школярский вопрос, и опухлое лицо ее сделалось большим и круглым.
Я вернулся в освещенную коптилкой контору, Елхов оповестил:
– Мильтон сейчас прибудет, верхи. Займемся…
Занялись и к рассвету закончили. Напоследок мы с Елховым и милиционером Санькой, демобилизованным по ранению, выпили опять свекольного самогона, и я отправился восвояси – не пешедралом, а на председательской одноколке, пружинно выстеленной свежей травой. Рядом тулилась назначенная в кучера Сонька, медаль ее поблескивала в первых лучах, и Сонька чему-то посмеивалась, она легкая была, отходчивая.
Мы тарахтели вдоль еще сонных домов, и только у самой околицы выскочила моя – моя! – Улька и нам вослед завопила истошно и весело:
– Говнюк ты!
А с упряжной дуги, вырезанный из газеты, прилепленный и спереди, и сзади, равнодушно и величаво смотрел на меня, на Соньку, на деревню Вольный Тимерган и на всю землю – товарищ Сталин в полувоенной форме.
1968 г.
Ржаная каша
Надо было в Кузембетево. Чем только перед собою не оправдывался Игошин, чтобы туда не ходить, а вот приперло.
Доводы он придумывал всякие: в районе девяносто два колхоза, на каждый по два-три дня – году не хватит; тамошний куст – по населению в основном татарский – закреплен за инструктором Назией Бахтияровой; языка он, Игошин, почти не знает… И что-то еще в подобном роде.
Истинные же причины заключались в другом. Сам Николай Игошин был родом из Кузембетева и стыдился там показаться: третий год война, ровесников давно призвали, а его нет, поскольку слепошарый, без очков родную мать, когда была жива, на малом расстоянии узнать не мог. А еще Игошин женился недавно, взял эвакуированную с двумя детишками, в райцентре чесали языки о всякий столб, а в деревне, конечно, и подавно. И, наконец, вряд ли он сумеет в родных местах показать авторитет – всякий помнит Игошина сопливым пацаном.
Но вчера Николая вызвал Хозяин, первый секретарь райкомпарта, и велел отправляться в Кузембетево, уполномоченным на уборку, ты, парень, тамошний, условия знаешь, людей знаешь, давай руководи, проводи линию… Игошин только вздохнул тихомолкой.
Можно было вызвать из колхоза подводу, поскольку ехал уполномоченным, – своим транспортом комсомол не разбогател, но Игошин и этого постеснялся: не оберешься разговоров, ишь, мол, Колька-то, барин сыскался, тарантас ему подавай. И лошадей оставалось повсюду шиш, а теперь страда… Николай – не привыкать стать – ударил пешака.
Поднялся на рассвете: двадцать три километра одолеет, с передыхом, до полудён, важно лишь не торопиться и не выжимать силы, а расходовать их мерно, умно. Поклажи не брал никакой.
Шагал он легко: пыль прибило росою, свежие портянки не комкались в сапогах, лицо не потело и очки потому не ерзали. Чтоб не хотелось пить, Игошин липкую горбушку, поданную хозяйкой, круто присолил и выхлебал впрок две кружки морковного чаю. Ломоть взял на дорожку, завернутый в газету. Игошин помнил об этом ломте и потому шел еще ходче, предвкушая привал, где он этот ломоть съест.
Ада, жена, проводить не встала, она уже привыкла к частым отлучкам Игошина или вообще была равнодушна к ним. Женился Николай скорей от жалости, хотя Ада ему нравилась, но любви, пожалуй что, не было.
Как первый секретарь райкома комсомола Игошин состоял в комиссии по устройству эвакуированных, в тот день прибыла очередная партия из Белоруссии, коридор заполнился шумом и плачем – не одна молодежь явилась, а всяких лет. На Игошина кричали, угрожали ему, просили, требовали, клянчили, советовали, сами ждали совета, жаловались, рыдали в голос. А она молча выложила справку: аспирантка Минского государственного университета Аделаида Борисовна Суханевич, мать двоих детей… Ребятишки были, конечно, тут же – явно близнята, одинаково замурзанные, белоголовые, непонимающие и какие-то странно умудренные. «Вам работу или жилье сперва?» – спросил Игошин, и Аделаида сказала тихо: «Я не знаю… Муж – пограничник у меня, без вести пропал… Я не знаю… Я комсомолка, вот и пришла…» Говорила робко и потерянно, у Игошина защемило, хотя уже успел понаглядеться на всякое горе. Николай сказал вдруг: «Ладно, жилплощадь устрою», – и отдал Аделаиде с ребятишками свою комнату, а сам перебрался в угол к хозяйке. Работы бывшей аспирантке по геологии здесь не сыскалось, распродавала кое-какое барахлишко, Николай подкармливал ребятишек, сколько мог, Ада благодарила, и, наверное, у нее от благодарности да непреходящей потерянности, а у Николая, скорей всего, из жалости, перемешанной с неловкостью какой-то, случилось то, про что стали чесать языки о каждый столб. Игошина призвал Хозяин, сказал: ты, парень, это брось, ты комсомольский бог и член пленума райкома партии, если живешь с женщиной, будь добр по закону, а то вытащим на бюро, понял?
Игошин, разумеется, не бюро испугался – хотя и это было, – а просто сам давно томился двусмысленностью их отношений, в тот же вечер поговорил с Адой, она вздохнула и сказала обреченно: ну если настаиваешь… «А муж?» – спросил Игошин. Соврала, призналась Ада, муж сидит за растрату, и развод с ним был, жуликом, никакой не пограничник, директор базы гастронома.
Николай постарался поверить, будто любит ее, Ада же ни в чем ни себя, ни его не убеждала, смутно как-то жила, и радости – той доли радости, что могла позволить война – в семье не виделось, ребятишки, Олежка и Игорек, существовали как бы сами по себе, ходили в первый класс, правда, приученные матерью, Игошина стали называть папой, но вынужденно, без тепла. Первое время Николай по возможности с работы домой торопился – это значило, что возвращался часам к десяти, если не уходил в колхозы, – а после перестал спешить или вовсе в райкоме ночевал, на деревянном жестком диване без подстилки.
Вот и сегодня Ада не проснулась, Игошин оставил на табуретке записку: «Ушел в Кузембетево, буду в субботу», – хозяйка-старуха покачала головой, осудив городскую неженку – где видано, чтобы мужа не проводить! – и скипятила самовар, вызвалась у соседей, шабров, молочка взять в долг, но Игошин отнекнулся: детишкам принеси, а ему не требуется.
Он вообще, женившись, питаться полагал чуть не зазорным – вроде мог бы все пацанам отдать, а сам истребляет. В закрытой, не для всех, столовой договорился с заведующей получать положенные там завтраки да обеды сухим пайком, то, что причиталось ему одному, теперь делилось на четверых, да и заведующая отпускала не задарма, поскольку сухим пайком, законно если, выдавать не полагалось. Жили туго. В колхоз тут же, при городке Ада идти не хотела, Игошин ее не принуждал, все равно в колхозе работали за палочки, только что отмечали в ведомости начисленные трудодни, а не давали по ним ничего. Правда, там была хоть малая возможность подкормиться, но Ада крестьянского труда не знала, балованая.
Игошин отмахал километров семь, прикидывая по времени. Дорога проходила залогом, непашью, мертвая земля пласталась окрест – худородный подзол, белесый, как возле бани. Взнялось поигрывать солнце, роса изникла, и теперь даже над травяной обочиной курилась пыль, она залепляла толстенные игошинские очки, то и дело приходилось их протирать, Николай раздражался – ведь, сняв окуляры, он беспомощен делался.
Ручей пал поперек дороги – в неглубоком, лениво прорытом овражке. Николай спустился к воде – в горле першило, вдыхнул взметенного сапогами гнилистого праха, – сел на карачки, поплескал в лицо жесткой и дурновонной водой. Хлеб, завернутый в газету, выскользнул из кармана, поплыл – сырой, наполовину из картошки, вот-вот затонет! – Игошин изловчился и поймал, благо течение было едва приметное.
Он выбрался наверх, кинул напитанную влагой осклизлую газету, она шмякнулась тяжело, как тряпка. Закусил примоклый – отпечатки зубов оставались – ломоть. За спиною шевельнулось, Игошин обернулся.
По ту сторону бугорка – не приметил сразу – сидела татарка, низко повязанная платком, востроскулая, под глазами кошелечки, нижняя губа ввалилась беззубо, кожа поношенная, обдряблая, между краем юбки и онучами виднелось белое – мужские, наверное, кальсоны, теперь многие женщины их носили, – а лапти женщина скинула, они стояли рядом, распустив мохрастые оборы, от лаптей и онучей далеко и душно валило прелью.
– Исамсес, апа, – вежливо поздоровался Игошин, татарка откликнулась с очевидною охотой:
– Исамсес. Син татарча блясым?
Эти обыкновенные фразы, прожив среди татар, Игошин усвоил и ответил, что не понимает по-татарски:
– Мин татарча бильмим.
Но, должно быть, прозвучало неубедительно – слишком уж правильно произнес, – и татарка забормотала быстро, кое-что Игошин разбирал и, составив обрывки, угадал: живет она в Абсалямове, идет на базар (базарда), денег нет (ахча юк), но продаст это – показала расшитые крестиками два полотенца – и купит хлеб (ипей) для ребят, их вот двое, баранчук и кызым.
Игошин дал ей выговориться, покивал головой, поглядел на закушенный ломоть, протянул татарке, она качнула головой, сказала:
– Юк, ахча юк.
А сама глядела на хлеб невотрыв, и, когда Игошин сунул ей ломоть, тот мигом, будто у фокусника, исчез, и тут же татарка принялась наматывать оборы лаптей поверх онучей, кое-как, торопясь, закрепила, пошла прочь и лишь издали поблагодарила, кланяясь на русский манер:
– Рахмат, зур рахмат, ипташ нашалник.
Есть захотелось куда пуще, чем до того, Игошин долго пил дурновонную воду, силком себя заставляя, чтоб заполнить желудок, утерся рукавом и через хлипкий мосток, вдоль обочины зашагал дальше.
Желудок тосковал, и Николай обрадовался, завидев гороховое поле – метров двадцать от проселка, не дале. Говорят, исстари горох сеяли нарочно у дороги – прохожему полакомиться. Сейчас он отмерит эти двадцать метров длинными ногами, деранет несколько плетей, навесит на согнутую левую руку и примется есть на ходу. Он будет есть по-детски, отчасти балуясь: забирать в рот стручок, зажимать зубами, тянуть за хвостик, горошины станут выструкиваться на язык, почти спелые, деревенеющие, несладкие.
Он принагнулся, поднял гороховую плеть – стручки в прожилках, похожие на стрекозиные крылышки, – подержал, отпустил. Сорвал, оглядевшись, один стручок, провел ногтем по шву, выбрал катышки, положил в рот. Несладкие, почти деревянные. Вкусно. Игошин сглотнул слюну и вернулся на дорогу.
Скоро гороховое поле кончилось – Игошин, все туда посматривал, – теперь на свежей стерне были редко понатыканы суслоны ржи – несколько снопов поставлено в кружок вниз комлями, понакрыты еще одним снопом, надломленным у свясла. Суслоны были редкие, низкие, хлеба уродились никудышные, быть голодухе опять, ох быть…
Дробное туканье железом об железо доносилось откуда-то сбоку, отбивали на бабке, оттягивали притупленное лезó косы. Игошин пошел на звук – где-то крылась, верно, лощинка, поскольку людей пока не видать.
Обмишурился: лощинки не обнаружилось, а был взлобок, и за ним по чахлой, в пояс, просвечивающей ржи рядком шли бабы, они брали рожь не серпами, как бабам полагается, а косами, по-мужичьи косили. Тяжелыми, с крюками литовками бабы отмахивали споро, сноровисто – научила война. Прогон клали ровный. Игошин их догнал, поздоровался, никто не ответил, запыхавшись, только самая крайняя, к нему поближе бабенка сказала равнодушно и неведомо кому:
– Четырехглазый заявился. Представитель поди.
– Дай-ка я, – сказал Николай и принял у бабенки литовку, сточенную, тоньшиною в шило почти, одна лишь пятка оставалась широкой. Игошин по своему росту передвинул рукоять на косовище, захватанном до блеска и липком от пота, пристроился в ряд и пошел, глядя, чтобы с отвычки не садануть по ногам.
– Гли, можешь, – сказала бабенка вдогон.
В конце прокоса недолго пошабашили, там и сидел, отбивая литовки, дедок в линялой несерьезной футболке с нашивкою «Динамо» – буква «Д» в голубом ромбике, – в зимнем клочкастом малахае, разутый, лапы красные, что у гуся. Дедок на «здравствуйте» Игошину откликнулся уважительно, а баб он за человеков не признавал и вместо разговору принялся их наставлять: дуры вы и есть дуры, вам литовка – не тяпка, не капусту, чай, сечете, а хлебушко выкашиваете, наизволок надо пускать косу, легошенько, а не пяткою рубить, этак все лезвие исщербите, да и переломить недолго.
Слушать его не стали – не до того, уморились, – полегли, как придется.
Надо бы, наверно, использовать бабий перекур для пропаганды и агитации, подумал Игошин и тут же рассудил: не до того им, чего людей маять, да и зачем, сами по себе работают дай бог, чего их наставлять. Прикинув так, Игошин полежал со всеми на кучке соломы, выглядел бабу постарше и поусталей, взял у нее литовку и стал в рядок за ведущего – руки вспомнили прежний навык, работали теперь как положено.
Спохватился он только на четвертом прокосе – этак и к ночи в Кузембетево не поспеешь. Поручкался с дедом, отсыпал ему полгорсти махры. Звали полдничать – отказался: припасу нет своего, на чужой каравай рот не разевай, особенно по нынешним временам.
Догнала его вскоре арба, вподвысь набитая соломой. Держась за боковой брус, вышагивал рядом бабай – пыльный, в измасленной фетровой шляпе-колпаке. Он попросил – сложенными перстами показав на свой рот – закурить, а после как немой (по-русски, видно, вовсе не калякал) позвал на воз. Игошин хоть изустал, но отмахнулся: лошаденка и без того заморилась.
И опять потекла под ноги серая дохлая трава. Очки теперь елозили-таки по носу, протирать стекла надоело, Игошин шел полуслепой, но когда от суслона ширнул в сторону кто-то – заметил, окликнул и, не дождавшись отклика, в несколько прыжков очутился там.
Мальчонка заполз в суслон – только потресканные пятки наружу торчали, Николай позвал – тот не послушался, пришлось хлопнуть по востренькой, топориком заднюхе, сказать: вылазь, мол, так и так попался.
Переминаясь, будто до ветру приспичило, мальчонка стоял перед Игошиным, в подоле – горстей с десяток полувыбитых колосков, животишко втянутый и ребра куриные.
– Что ж ты, друг, – сказал Игошин. – Воруешь, значит?






