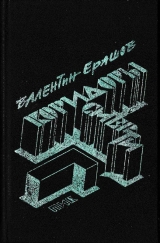
Текст книги "Коридоры смерти. Рассказы"
Автор книги: Валентин Ерашов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Сегодня предстояло ехать в Смольный на ответственное совещание, просили быть в мундире и при наградах. Генеральский мундир он надел полупарадный, отличавшийся от полностью парадного тем, что украшали его не все награды, а лишь самые высокие – Звезда Героя и четыре медали лауреата Сталинской премии, а также значок депутата Верховного Совета СССР.
В кабинете, обставленном с воинской суровой простотой и деловой целесообразностью, он, пройдя в личную бытовку, сменил генеральское облачение на щеголеватую рабочую куртку, такие он ввел для всего инженерно-технического персонала. Она, будучи спецовкой, имела тем не менее погоны, правда, не золотистые, а зеленые, повседневные… Удобно, изящно, молодцевато и демократично. В этой куртке он чувствовал себя моложе своих сорока четырех лет.
На письменном, функционально пустом, удобном столе ждала папка с единственным плотным листом – перечень сегодняшних дел. И рядом – стопка газет, с них начинался день.
Первым делом, конечно, развернул «Правду», привычно, зная их систему расположения материала, посмотрел главное. Поморщился: каждый день одно и то же… В сотый раз повторяют формулировку указа: «За помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц…» Навязчивые эпитеты. Назойливые слюни: «русская женщина», «русская душа»… Была недавно обзорная статья: «Почта Лидии Тимашук» – те же сопли-вопли… Перепечатывали из французской «Се суар» послание коммуниста Пьера Эрве: это дело врачей – не локальное явление, а результат давнего заговора… Может, и в самом деле заговор… Может, и убийцы… Ну так и судите их, но зачем прославлять доносчицу? Любое доносительство отвратительно. Если уж ты истинная патриотка и честнейшая душа, – ну и выступила бы на собрании, чего бояться… И эти восторженные письма… Опять-таки ладно, когда строчат люди недальновидные, малообразованные, не мыслящие. Может, сами строчат, может, подписи только ставят… Но ведь пишут и ученые, академики даже, и деятели литературы, искусства, крупные военные – многие знакомы ему, настоящие интеллигенты, увенчанные званиями, титулами, наградами, – или не презирают стукачей, и чего уж им-то опасаться… Даже коли подсунут бумажку для подписи – ну и плюнь на нее, мы – верхушка, кто нас тронет. И нам ли, ученым, вмешиваться в пропагандистскую кутерьму, нам ли суетиться в этой шумихе…
Конечно, кое-кого посадили, но тех, кто покрупней, держали недолго… Некоторые там умерли, однако могли ведь и своей смертью; а может, и в самом деле – вредителями были. А все-таки элиту почти не задели, он сам тому пример – в чинах, при орденах, окружен почетом и заботою… Да нам ли суетиться…
Он почти гадливо сложил газету, посмотрел остальные – то же самое, лишь имена под статейками другие… Хватит, время идет попусту.
Часы показывали восемь сорок семь, значит, сейчас без стука, по им установленному обычаю, войдет Елизавета Владимировна, секретарь-помощник, умна, образованна, безусловно надежна. С блокнотом и папкой бумаг на подпись.
Он застегнул рабочую куртку, швырнул газеты в корзину, сделал официально-приветливое, для Елизаветы Владимировны лицо; начинался рабочий день.
Елизавета Владимировна, конечно, возникла вовремя, но без блокнота и папки, поздоровалась растерянно, почему-то приблизилась вплотную и, чего не делала никогда, шепнула на ухо.
– Ну и что? – с некоторой раздражительностью спросил Генеральный. – Зовите.
Она пошла было к двери. Генеральному сделалось как-то не по себе. Остановил:
– Нет, минуточку.
И, обороняясь от еще неизвестно чего, надел в бытовке генеральский мундир.
– Просите, – сказал он.
Глава восьмая
Так и не уснув, доктор Плетнев из своего закутка вышел в коридор барака-лазарета, еле-еле освещенный дежурной лампочкой. Слышно было, как в четверть силы тукает электродвижок.
Санитар и дневальный сидели возле столика, хотя одному полагалось мирно спать, – больные по ночам редко тревожили персонал, понимая, что и они такие же зэки, им тоже достается, хотя и не столь хреново, как на общих работах.
Когда Плетнев – шаткий, в латаных-перелатанных валенках (подарок офицера, у чьей жены принимал роды), в накинутом поверх неотстирываемого белья засаленном бушлате, – приблизился, оба встали, не потому, что этого требовала дисциплина, но из особого уважения к старику.
В сорок седьмом, когда вышел свирепый, как и большинство тогда, Указ об ответственности за расхищение социалистической собственности, у завмага сельпо Нури Закиева ревизия обнаружила недостачу – связку сыромятных ремешков для хомутных супоней. Ради наглядности и внушительности ремешки записали в акте не числом, а по длине – двести сорок метров. Нури получил десятку.
Отбыв половину срока, попал в беду: на лесоповале напоролся на острый шип кустарника, угодило в глаз. Ошеломленный болью, приложил тряпку, сломал при этом наружную часть шипа, в глазу остался малый кончик. Охранник смилостивился, отпустил – деваться в тайге все равно некуда, не смоется, – и Закиев побежал в зону, воя от страха и боли.
Через минуту в закуток доктора Плетнева явился верзила-староста уголовного барака; с деловитой краткостью – правда, все-таки замедленной неизбежными матюгами – выдал Дмитрию Дмитриевичу суть. Плетнев столь же кратко пояснил: он специалист по сердечным заболеваниям, надо везти в околодок к хирургу, на что староста молча достал незаконно хранимый нож, показал. Пояснений не требовалось. Дмитрий Дмитриевич сказал, чтобы вели потерпевшего, притом непременно пятеро, а нож распорядился оставить. Староста понял оба распоряжения, кивнул.
Плетнев позвал из палаты старика крестьянина; тот умело, будто косу, отбил лезвие, направил на брезентовом ремне, получилось не хуже скальпеля. Будь что будет, думал Плетнев, отказался бы – ножик в печень, а так, глядишь…
Пришлось из наинеприкосновеннейшего – припрятанного от начальника лазарета – запаса налить полкружки спирта, и староста вместе с четырьмя урками завистливо глядели, как Нури выглохтил, запил глотком воды, а затем верзила держал стриженую голову Закиева, четверо ухватились за руки-ноги. Дмитрий Дмитриевич мысленно перекрестился, сделал крохотный разрез, пинцетом вытащил обломышек. Если не задет нерв, подумал он, будет порядок, а если задет – скорее всего, слепота на оба глаза, и тогда неминуемо – в расход, кто станет держать здесь бесполезного инвалида…
Покуда Нури отлеживался, дружки-уголовники неведомыми путями – у них водились связи даже с администрацией – пристроили его санитаром в лазарет. Закиев оказался расторопным, смышленым, старательным, а Дмитрию Дмитриевичу повиновался особенно беспрекословно, как и второй из вроде бы подчиненных Плетневу, санитар Бертольд Северинович Либман.
Сорокалетний Либман родился в Польше, на медные гроши получил университетский медицинский диплом в Вене, с присоединением Западной Украины заведовал отделением областной больницы, с началом войны добровольно ушел в Красную Армию, дослужился до подполковника медицинской службы. Победу встретил в милой ему Вене, и на третий день после громовых салютов очутился за решеткой камеры СМЕРШа, грозной армейской контрразведки «Смерть шпионам», был крепко и умело измордован, подписал протокол о том, что добровольцем стал с вражескими целями, ибо тайно служил германским фашистам (он-то, еврей!) еще со студенческих времен; получил от чрезвычайной тройки вышку, неделю просидел в одиночке смертника, негаданно был осчастливлен заменою смертной казни пятнадцатью годами лагеря с последующей вечной ссылкой, доходил здесь, на лесоповале, покуда, полумертвого от истощения (норму он выполнять не мог и пайку получал соответственно), его не вызволил доктор Плетнев, уговорил начальника санчасти взять Либмана в санитары, прогнав с этой должности тупого урку… Лысоватый тихий Либман, понятно, оказался божьим подарочком: отменный терапевт, он фактически выполнял обязанности врача…
Шаркая трепаными валенками, Плетнев приблизился, попросил коллег садиться (оба вежливо встали), взяв у Нури табачку. Давно следовало бросить курить, но Дмитрий Дмитриевич позволял себе изредка, приговаривая: «Пьешь – помрешь, и не пьешь – помрешь». Жить ему так и так оставалось чуть-чуть, восемьдесят лет – не шутки. Приговорив его к двадцати пяти, члены Военной коллегии проявили непомерный оптимизм, даруя тогда уже старому Плетневу как бы Мафусаилов век… Гуманность приговора выглядела, конечно, издевательски, однако прихоть судьбы непознаваема, Дмитрий Дмитриевич продолжал существовать, ему, как ни удивительно, скостили срок до либеральной десятки, отбытой во Владимирской тюрьме, а затем отправили сюда, пожизненно… Теперь он еле волочил ноги, не пытаясь хоть чем-то приостановить безусловно неизлечимую болезнь – старость. Лишь об одном попросил коллегу Либмана: когда финал станет очевидностью, ввести добротную дозу морфия и дать возможность спокойно отправиться ко Всевышнему… Умница Бертольд Северинович ханжой не был, слово дал…
Велев Закиеву поспать – сам он все равно уже не ляжет, – Дмитрий Дмитриевич молча протянул Либману «Правду». Пока тот при слабом свете разбирал текст, Плетнев навязчиво думал о том же, о чем думал с тех минут, когда Саша принес газету…
Всех, кажется, всех, перечисленных в сообщении об аресте, он знавал, встречались на консилиумах, конференциях, юбилеях. А когда судили «профессора-садиста, насильника Плетнева», двое из теперешних убийц через газету заклеймили Плетнева как «позор советской медицины».
Но больше всего поразило профессора, когда в другом, так называемом бухаринском процессе вторым медицинским экспертом был наипочтеннейший из всех теперешних убийц человек – и это он на вопрос, можно ли считать метод лечения Горького вредительским, – ответил: «Да, безусловно можно». Безусловно! Плетневу тогда казалось: ослышался. Подумал: сейчас уважаемый коллега-профессор поднимется и скажет, что – недоразумение или что – вынудили, заставили подписать… Ничего такого не произошло. Тогда Плетнев подумал: а случись подобное со мной, нашел бы я в себе мужество воспротивиться, отказаться подписать акт экспертизы? И не ответил себе утвердительно. И пожалел сломленного, как и он сам, коллегу.
И сейчас не злорадство, не торжество – только жалость ко всем, в том числе к тем, что шельмовали его, – испытывал Плетнев, старый, больной, умудренный жестоким собственным опытом…
– Матка боска, то можно ли, – зашептал Либман, протирая очки.
– Можно, можно, все можно, – сказал Плетнев устало. – Вы – еврейский пособник Гитлера, я – убийца Горького, да еще и садист-насильник…
– Да, но мы с вами знаем – то ложь…
– А почему вы думаете, что с ними – не ложь, – сказал Плетнев. – Пойду сосну малость, подъем скоро.
На плацу глухо переговаривались, шаркали деревянные лопаты: в самом деле, близилось утро.
Глава девятая
Честь и хвала на вечные времена славному декабристу Михаилу Александровичу Бестужеву!
В числе прочего и за то, что, сидючи в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, навек обогатил он человечество изобретением негромким – и даже в буквальном смысле негромким, – но таким, коему, бесспорно, и жизнью, и сохранением рассудка обязаны тысячи и тысячи российских заключенных. Изобретение это – тюремная азбука. Вот она:
А Б В Г Д
Е Ж 3 И К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
X Ц Ч Ш Щ
Ы Ю Я
Предельно просто. И даже – хотя, понятно, лишь ради краткости – словно бы предвосхищены будущие реформы правописания: нет «i», нет «ятя». И нет мягкого и твердого знаков, «фиты», «э оборотного» – без них можно обойтись.
Сперва выстукивается номер строки, потом – номер буквы в строке.
Например, «кто вы» будет: 25-43-34 … 13–61.
Привычное ухо воспринимает удары как буквы. После каждого слова слушающий дает один удар: понял.
Некоторые слова, часто употребимые, выстукиваются сокращенно. Предлоги, всякие вводные слова – опускаются: краткость есть непременное условие…
Изобретение – на уровне гениального.
Тихо пролежав после допроса под нарами почти всю ночь – даже к параше не вылезал, – Меер Соломонович Мойся пришел наконец в себя, выполз, встряхнулся, стал долго и витиевато извиняться – пытался на ухо что-то объяснить. Вершинин прервал вежливо: не надо, Мирон Семенович… И обгорелой спичкой на пустом коробке изобразил бестужевскую азбуку, посоветовал вытвердить, а запись уничтожить…
Как в воду глядел.
Кто на букву «ве», откликнись… Так, Вершинин, с вещами… Кто на букву «мы»… Поторапливайся, поторапливайся…
Вели, завязав глаза, охранники поддерживали под руки, вели по коридорам, воняющим аммиаком, проявляли заботу: осторожно, здесь ступеньки; повороты, спуски, подъемы; дохнуло морозным воздухом, хлопнула дверь, снова завоняло клозетом, скрип, долой повязку, с новосельем тебя…
Вершинин огляделся – почти с любопытством. Гм, после общей камеры – не столь уж и дурно. Так, измерим. Семь шагов в длину, четыре – поперек. Откидная железная койка на день пристегнута к стене. В противоположную стену горизонтально врезана доска, пониже – такая же, только меньше, это металлические стол и стул. В углу – персональный унитаз. Окно – в половину газетного листа – под самым потолком, не дотянешься, потому и не закрыто снаружи козырьком. Водопроводная раковина. Обмылышек – серый, трещиноватый… Вот и все…
На полку выложил зубной порошок (он дозволен, а вот щетка – нет, из нее можно выточить подобие ножа, вскрыть себе вены), табак, спички, два носовых платка. Иного имущества нет (полотенце казенное – на кране). Начинаем жить, подумал Вершинин. В отдельном номере. При всем необходимом для существования.
Дверной глазок не отворяли, он сел на доску-столик, спиной к выходу, черенком ложки постучал, потуковал, как выражались революционеры: 25-43-34… «Кто…» Сосед не откликнулся. Или его не было. Или не понял. Или боялся. Попробуем еще. 13–61… «вы»; «кто вы»… Молчание. В глазок не заглянули: то ли не слышат, то ли безразличны, если камеры по бокам пустуют. Отбарабанил те же цифры на противоположной стене. И почти сразу – ответные удары. 11-52-43. Чушь собачья: А-Ц-Т. Стучит наугад. Но и то ладно: за стенкой – живая душа. Может, со временем и уловит систему, если сообразительный.
Кинул окурок в унитаз, постучал снова в левую стену: 1–1. Сделал паузу. Повторил. И еще повторил. И сосед откликнулся: 1–1… Ага, значит, что-то соображает. Дальше: 1–2… Тот повторил правильно. Дело пойдет. 1–1, 1–2, 1–3, 1–4, 1–5. И долгая пауза. Отклик в правильном порядке. Затем сосед, помедлив, протуковал сам: 2–1. На редкость толковый человек! Получайте же: 2–2… Да, правильно. Однако на сегодня хватит, пускай осмыслит, убедится, что понял правильно.
Но кто же там? Если Мойся, то почему не назвал себя? Не успел выучить азбуку? Растерялся, действует механически, повторяя ряды цифр? И почему отмолчалась камера справа? И вообще – кого арестовали, неужели только их двоих?
В камере справа на обжигающе холодном и жестоко жестком полу валялся окровавленный, весь в обширных синяках, кровоподтеках, ссадинах, с тремя выбитыми старческими зубами, что еле держались в деснах – валялся ничком, в той позе, в какой свалили, – академик, заслуженный деятель науки, соученик Вершинина, знаменитый невропатолог Абрам Моисеевич Гутштейн. Его допрашивали всю ночь, приволокли словно куль… Он очнулся недавно и услышал тупые, оглушительные удары в стену, каждый удар бил кувалдой по, казалось, обнаженному мозгу. Хотелось выть и плакать, он думал: и такую еще пытку придумали дополнительно, а удары обрушивались на обнаженный мозг, пока наконец Абрам Моисеевич опять не потерял сознания…
Слева занимал камеру врач не менее известный, хотя, в понятии Вершинина, молодой: его полувековой юбилей недавно отмечали, хорошо, торжественно и весело. Был он основателем одной из новых отраслей медицины, доктором наук. В войну служил сперва главным специалистом на разных фронтах, затем – в генеральском чине – заместителем Мирона Семеновича Мойси. Подтянутый крепыш, по виду – строевой командир, он, Петр Ильич Павлов, перейдя в Лечсанупр Кремля, не расставался с осиянным погонами кителем – кто-то подтрунивал дружески, а иные хихикали над странным для ученого пристрастием, цитировали слова грибоедовского Скалозуба насчет фельдфебеля в Вольтерах, но Павлов был необидчив.
Арестовали его – операцию осуществляли планово – в ту же ночь, что и Василия Николаевича Вершинина и остальных семерых, но Павлов сразу попал в одиночку и понятия не имел, схватили его одного или вкупе с кем-то. На допросы его, как и Вершинина, пока не таскали, решили начать с евреев, надеясь на их, как полагали здесь, слабость, на присущие евреям – в обостренной мере – родственные чувства (тут можно сыграть!), наконец, считая их изначально – трусами, христопродавцами, а также заведомо зная, что главными фигурами в процессе предстоит быть им, евреям, русские же пойдут для отвода глаз, для объективности.
Говорят, Менделеев систему химических элементов обдумывал много лет, а озарение пришло во сне – воочию он увидел всю таблицу разом. Точно так же, после часового раздумья, Петр Ильич живо представил тюремную азбуку, а теперь, после упорного повторения соседом коротких, в некоей последовательности ударов, запомнив их, Павлов увидел и оловянной ложкой отбил: 6–3, 3–5, 1–1, 1–3, 3–1, 3–4, 1–3, 3–5, 2–1, 4–3, 4–1.
«Я П-а-в-л-о-в П-е-т-р», – расшифровал Василий Николаевич и, поминутно озираясь на дверь, принялся выстукивать торопливо и – отчетливо одновременно: 1–3, 2–4, 4–1…
В-е-р-ш-и-н-и-н.
Глава десятая
Весь персонал кремлевской больницы словно выдуло ураганом, затянуло смерчем, все помещения опустели, только дежурные оставались на местах да в интересах безопасности – кочегары. Повсюду маячили офицеры МГБ.
Конференц-зал не мог вместить коллектив полностью, и потому экстраординарный митинг собрали на внутреннем дворе, скоропалительно соорудили трибуну из двух грузовиков с откинутыми бортами. Там, рядом с руководством, на переднем плане счастливо и подчеркнуто скромно улыбалась Лидия Тимашук. Четверо – никому не знакомые, в одинаковых бобриковых пальто с каракулевыми воротниками – оберегали ее.
Не зная, как себя держать, – впервые проводил такое мероприятие, – секретарь парткома решил, что лучше переборщить; презрев мороз, стянул меховую шапку, его примеру последовали мужчины, словно на похоронах…
Огласив текст указа, секретарь парткома зачитал резолюцию, где поминались поименно врачи-убийцы; и были речи, и затем пламенная патриотка в почтительном сопровождении главного врача, секретаря парткома, прочего начальства и тех, четверых в бобрике, шествовала по живому коридору сослуживцев, ей аплодировали, другие – немногие – только вяло соприкасали свои ладони, иные кидались с объятиями, поцелуями.
Старший ординатор, полковник медслужбы запаса Холмогоров, коренной петербуржец, истинный интеллигент, стыдясь, что не осмеливается демонстративно завести руку за спину, однако и брезгая прикоснуться к ладони Тимашук, сделал вид, будто закашлялся, и, достав носовой платок, прикрыл рот. А рядом пьянчуга-санитар из морга, с утра принявший дозу, негромко высказался вдогонку героине:
– Сучонка…
И моментально исчез, сноровисто кем-то извлеченный из переднего ряда.
С платформы грузовика несколько человек раздавали выпуски завтрашней «Правды», помеченные 21 января, – читателю обычно редко приходит в голову, что газета всегда печатается накануне. Номера выглядели непривычно, и каждый брал газету.
Взял и Холмогоров, его покоробило: на первой странице, прямо под портретом Владимира Ильича (отмечалась годовщина его смерти) красовался броско набранный указ о награждении орденом Ленина советской патриотки Лидии Федосеевны Тимашук.
Указ Холмогоров только что слышал, ошеломленный, успел прийти в себя, но теперь ошеломление повторилось с новой силой: имя этой… этой… рядом с именем, с портретом Ленина!
Он аккуратно сложил номер и спрятал во внутренний карман.
Он, как и абсолютное большинство, не знал, что именно этой идеей изумил в морозное утро ко всему привычного Берию сам Великий Вождь, а тот в свою очередь крепко озадачил редактора «Правды», после же ТАСС передал указание всем газетам.
А на следующее утро девятерым заключенным в одиночках внутренней тюрьмы Лубянки вручили одинаковые картонки с тщательно вырезанными и намертво наклеенными, чтобы не отодрать, не прочитать лишнего, – картонки с текстами сообщения от 13 января о врачах-убийцах и с указом о награждении Тимашук.
Трехкомнатную квартиру в обжитом, нестаром доме выделили сразу после беседы с Рюминым. Она занимала до того две просторные комнаты в коммуналке с двумя соседями, о большем и не мечтала, даже пыталась отказаться, когда на Лубянке объявили о подарке, но ей объяснили – заслужила, что же касается хлопот с переселением, неизбежных расходов и покупок, – это берут на себя они. Ни дом, ни квартиру даже не показали заранее, сулили сюрприз.
Ее привезли туда через сутки двое учтивых, вышколенных мужчин, в машине занимали светскими разговорами, затем подняли в лифте на четвертый, предпоследний этаж, по-хозяйски позвенели ключами, пригласили войти.
Ни в каких снах не снилось!
Комнаты все изолированные, кухня сияет белизной, ванная и туалет – сплошь в кафеле, горячая вода; редкостная встроенная мебель и мебель прочая; посуда на кухне, сервизы в серванте, радиоприемник, даже телевизор «КВН», даже – не забыта ни одна мелочь – пакет туалетной бумаги, флаконы, щетки, мочалки; в прихожей – стойка для зонтов, рожки для обуви, расческа на подзеркальнике; бог мой, ничегошеньки не забыли… Перед нею раскрывали шифоньеры, тумбочки, выдвигали ящики – постельное белье, полотенца, мягкие тапочки, всего не рассмотреть с ходу, не перечесть…
Шальная от Счастья, она в прежней квартире собрала только одежду, прежние подарки, книги, фамильные фотографии, а всю обстановку подарила соседям. В назначенный час явились упаковщики-грузчики, через два часа она с ребятами, обалдев, носилась по комнатам, прыгали на диванах, катались на ворсистых коврах, брызгались водой из-под кранов, названивали по телефону, кому придется, – прежде телефона у них и не предвиделось…
А вечером, после вручения ордена, принимала гостей – и самых близких, и не очень, и еще тех, с кем познакомили в МГБ. У порога встречали по-хозяйски гостеприимные, по-служебному подтянутые незнакомцы, в прихожей принимали пальто еще двое, в швейцарских фуражках и лампасах; раздвижная перегородка-гармошка утоплена в стены, соединив гостиную с ее спальней, тянулся обеденный стол, разноцветно блестели бутылки, сверкали приборы, манила разнообразная снедь. Официанты, выстроившись вдоль стены, в накрахмаленных белых куртках, при галстуках-бабочках, в лакированных туфлях, с перекинутыми через согнутые руки салфетками, почтительно усаживали гостей, начали раскладывать по тарелкам…
А в одной из кабин спецузла связи на Лубянке медленно крутилась катушка магнитофона, запечатлевая звуки, переданные многочисленными датчиками, упрятанными в жилых комнатах, на кухне, в ванной, в прихожей Лидии Тимашук. И держали ухо востро в самом жилище швейцары, официанты, некоторые из гостей, с которыми Тимашук в эти дни познакомилась.
Разъехались на казенных машинах под утро, официанты и швейцары мигом упаковали дополнительно, ради гостей привезенные сервизы, которые успели перемыть приветливые девицы, согласились наконец на предложение хозяйки выпить «посошок»; вежливо откланялись.
Магнитофонная лента через час бесстрастно зафиксировала притушенный подушкой плач в спальне; на прослушивании, конечно, решили, что эта дуреха – уже обреченная, как только завершится процесс над врачами – ревет от счастья…






