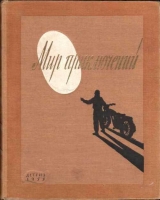
Текст книги "Мир Приключений 1955 г. №1"
Автор книги: Валентин Иванов
Соавторы: Георгий Гуревич,Николай Томан,Александр Воинов,Кирилл Андреев,Говард Фаст,Владимир Попов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 59 страниц)
Это первый вдох в его новой, возвращенной жизни.
Странные вещи творятся с Валентином: он лежит на столе без дыхания, но живой, а жизнью его заведует никелированный аппарат с двумя поршнями: большим и маленьким, – металлическое электросердце системы профессора Бокова.
В организме человека сердце занимает особое место. Это единственный из внутренних органов, у которого ткани такие же, как у мускулов. Подобно мускулам сердце выполняет главным образом механическую работу – сжимается и разжимается. Именно поэтому создать искусственное сердце неизмеримо легче, чем искусственный желудок, почки или печень.
По существу, сердце – насос, даже двойной насос. Одна половина гонит испорченную кровь в легкие для очистки, другая – чистую кровь в организм для питания клеток и тканей.
Электросердце профессора Бокова представляло собой тоже двойной насос, который черпал кровь и глюкозу из специального резервуара.
Но хотя многие машины сложнее сердца, сердце превосходит любую машину своей прочностью и работоспособностью. Ни одна металлическая машина не способна работать беспрерывно десятки лет без чистки, смазки, без ремонта и проверки, делая зимой и летом, днем и ночью около восьмидесяти движений в минуту. Поэтому блестящее, красивое на взгляд, металлическое электросердце осуществляло вспомогательную задачу – поддерживать жизнь, главным образом жизнь мозга, пока не возьмется за работу отдохнувшее, починенное сердце Валентина.
Хотя Валентин уже дышал сам, в помощь искусственному сердцу работали и искусственные легкие. Они были устроены очень просто: в большую стеклянную банку сверху поступала отработанная кровь, а снизу вдувался кислород. Стекая по кислородной пене, темная кровь очищалась, становилась светлокрасной, обогащалась кислородом, а затем металлическое сердце всасывало её из стеклянных легких и направляло в аорту.
Кудинова получила передышку: аппараты вернули жизнь Валентину, и она могла не торопясь починить сердце, зашить его шелковинкой и вложить в грудную клетку.
Но зашитое сердце не шевелилось, хотя сквозь него беспрерывно текла свежая кровь. Можно было подумать, что оно нарочно дожидалось, пока придет Кудинова, и, истратив последние силы, остановилось, сложило с себя ответственность за жизнь Валентина, передало её врачу.
А в распоряжении Кудиновой были те же самые противоречивые средства – либо возбуждение сердца: нагнетание крови, массаж, адреналин, либо полный покой, в надежде на то, что предоставленное самому себе сердце, отдохнув, по собственному почину возьмется за работу.
Но через сколько минут возьмется? Кудинова знала: это может случиться не скоро. Бывали операции, когда сердце начинало работать через час. В опытах с животными – ещё позже.
«Неужели целый час я буду с тревогой глядеть на сердце и гадать: оживет или не оживет?» – подумала Кудинова.
И всё же она начала с лечения покоем. Всегда лучше, если организм справляется с бедой самостоятельно. Пятнадцать минут она ожидала, держа на весу руки в окровавленных перчатках и поглядывая то на часы, то на сердце, – но сердце Валентина бездействовало.
Кудинова применила массаж… Без успеха.
Адреналин… Впустую.
Крайнее средство – электрический разряд… Никакого результата.
Ещё двадцать минут полного покоя… Сердце лежало недвижно.
Всё чаще слышались сдержанные вздохи врачей. Они понимали Кудинову и сочувствовали ей. Больной, очевидно, безнадежен, но, несмотря ни на что, врач обязан всё снова и снова пытаться спасти его всё теми же не оправдавшими себя средствами. И всё ниже опускал голову добродушный дежурный врач, которому предстояло утешать Сергея.
Кудинова хранила маску спокойствия, но в душе её все кипело. Какая нелепая беспомощность! Упрямое сердце отказывается жить, а она не может заставить его работать, не умеет пустить в ход.
Час уже прошел, начинается второй… Валентин дышит, лицо его порозовело. Но всё это держится на металлическом насосе. А насос работает с присвистом – эта машина не так долговечна, как сердце. Надо бы остановить его и показать механику.
Но это значит остановить жизнь Валентина…
Адреналин! Массаж! Повысить давление!
При повышенном давлении проступает кровь. Значит, Кудинова не всё зашила, есть разрывы внутри.
Но тогда не остается ничего, кроме…
Кудинова берет в руки стеклянную банку, где бьется чужое сердце, единственное сердце, которое бьется спокойно и бесстрастно в этой комнате.
– В сердце больного необратимые изменения, – говорит она вслух. – Я считаю, что его необходимо заменить другим, здоровым сердцем. Это единственный выход.
Много путей связывают сердце с организмом: аорта, которая несет кровь из сердца; полые вены, несущие кровь в сердце; легочные вены и артерия, связывающие сердце с легкими; вены и артерии, снабжающие кровью сердечные мышцы, и, наконец, два главных нерва (не считая второстепенных): один – ускоряющий работу сердца при волнении, усиленной работе или во время болезни, другой – замедляющий. Все эти важные пути Кудинова должна была восстановить, чтобы связать организм Валентина с его новым сердцем. По существу, надо было сделать несколько сложных операций. Из них самой опасной была первая – сращивание аорты.
Чужое сердце хорошо улеглось в груди Валентина; только когда Кудинова взяла его в руки, оно на секунду замерло, как бы испугалось. Но чтобы соединить это сердце с аортой Валентина, нужно было на полминуты прекратить движение крови – лишить питания и сердце и мозг. К счастью, в распоряжении Кудиновой был советский аппарат для сшивания сосудов. Ей не нужно было работать иголкой и ниткой – только вложить кончики сосудов в аппарат, нажать рукоятку, и металлические скобки прочно соединяли разрезанные сосуды.
Так, одна за другой, прошли все нужные операции, в том числе самые сложные – соединение нервов. Впрочем, в отличие от сосудов, которые включались в работу сразу, нервы должны были ещё срастаться много недель.
Всё это заняло около трех часов. Уже в начале четвертого, бросив последний взгляд на ровно бьющееся сердце, Кудинова закрыла грудь тем же лоскутом кожи. Самое тревожное прошло. Она чувствовала себя неимоверно усталой. У неё дрожали руки к колени. Ей очень хотелось присесть хотя бы на минутку…
Но вот наконец шов наложен. Сестра прикладывает марлевую наклейку на желтую кожу.
Валентин лежит с полузакрытыми глазами, дышит еле-еле, но лицо у него розовое, потому что его второе сердце работает отлично, усердно гонит кровь по сшитым венам и артериям.
Кудинова в изнеможении садится на стул.
– Будет жить!.. – говорит она усталым голосом. – Теперь главное – сон. Пусть спит двадцать часов в сутки. Старайтесь не давать снотворных. Темнота, тишина, черные занавески, ковер на полу. Никаких впечатлений, никаких разговоров – сон, сон, сон…
Говоря о сне, она прикрывает веки. У неё слипаются глаза. Из театра её повезли на аэродром; половину ночи она провела в самолете; с утра готовила операцию. Врачи жмут ей руку, но она не слышит поздравлений. Больше всего ей хочется спать.
– Мария Васильевна, вас к телефону!
– Кто там ещё? Когда же можно отдохнуть?
Но в трубке журчит такой родной и близкий голос любимого учителя:
– Маруся, я так волновался за тебя! Мне сказали: всё уже кончено.
– Александр Ильич, всё прекрасно. Ваш метод оправдал себя полностью. Больной будет жить.
– Спасибо, Марусенька, ты настоящий хирург! Теперь отдыхай хорошенько. Обнимаю тебя.
А вокруг неё уже толпятся местные врачи:
– Мария Васильевна, вы должны сделать нам доклад об этой операции!
– Каким образом вы сохраняете сердца?
– Можно ли выписывать их от вас?
– Сколько лет можно прожить со вторым сердцем?
И Кудинова отвечает всем сразу:
– Доклад я прочту. О сердцах расскажу. Жить можно сколько угодно, как с нормальным сердцем. Выписывать от нас нельзя: мы сами получаем сердца из клиники. Храним их в физиологическом растворе. Один изобретатель обещает нам изготовлять заводские сердца – стальные и серебряные с гарантией на два года. Такие сердца были бы доступны всем. Но мы не знаем, сумеет ли он связать свой аппарат с живыми нервами. Пока это только проект, мечта.
– Еще один вопрос, Мария Васильевна! Шесть минут – попрежнему предел? Для нас, практиков, это неудобно. Мы не всегда успеваем приехать за шесть минут. По существу, ваш метод пригоден только для умерших на операционном столе.
– К сожалению, пока ещё шесть минут – предел, – терпеливо отвечает Кудинова. – Конечно, если организм очень силен и смерть наступила внезапно, можно вернуть к жизни и через десять минут. Но часто такие люди возвращаются к жизни с психической болезнью. Нежные клетки мозга уже начинают разрушаться необратимо. Работая без кислорода, они сами себя отравляют. Профессор Янковский из Киева полагал, что этого отравления можно избежать, прекратив работу клеток, как бы заморозив их. В этом направлении у нас работают, но пока что это удается только в клинике.
– Скажите, Мария Васильевна, а можно всё-таки…
– Товарищи, товарищи, дайте отдохнуть нашему гостю!..
Дежурный врач старается оттеснить своих коллег в коридор.
Все возбуждены удачной операцией. Стоя в коридоре, врачи аплодируют. Победа Кудиновой – это их победа, победа медицинского искусства. Теперь даже смерть отступает перед хирургами!
Кудинова остается одна в пустой палате. Наконец-то она может прилечь… Сестра стелет чистую простыню на кожаный диван, спрашивает – не хочет ли доктор поесть. Теперь можно лечь, но Кудинова медлит; она выходит в коридор и заглядывает в соседнюю палату, где окна занавешены черными шторами. Там только один больной. Он тяжело дышит. Лицо его как маска, руки лежат недвижно…
Но Кудинова смотрит на окаменевшее лицо Валентина почти с нежностью. Этому человеку она подарила жизнь.
Он всё начинает сначала. Сейчас он беспомощнее ребенка: он умеет только дышать… Потом у него появятся робкие движения, он начнет шевелиться; позже он научится слышать, видеть, поникать, говорить. Все это произойдет постепенно, как у растущего ребенка, только гораздо быстрее… А потом с постели встанет живой и сильный человек, изобретатель Валентин Новиков, творец каких-то сложных, неведомых Кудиновой конструкций. Жалко будет, если он уйдет и не вспомнит о ней. Интересно бы проследить за его успехами.
И Кудинова с теплотой и гордостью думает о всех своих больных: ученых, колхозниках, рабочих, мужчинах и женщинах, о всех, которым она, как мать, подарит жизнь.
«…Виноват я, и я несу ответственность… Никаких доводов в свое оправдание привести не могу, готов к суровому наказанию».
Вернувшись в гостиницу, Сергей подписал своё заявление, но почему-то сейчас эти слова, написанные с душевной болью несколько часов назад, не казались такими безнадежными. Да, он будет отвечать… но операция сошла благополучно. Он понесет суровое наказание… но Валентин будет работать. Дело не заглохнет – есть кому оставить его, есть кому исправлять и вносить новые предложения. Валентин будет жить. Сколько прекрасного он сделает в своей жизни!
Он, Сергей, будет наказан. Возможно, его отстранят от должности, передадут его работу другому, но он тоже будет жить. Как бы сурово его ни наказали, его никогда не лишат чудесного права быть полезным. Он всегда будет делать дело, будет отвечать за сроки; с него будут требовать качество, спрашивать, почему он медлит; будут стоять над душой, возмущаться недоделками и рвать чертежи из рук. Где бы он ни работал, ему поручат нужное дело, и от него зависит делать это дело как следует…
– Чему же вы улыбаетесь? – спросил полковник, внимательно прочтя заявление Сергея.
– Операция прошла благополучно! – сказал Сергей.
– Вы очень любили вашего друга?
– Да, пожалуй, любил, если это слово обозначает мужскую дружбу. И ещё одно. Я радуюсь за дело. Валентин его не оставит…
Полковник внимательно посмотрел на Сергея и, сложив заявление вдвое, провел несколько раз ногтем по сгибу.
– Вы написали: «Готов к суровому наказанию», – сказал он после длительной паузы. – Правильно, вас нужно наказывать безжалостно! Какой вы руководитель? Вы шляпа, раззява, слепец!.. Столько лет вы работали рядом с врагом, советовались с ним, беседовали, пожимали ему руку и не могли понять, что перед вами не наш человек! У вас есть заслуги, но эти заслуги вы своими руками вручили врагу: «Нате, пользуйтесь, крадите и вредите!» По существу, вас надо снять с работы. Я уже запросил Москву насчет вас.
Сергей побледнел. Ему показалось, что пол качается под его ногами. Он крепко сжал пальцы, чтобы взять себя в руки. Что поделаешь! Он действительно был виноват.
– Я совершенно согласен с вами, товарищ полковник. Кому я должен сдать дела?
– Новый руководитель лаборатории ещё не назначен. Но есть более срочное дело. Прежде всего надо выполнить задание. Мы обещали ток потребителям Средней Азии. Они ждут, подготовили электрическую сеть, нельзя отбирать у них обещанную энергию. До первого мая есть ещё время. Сможете вы восстановить передаточную станцию и своевременно отправить ток?
Сергей не поверил своим ушам:
– Значит… продолжать… мне?
– Тут есть особые обстоятельства, и Москва учла их, – сказал полковник. Теперь он не казался уже таким суровым. – Когда ваш друг выздоровеет, мы разберемся во всех подробностях. Возможно, что Валентин Николаевич сам разоблачил врага. Всё это будет взвешено. А до той поры вам разрешается продолжать дело. Ваша работа будет проверкой. Мы посмотрим, глубоко ли вы поняли свою ошибку. Цените доверие и не злоупотребляйте им.
Выйдя от полковника, Сергей ещё раз позвонил в больницу.
– Больной спит, – ответили ему. – Температура тридцать пять и девять. Дыхание слабое… Но сердце бьется. Все будет в порядке.
Сергей с облегчением вздохнул полной грудью… Сердце бьется… Впереди долгие годы. Ещё можно работать, думать, ещё можно принести пользу родной стране, исправить ошибку, довести дело до конца.
Жизнь продолжается. Сердце бьется.

Валентин Иванов
Повести древних лет

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Одинец с размаху бросился в болото. Сильный и ловкий парень метко кидал с кочки на кочку тяжелое, но послушное тело.
Вдруг он почувствовал, что нога ушла в пустоту, – на бегу не отличишь рыхлого, одетого мхом пня от матерой кочки! Ему вода пришлась лишь по пояс, хотя другому хватило бы и по грудь. Он рванулся, выскочил наконец-то на твердую землю и только тут посмотрел назад.
Трое вершников, нахлестывая коней, спешили к болоту. На краю они остановились. Переговариваются.
Прячась за землю, солнце посылало светлые стрелы прямо в глаза Одинцу. Он закрылся ладонью и рассматривал вершников. Двое были свои, городские ротники, посланные, как видно, старшинами для поимки парня. Третий – чужак, в котором Одинец узнал молодого нурманна.
Нынче парень встретил на улице трех нурманнских гостей-купцов. Пожилой нурманн столкнул Одинца с дороги. Улица широка, иди, куда тебе надо. А позабавиться хочешь – давай. Ещё кто кого покрепче пнет! Нурманн больно рванул Одинца за бороду. Парень третье лето растил на лице «первую мужскую честь». Тут схватились уж не для удали, не в шутку. Нурманн вцепился Одинцу в горло, как клещами, и оба повалились на мостовую. Одинец вырвался и всей силой разгоревшейся злости хватил обидчика кулаком по лбу. Затылок нурманна пришелся на мостовой клади, и его голова, как глиняный горшок, треснула между жесткой древесиной и тяжелым, как молот, кулаком могучего парня.
Неимущего убийцу-головника ждет горчайшая из всех бед. Рабом будешь жить, рабом вздохнешь последний раз. Этот-то страх и гнал Одинца, как кровожадно неотвязная гончая гонит робкого зайца.
Одинец узнал нурманна: то был один из тех трех, которые ему так не к добру перешли дорогу в Новгороде. К седлу нурманна длинным ремнем был привязан громадный – с хорошего барана – лохматый пес.
Если молодой нурманн был родович убитого, то он, по Правде, мог взять, как местьник, жизнь Одинца.
Нурманн разрезал затянувшийся узел ремня на шее пса, ухватил его за высокий загривок и принялся свободной рукой драть против шерсти. Потом он показал на Одинца и заревел, как леший:
– Ы-а! У-гу!

Пес рванулся. Не разбирая места, он взбивал брызги и на глубоких местах скрывался за вейником.
С тоской оглянулся затравленный парень. Ни камня, ни дубины! Но он тут же опомнился и сунул руку за голенище полного воды сапога. Не отрывая глаз от пса, он нащупал резную костяную рукоятку и выпрямился, зажав нож в кулаке. В обухе клинок был толщиной в полпальца, а к лезвию гладко спущен. Одинец сам его отковывал и калил.

Облепленный мокрой шерстью, с вставшей по хребту жесткой кабаньей щетиной, пес выскочил из болота и, как немой, бросился на парня. За болотом молодой нурманн опять завыл и засвистал. Одинец прыгнул в сторону, извернулся, как в кулачном бою, левой рукой на лету подхватил пса снизу за челюсть, а правой ударил ножом со всей силой.
Ему показалось, что нож ощутил на миг сопротивление, но затем железо ушло легко, как в воду, до самого кулака. Вцепившись в челюсть, Одинец швырнул пса от себя и одновременно вырвал нож. Пес рухнул.
Парень придавил ногой тушу в бурой шерсти и торжествующе поднял руку. Разгоряченный схваткой и своей победой, он успел всё позабыть. Он наклонился, вытер клинок о шерсть пса.
Ошибка! Не следовало бы спускать глаз с того берега болота. Он услышал знакомый звук спущенной тетивы, но поздно. В левое бедро впилась стрела. Одинец рванул за толстое древко, и стрела оказалась в руке. Дерево было окрашено красным, а оперение – черным. Нурманны любят черное с красным.
Нурманн опять гнул лук. Одинец ловил миг, когда правая рука стрелка дернется назад, а нурманн, желая обмануть, медлил.
Одинец скакнул влево и сам обманул нурманна, вызвав стрелу в пустое место. Но и нурманн был не так прост. Он держал запасную стрелу в зубах, и она скользнула над плечом парня.
После шестого раза нурманн пожалел зря бросать стрелы и залез на коня. А один из ротников заехал, насколько мог, в болото и закричал, приставив ладони ко рту:
– Остаешься без огня! Без угла!
Это – изгнание. По Новгородской Правде, тот, кто не подчинялся ей, ставился вне закона, и никто не смел давать ему пристанище.
«Лучше мне пропасть в лесах, как собаке, чем в рабы продану быть», – думал Одинец.
Солнце уже запало на землю. На краю, за оврагами, из Города поднимались дымки. Всадники повернули коней. По болоту потянулся туман.
Ветер утих. Одинец слышал, как в Городе стучали в била. Скоро затворят ворота в городском тыне. Об этом воротные стороны предупреждали гулкими ударами колотушек по звонким дубовым доскам, которые висели на плотных плетеных ремнях.
Сердце парня сжалось горькой тоской. Пока его гнали, он не думал. Теперь же остался один, как выгнанная, худая собака…
Он всё ещё держал стрелу в руке. Он заметил, что на ней нет наконечника. Железо, слабо прикрепленное к дереву, осталось в теле.
Одинец собрал воткнутые в землю нурманнские стрелы и повернулся спиной к Городу.
Сгоряча он забыл о ране. Бедро начало мозжить и напомнило о себе. Парень нащупал рану. Наконечник засел глубоко – и не захватить его ногтями. Чтобы достать железо, жди света.
За можжевельником пошел редкий кряжистый дуб со ступенями крепких грибов на стволах. Совсем стемнело. Потянул ветерок, тревожно зашуршали уже подсушенные первыми заморозками жесткие дубовые листья. Железо в бедре мешало крепко наступить на левую ногу.
Одинец прошел дубы и уходил всё глубже в сосновый бор, пока не выбрался на поляну. В середине чернели две высокие сосны, росшие от одного корня. Одинец нащупал глубокую дуплистую щель между стволами и выгреб набившиеся в неёшишки.
Изгнанник проснулся с первым светом. Ночной заморозок подернул поляну зябким инеем. Ноги в мокрых сапогах так окоченели, что Одинец не чувствовал пальцев. Он шевельнулся – боль в бедре напомнила о нурманнской стреле. Он с трудом встал на колени и одеревеневшими пальцами расстегнул пряжку пояса, стягивавшего кожаный кафтан. Шитые из льняной пестрядки штаны держались узким ремешком. В том месте, куда ударила стрела, пестрядь одубела от крови и прилипла к телу.
Сама ранка была маленькая, но за ночь мясо вспухло и затвердело. Опухоль вздула бедро, а самую дырку совсем затянуло. Железо спряталось глубоко, а знать о себе давало, стучалось в кость. Если что в теле застряло, нужно сразу тащить или уж ждать, когда само мясо его начнет выталкивать…
Небо высокое и чистое – без облачка. Быть и сегодня погожему, теплому дню.
Куда же теперь деваться? Лес добрый: накормит, напоит, спать положит. Только без припаса, без нужной снасти не возьмешь лесное богатство. Нож есть – и то добро.
Одинец снял сапоги, размотал длинные мокрые полотнища портянок, стащил кафтан и рубаху. От холода на парне вся кожа пошла пупырышками, как у щипаного гуся. Прикрыл кафтаном голое тело.
Рубаха была длинная, по колено, шитая из целого куска толстой льняной ткани одним передним швом, наверху с дырой для головы. Было нетрудно зацепить крепкую льняную нить и вытянуть во всю длину. Одинец натаскал из подола пучок ниток.
Сирота, с раннего детства жил он в учениках-работниках у знатного в Городе мстера Верещаги и учился всему железному делу. И как железо из руды варить, и как ковать ножи, копейные, рогатинные и стрелочные насадки-наконечники, гвозди гнуть, делать топоры, долотья, шилья, иглы, тесла, заступы, сошники и всю прочую воинскую, домашнюю и ловецкую снасть. Во всём Одинец уже был мастер. Не давалось одно, последнее и хитрое умельство: не мог он собрать по ровным кольцам, одно к одному, малыми молотами железную боевую рубаху-кольчугу. Верещага говорил, что парню мешает медвежья сила, от которой в руке Одинца лучше играл большой молот, чем малый, да ещё – дурь в голове.
Дурь дурью, зато калить железо парень умел по-настоящему. Верещага своего умельства не держал в тайне, а у Одинца хватало ума, чтоб все и понять и запомнить.
Верещага строг, у него всякая вина виновата. И укорял он ученика, и за волосы трепал, и по спине чем придется попадало. Учил: «Старайся, дурень, сдай кольчугу на пробу – выйдешь полным мастером».
Одинец без обиды терпел трепку и колотушки. И вправду, плохо ли быть мастером и выпросить у Верещаги в жены дочку Заренку? Отдаст – земно поклонится, а не отдаст – убежит с ней. Решил Одинец сделать кольчугу за зиму, до первой воды. А теперь он остался ни при чем. Из Города его выгнала нежданная беда. Не видеть ему ни Верещаги, ни девушки.
Размышляя, он сучил в ладонях нитки и свивал одну с другой. Навил несколько прядок, отскоблил от ствола сосны кусочек смолы, размягчил его теплом руки и скатал со смолой заготовленные прядки. Получилась веревочка, плотная и крепкая, как оленья жилка. На концах Одинец сделал по петле.
Цепляясь за сосну, он поднялся. Трудно ходить. Ступишь – и в ноге боль бьет в колено и ступню, поднимается до пояса. Он кое-как добрел до холмика, лег грудью, набрал вялых брусничных ягод и набил себе рот. Мшистый холмик оказался вблизи диким камнем, выросшим из земли. За камнем открылась глубокая яма, налитая свежей водой.
Одинца ломала лихорадка, он пил жадно и много. За камнем теснился густой орешник. Одинец вырезал несколько толстых стволиков, нарвал охапку тонких веток и потащился обратно к двойной сосне, как домой. Там он уселся на обжитом месте, ошкурил самый толстый стволик, острогал и к концам стесал заболонь. Он работал через силу, а всё же лук скоро поспел. Дерево сырое и слабое, ни вдаль не годится стрелять, ни крупного зверя не убьешь, вблизи лишь… Одинец натыкал кругом себя орешниковых веток и затаился за ними. Не то спал, не то грезил наяву.
В чащах порхали рябчики, перелетали добрые птицы дятлы, пестря черно-белым пером. Веверица-белочка взбежала по сосне, завозилась в сучьях и сронила-бросила в человека старую шишку. Глупая синица-щебетуха слетела на воткнутую Одинцом ветку, закачалась и завертела носатой головкой – не понимает, что или кто это сидит под соснами…
Грубо и громко захлопали крылья черного лесного петуха, глухого борового тетерева, который где-то сорвался с дерева. С утра Одинец рассмотрел на поляне глухариный помет. Здоровенная птица свалилась на брусничный холмик, огляделась и принялась жировать. Охотник выждал, пока глухарь не показал хвост, и выпустил тяжелую полутора аршинную стрелу.








