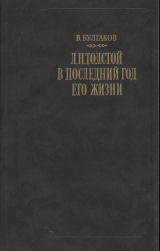
Текст книги "Л. Н. Толстой в последний год его жизни"
Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Так это 3) о том, что может и не должно тревожить тебя о дневниках.
4) Это то, что если в данную минуту тебе тяжелы мои отношения с Чертковым, то я готов не видаться с ним, хотя скажу, что это мне не столько для меня неприятно, сколько для него, зная, как это будет тяжело для него. Но если ты хочешь, я сделаю.
Теперь 5) то, что если ты не примешь этих моих условий доброй, мирной жизни, то я беру назад свое обещание не уезжать от тебя. Я уеду. Уеду, наверное, не к Черткову. Даже поставлю непременным условием то, чтобы он не приезжал жить около меня, но уеду непременно, потому что дальше так жить, как мы живем теперь, невозможно.
Я бы мог продолжать жить так, если бы я мог спокойно переносить твои страдания, но я не могу. Вчера ты ушла взволнованная, страдающая. Я хотел спать лечь, но стал не то что думать, а чувствовать тебя, и не спал и слушал до часу, до двух – и опять просыпался и слушал и во сне… видел тебя.
Подумай спокойно, милый друг, послушай своего сердца, почувствуй, и ты решишь все, как должно. Про себя же скажу, что я с своей стороны решил все так, что иначе не могу, не могу.Перестань, голубушка, мучить не других, а себя, себя потому, что ты страдаешь в сто раз больше всех. Вот и все.
Лев Толстой».
14 июля утро. 1910.
По поручению Льва Николаевича, Александра Львовна отправилась в Телятинки за дневниками и оставалась там очень долго.
Как я узнал от Варвары Михайловны, в Телятинках, в той самой комнате у Сергеенко, где третьего дня произошел наш разговор с Чертковым, спешно собрались самые близкие Черткову люди – его alter ego [228]228
друг, единомышленник; букв, другое «я» (лат.).
[Закрыть]Алеша Сергеенко, О. К. Толстая (сестра Анны Константиновны), Александра Львовна, муж и жена Гольденвейзеры, а также сам Владимир Григорьевич, и все они занялись спешным копированием тех мест в дневнике Льва Николаевича, которые компрометировали Софью Андреевну и которые она, по их мнению, могла уничтожить. Затем дневники были упакованы и отправлены в Ясную Поляну. Чертков, стоя на крыльце телятинковского дома, с. шутливой торжественностью троекратно перекрестил Александру Львовну в воздухе папкой с дневниками и затем вручил ей эти дневники. Тяжело ему было расставаться с ними.
А в Ясной Поляне с таким же волнением и нетерпением ожидала дневников Софья Андреевна. По словам Варвары Михайловны, Софья Андреевна с такой стремительностью кинулась к привезенным дочерью дневникам, что пришлось звать на помощь М. С. Сухотина, чтобы помешать ей повредить тетради, которые и были затем отобраны у нее и опечатаны.
Все это происходило уже под вечер, а день Льва Николаевича протекал своим чередом.
Просмотрев мысли о тунеядстве, Лев Николаевич поручил мне распределить их в книжке по отделам. После завтрака предложил ехать с ним верхом. Садясь на лошадь, вскрикнул, поглядев на меня:
– Ах, студенческая фуражка!..
Я ходил обыкновенно в шляпе и фуражку надел по случаю дождливой погоды.
Поехали в деревню Рудаково, по тульской дороге, за восемь верст от Ясной Поляны. Лев Николаевич хотел посмотреть у тамошнего помещика продающийся деревянный дом, о чем просила Татьяна Львовна, думающая купить и перевезти этот дом на место сгоревшего в Овсянникове.
Было дождливо. Два раза мы останавливались и пережидали дождь: один раз у лесного сторожа и потом в какой‑то лавке. У лесника Лев Николаевич поднялся на крыльцо с навесом, а я пошел поставить лошадей в сарайчик и потом тоже взошел на крыльцо.
Пастух сидел там и курил. Когда мы поехали, Лев Николаевич рассказал, что он стал убеждать пастуха не курить и вина не пить, а тот возразил ему:
– Как же, а доход‑то царю – отечеству?
В Рудаково с полдороги поехали сокращенным путем, лесной тропинкой, но заплутались. Было уже поздно, нужно было торопиться, и мы скакали по полю, отыскивая дорогу.
Вот, наконец, деревня. Лев Николаевич проехал в общественную потребительскую лавку, только что устроенную крестьянами по совету и под руководством П. А. Буланже. Вошел в лавку и посидел, расспрашивая крестьян, как идут дела, и обрадовался, когда узнал, что успешно.
Про дом для Татьяны Львовны вспомнили, уже выезжая из деревни. Нужно было возвращаться на другой конец ее. Но Лев Николаевич, видимо, устал, да и торопился домой, – только смотреть дом не поехал.
Поехали назад другой дорогой, сокращенной. Но опять не совсем удачно, потому что не попали туда, куда хотели. Вернулись по большой дороге, через Скуратово, Овсянниково и Засеку. Все время скакали, и оба приехали в Ясную в мокрых от пота рубашках.
Лев Николаевич так устал или был возбужден, что даже не спал перед обедом.
14 июля.
Отправляясь верхом, Лев Николаевич говорил:
– Жалко, что не вы едете.
Ездил опять в Рудаково, очень устал. Полученные письма не успел прочесть, дал мне:
– Решайте, кому ответить, кому книги послать, какие оставить без ответа. Мы потом посоветуемся.
Приехал из Америки мистер Рокки, друг Брайана [229]229
«Мистер Рокки» – прозвище, которое дали в Ясной Поляне Мэтью Герингу. Он в письме от 11 июня н. ст. просил разрешения посетить Толстого, получив его (т. 82, письмо № 50), приехал и 2дня гостил у него. С американским общественным деятелем У. Брайяном Толстой переписывался, а в 1903 г. принимал его в Ясной Поляне.
[Закрыть] , с рекомендательным письмом от него. Рокки принадлежал к одной из богатейших американских семей, но порвал со своим кругом и ведет очень скромный образ жизни, занимаясь теорией педагогики.
История с дневниками, по – видимому, близится к концу. Лев Николаевич уступил Софье Андреевне: взял дневники у Черткова. Но при этом решил не предоставлять дневников, как предмета спора, ни той, ни другой стороне, а хранить их как бы в нейтральном месте, именно в каком‑нибудь тульском банке.
Когда я стал прощаться, перед уходом домой, Софья Андреевна просила меня передать Владимиру Григорьевичу приглашение быть у них сегодня вечером.
С другой стороны, и от Льва Николаевича я получил письмо для Владимира Григорьевича. Кроме того, Лев Николаевич просил меня передать ему на словах, чтобы он был возможно осторожнее с Софьей Андреевной, не упоминал бы ни слова о дневниках и чтобы воздержался от беседы со Львом Николаевичем наедине, у него в кабинете, ограничившись свиданием с ним в общей комнате.
Он вынул из кармана письмо Владимира Григорьевича и показал фразу, где тот, как оказалось, уже спрашивал, не лучше ли было бы хранить дневники в Ясной Поляне, чтобы, в случае надобности, иметь возможность пользоваться ими для работы.
– Вот такие вещи разве можно говорить?! Пожалуйста, скажите, чтобы ни слова не упоминал о дневниках! Это может вызвать такой взрыв, какого предугадать нельзя. Ведь дневники – это прямо пункт умопомешательства душевнобольного!..
15 июля.
Утром Лев Николаевич говорил о письме, полученном им от петербургского журналиста А. М. Хирьякова:
Какое пустое письмо Хирьякова! Шуточки о самых серьезных и важных предметах. Он не может понять, что познать себя не значит копаться в самом себе, а значит познать свою духовную сущность, которая составляет основу движения жизни. Что значит не иметь религиозно – философского отношения к вопросам жизни! Все мудрецы мира учили, что самопознание имеет глубокое, огромное значение, а Хирьяков с г – жой Курдюковой решили, что это такое глубокомыслие, в которое провалишься и т. д. Бог знает что такое!
Ездили вместе верхом далеко – далеко, сделав большой круг. Открыли новую дорогу: сначала по крутому косогору вверх, по тропинке между молодыми березами, со сверкающими от пробивающегося сквозь листву солнца частыми белыми стволами; потом по глухой дороге, а потом, и главное, по бесконечной узкой просеке, с препятствиями, которые приходилось брать: то склоненные с двух сторон над дорогой и переплетенные ветвями между собой деревья (их объезжали с большим трудом по частому, почти непролазному молодому лесу), то канавы, то крутые спуски и такие же крутые подъемы…
Когда свертывали с дороги в эту просеку, Лев Николаевич произнес свое обычное:
– Попробую дорожку!
На средине я было предложил ему вернуться, но он не хотел.
– Вы совсем не помните этой дорожки, Лев Николаевич? – спросил я через некоторое время, видя, что просеке конца – края нет.
– Совсем не помню.
– Куда же она может вывести?
– Понятия не имею! Куда‑нибудь выедем. Вот это‑то и интересно, куда она выведет.
Все‑таки выехали на дорогу. Вернулись через Овянниково и Засеку. Поехали на Засеке не мимо дач, а в объезд, по лесу.
– Что и требовалось доказать! – воскликнул Лев Николаевич, когда мы благополучно выехали к железнодорожному мосту у станции.
А вечером говорил:
– Мне не хотелось, чтобы мне кричали: «Здравствуйте, Лев Николаевич!» – и я объехал дачи лесом. Какая хорошая тропинка!
Льву Николаевичу прислали приветствие чешские «соколы» [230]230
Было получено письмо от редакции журнала «Сокол» – органа чешской юношеской общенациональной гимнастической организации «Сокол» с просьбой «откликнуться хоть единым словом» (ГМТ)
[Закрыть] . Душан настаивал на ответе им. Лев Николаевич сказал:
– Я не могу выражать сочувствия обществу, которое организует гимнастику: гимнастика – занятие, пригодное только богатым классам, освобождающее их от обязательной, нужной для всякого, настоящей работы.
Сегодня днем имело место «великое событие»: Татьяна Львовна (недавно приехавшая из Кочетов) и сопровождавшая ее Софья Андреевна отвезли наконец в Тулу старые дневники Льва Николаевича и положили их на хранение в тульском отделении Государственного банка. При этом было условлено, что дневники могут быть выданы только Льву Николаевичу или, по его доверенности, М. С. Сухотину.
Вечером Гольденвейзер играл мазурки Шопена. Лев Николаевич прослезился и потом говорил комплименты пианисту. Слышал только его слова: «Каждая нота в полном смысле…»
19 июля.
В Ясной гостит племянница Льва Николаевича, дочь его сестры Марии Николаевны, кн. Е. В. Оболенская.
Из‑за жары в своем кабинете, выходящем окнами на юг, Лев Николаевич занимается в «ремингтонной». Одет в белую парусиновую пару.
Сегодня он получил приглашение участвовать в конгрессе мира в Стокгольме, если не лично, то присылкой доклада. Он шлет доклад, написанный еще в прошлом году, с сопроводительным письмом [231]231
См. прим. 11 к гл. «Май». В этот день Толстой «писал ядовитую статью в конгресс мира», то есть добавление к ранее приготовленному докладу. Сопроводительное письмо было зачитано на заключительном заседании, доклад же не был оглашен из-за несогласия с основными его положениями, а также потому, что он был опубликован в сб. «Л. Н. Толстой. Собрание статей по общественным вопросам за 1909 год» (Лос-Анджелес, 11910).
[Закрыть] .
К своему рассказу «Из дневника», только что напечатанному в газетах, Лев Николаевич написал заключение. Чертков предполагал послать заключение в газеты, с припиской от своего имени о том, что напечатание его было бы желательно для Льва Николаевича. Лев Николаевич изменил приписку Черткова в том смысле, что Чертков считает заключение заслуживающим напечатания и потому посылает его в редакцию с разрешения Льва Николаевича [232]232
«Из дневника» – с таким названием печатался очерк «Благодарная почва» («Речь», «Русские ведомости», 14 июля). После отправления его для публикации Толстой написал заключение (см. т. 38, с. 36), «Заключение» было отправлено вместе с «Письмом в редакцию», составленным Толстым, но подписанным Чертковым: «В тот самый день, когда я посылал вам очерк Л. H. Т, «Из дневника», он написал заключение к этому очерку. Думаю, что эти строки стоят напечатания и потому посылаю их вам, предоставляя вам с разрешения Л. И. воспользоваться ими, как вы найдете нужным» (т. 38, с. 492). С названием «Новый отрывок из дневника Толстого» – заключение и письмо опубликованы – «Речь», 1910, 23 июля.
[Закрыть] .
– Я больше на него сваливаю, – сказал мне Лев Николаевич. – Пишу, что он считает эту вещь стоящей печати… Потому, что я‑то не считаю ее такой. Вы покажите мою приписку Владимиру Григорьевичу: если хочет, пусть ои ее примет, если нет, пусть оставит по– старому.
Во время этого разговора вошла Софья Андреевна и, увидев в руках Льва Николаевича листок с текстом заключения, стала расспрашивать, что это за листок.
Лев Николаевич стал объяснять ей, но она ничего не понимала. «Это письмо Черткову? Зачем Чертков? Можно ли мне переписать? Почему Черткову этот листок, а не тот, который она перепишет?» и т. д. и т. д., – сыпались вопросы один за другим. И в заключение:
– Я все‑таки ничего не поняла!
– Очень жалко, – ответил Лев Николаевич, уже утомленным голосом, и добавил, когда Софья Андреевна вышла, – как только Чертков, так у нее в голове все так путается, и она ничего не понимает, и бог знает что такое!..
Из Москвы приехали к больной Софье Андреевне доктор Д. В. Никитин и психиатр Г. И. Россолимо. За обедом Россолимо и Лев Николаевич вели разговор о причинах самоубийств. Лев Николаевич как на главную причину указывал на отсутствие веры. Россолимо называл причины: экономическую, культурную, физиологическую, биологическую и пр., а также, пожалуй, и отсутствие веры, то есть (перевел он на свой язык) отсутствие «точки, на которую можно было бы опереться». Никак сговориться с Львом Николаевичем он не мог, да и немудрено: говорили они на разных языках, поскольку Толстой скептически относился к медицине как к науке.
Вечером Лев Николаевич вышел к чаю на террасу, Софья Андреевна была занята у себя с докторами.
– Они мне хорошее лекарство прописали, – сказал Лев Николаевич, – которое я с удовольствием проглочу: уехать в Кочеты.
Сегодня врачи еще не составили своего заключения и потому остаются на завтра.
Ввиду того, что отношения между Софьей Андреевной и В. Г. Чертковым продолжают оставаться неровными, Лев Николаевич, чтобы успокоить Софью Андреевну, решил уступить ей и просить Владимира Григорьевича временно не посещать Ясной Поляны. Поздно вечером он позвонил ко мне. Я вошел к нему в спальню, где Душан забинтовывал Льву Николаевичу больную ногу.
– Вы завтра пойдете к Черткову, – сказал Лев Николаевич, – следовательно, расскажите ему про все наши похождения. И скажите ему, что самое тяжелое во всем этом для меня – он. Для меня это истинно тяжело, но передайте, что на время я должен расстаться с ним. Не знаю, как он отнесется к этому.
Я высказал уверенность, что если Владимир Григорьевич будет знать, что это нужно Льву Николаевичу, то, без сомнения, он с готовностью примет и перенесет тяжесть временного лишения возможности видеться со Львом Николаевичем.
– Как же, мне это нужно, нужно! – продолжал Лев Николаевич. – Да письма его всегда были такие истинно дружеские, любовные. Я сам спокоен, мне только за него ужасно тяжело. Я знаю, что и Гале [233]233
А. К. Чертковой.
[Закрыть]это будет тяжело. Но подумать, что эти угрозы самоубийства – иногда пустые, а иногда – кто их знает? – подумать, что может это случиться! Что же, если на моей совести будет это лежать?.. А что теперь происходит, – для меня это ничего… Что у меня нет досуга или меньше – пускай!.. Да и чем больше внешние испытания, тем больше материала для внутренней работы… Вы передайте это бате [234]234
Так звали Владимира Григорьевича домашние.
[Закрыть]. Наверное, мы не увидимся с вами утром.
21 июля.
Пришел я в Ясную во время завтрака, который происходил на площадке для крокета, под деревьями. Вместе со мной подошли к дому двое молодых людей и остановились за кустами. Назвались учениками Тульского городского училища, и старший просил «доложить графу». Лев Николаевич, очень добродушный и милый, расхаживал по двору в белых парусиновых брюках и без верхней рубашки. Попросил принести ему шляпу и в этом виде вышел к ребятам. Потом говорил о них:
– Ничего не читали… Старший, я думаю, плохой: и курит, и пьет, и женщин, наверное, знает; а младший – нет, чистые глаза.
Просил меня дать им книжек, между прочим книжку о половом вопросе.
Ездил кататься со Львом Николаевичем.
Ну, кто меня берет сегодня с собой? – подошел он ко мне с улыбкой.
Ездили долго, опять по новым местам.
Вечером Лев Николаевич говорил, что читал в «Вестнике Европы» статью о «смертниках», то есть приговоренных к смертной казни. Статья произвела на него меньшее впечатление, чем статья о смертных казнях Короленко. В том же журнале он прочел описание случая потопления на Амуре русскими властями трех тысяч китайцев во время осады «боксерами» Благовещенска в 1900 году [235]235
Очерк «Благовещенская утопия». На это событие, потрясшее его, Толстой отозвался начатым в 1906 г. «Письмом к китайцу» (т. 34, осталось незаконченным).
[Закрыть] . Об этом рассказывал уже Льву Николаевичу Плюснин. В журнале Лев Николаевич был неприятно поражен неуместно – шутливым заглавием описания: «Благовещенская утопия».
Вообще же похвалил журнал:
– Там много хорошего.
Сегодня уехали бывшие у Софьи Андреевны доктора.
Г. И. Россолимо установил следующий диагноз болезни Софьи Андреевны:
«Дегенеративная двойная конституция: паранойяльная и истерическая, с преобладанием первой. В данный момент эпизодическое обострение».
Врачи советовали Льву Николаевичу и Софье Андреевне разъехаться, хотя бы на время, и Лев Николаевич принимает этот совет охотно, а Софья Андреевна сердится. Кажутся ей смешными и полученные ею от врачей предписания обычной гигиены: не волноваться, брать ванны, гулять и пр. Она сама считает глубже причины своего недомогания. При таких условиях приезд врачей, пожалуй, не очень поможет.
22 июля.
Принес показать Льву Николаевичу написанное мною большое письмо о боге одному корреспонденту Льва Николаевича, убежденному атеисту, которому однажды я уже писал. Лев Николаевич прочел и похвалил письмо. Между прочим, я касался там вопроса сущности духовной любви. Как формулировать, в чем собственно заключается это чувство? Вопрос этот я задал Льву Николаевичу. Он сказал:
– Я уже много раз формулировал это. Любовь – соединение душ, разделенных телами друг от друга. Любовь – одно из проявлений бога, как разумение – тоже одно из его проявлений. Вероятно, есть и другие проявления бога. Посредством любви и разумения мы познаем бога, но во всей полноте существо бога нам не открыто. Оно непостижимо, и, как у вас и выходит, в любви мы стремимся познать божественную сущность.
Про письмо еще добавил:
– Очень хорошо, что вы отвечаете прямо на его возражения. Показываете, что он не хочет только называть слово «бог», но что сущность‑то эту он все‑таки признает. Назови эту сущность хоть кустом, но она все‑таки есть.
Он сидел на балконе, очень слабый и утомленный. С Софьей Андреевной опять нехорошо, и в доме – напряженное состояние. Вот – вот сорвется – и напряженность разразится чем‑нибудь тяжелым и неожиданным. Невыносимо больно – сегодня как‑то я особенно это чувствую – за Льва Николаевича.
Он хотел поскорей послать меня в Телятинки, – сказать, чтобы Чертков, который опять начал было посещать Ясную Поляну, не приезжал сегодня.
– Идите лучше, скажите это! А то я уверен, что опять будут сцены, – говорил Лев Николаевич.
Но как раз возвращалась в Телятинки одна молодая девушка – финка, приезжавшая оттуда побеседовать со Львом Николаевичем. С нею и отправили письмо Льва Николаевича к Черткову. Вышло так, что финка и В. Г. Чертков разъехались: из Телятинок в Ясную есть две дороги, и они поехали разными. Владимир Григорьевич, ничего не подозревая, явился к Толстым.
Сначала он говорил со Львом Николаевичем на балконе его кабинета. Потом все сошли пить чай на террасу, в том числе и Софья Андреевна.
Последняя была в самом ужасном настроении – нервном и беспокойном. По отношению к гостю, да и ко всем присутствующим держала себя грубо и вызывающе. Понятно, как это на всех действовало. Все сидели натянутые, подавленные. Чертков – точно аршин проглотил: выпрямился, лицо окаменело. На столе уютно кипел самовар, ярко – красным пятном выделялось на белой скатерти блюдо с малиной, но сидевшие за столом едва притрагивались к своим чашкам чая, точно повинность отбывали. И, не засиживаясь, скоро все разошлись [236]236
Когда я вспоминаю об этом вечере, я поражаюсь интуиции Софьи Андреевны: она будто чувствовала, что только что произошло что-то ужасное, непоправимое. В самом деле, как я позже узнал, именно в этот день Львом Николаевичем было подписано в лесу, у деревни Грумонт, тайное завещание о передаче всех его сочинений в общую собственность. Формальной исполнительницей его воли назначалась его младшая дочь, а фактическим распорядителем – В. Г. Чертков. (Последнее назначение оговорено было в особой, составленной самим Чертковым и тоже подписанной Л. Н. Толстым «сопроводительной бумаге» к завещанию). Свидетелями при подписании завещания были: А. П. Сергеенко, А. Б. Гольденвейзер и один из домочадцев Черткова, юноша Анатолий Радынский. Утром я видел у крыльца телятинковского дома Чертковых трех лошадей, оседланных для этих лиц, и был очень удивлен, когда спрошенный мною Радынский отказался сообщить о цели поездки. Кстати сказать, и сам Радынский привлечен был к подписанию завещания в качестве свидетеля совершенно неожиданно для него и даже не знал, что он подписывает. Дело делалось совершенно секретно. В частности, меня не вводили в курс этого дела из опасения, как бы я, при моих постоянных встречах с Софьей Андреевной, случайно не проговорился о завещании. Итак, совершился акт, которого Софья Андреевна боялась больше всего: семья, материальные интересы которой она так ревностно охраняла, лишилась прав литературной собственности на сочинения Толстого после его смерти 14.
[Закрыть].
26 июля.
Вчера и третьего дня Лев Николаевич был нездоров.
Вчера Софья Андреевна ([возбужденная, как всегда) вдруг решила, что она одна уедет из Ясной Поляны в Москву, «может быть навсегда», как она сказала. Она вдруг как‑то стала спокойнее, предобросовестнейшим образом простилась со Львом Николаевичем и с домашними и в коляске уехала в Тулу, чтобы там сесть на скорый поезд. Все думали, что это вполне серьезное намерение и что, очевидно, Софья Андреевна сама почувствовала необходимость успокоиться где‑нибудь на стороне.
Но вот вдруг сегодня она неожиданно возвращается из Тулы в сопровождении Андрея Львовича и его семьи: второй жены (разведенной жены тульского губернатора Арцимовича) Екатерины Васильевны и плодом этого брака – двухлетней дочкой Машенькой, единственного ребенка, которого Лев Николаевич, по его словам, «не мог любить». Он был против развода Андрея с – первой женой, Ольгой Константиновной, и как бы не признавал – в душе – его второго брака. Разумеется, это не мешало Льву Николаевичу, при встречах, быть рыцарски любезным с Екатериной Васильевной.
Софья Андреевна рассказала, что она встретилась с Андрюшей в Туле совершенно случайно и что он уговорил ее вернуться. Нет сомнения, что она подробно поделилась с сыном своими тяжелыми переживаниями. Это видно из того, что Андрей Львович настроен, что называется, «агрессивно». Льву Николаевичу он очень тяжел.
Кажется, и Софью Андреевну и Андрея Львовича томят какие‑то подозрения насчет завещания. Я заключаю это из следующего эпизода.
Я передал Льву Николаевичу для прочтения четыре письма, написанных мною, по его поручению, к разным лицам. Лев Николаевич прочел их и сам принес из кабинета ко мне в «ремингтонную».
– Все очень хорошо! – ласково сказал он при этом.
– А это что, Лев Николаевич? – спросил я, заметив среди писем клочок бумаги с его почерком.
– А это я вам аттестат написал, баллы за письма.
Содержание «аттестата», набросанного карандашом:
«Блатову – вполне хорошо.
Тучаку – тоже.
Трушову – тоже.
Кабанову – тоже».
– Ну вот, теперь я буду с «аттестатом», – пошутил я.
– Да, да, – ответил Лев Николаевич.
Этот разговор наш, очевидно, был подслушан. Когда я, вскоре после этого, столкнулся с Софьей Андреевной, она вдруг спросила меня:
– Какой это вы документ подписали для Льва Николаевича?
– Я?! Документ?! Никакого!
– Нет, нет, вы говорили, что вы подписали исторический документ и что вы будете теперь историческим человеком!..
– Я, Софья Андреевна?! Уверяю же вас, что вы ошибаетесь, и я решительно никакого документа не подписывал!
– Совсем никакого?
– Совсем никакого!..
Тут я вспомнил про «аттестат».
– Вот только о каком документе говорили мы со Львом Николаевичем, – сказал я, вытаскивая из кармана злополучный «аттестат» и показывая его Софье Андреевне.
Я объяснил ей, что это за документ, и она как будто успокоилась.
По поручению А. К. Чертковой, я показал Льву Николаевичу рассказ одного начинающего еврейского писателя, по – видимому не лишенного дарования, с просьбой почитать его в свободную минуту и сказать свое мнение. Лев Николаевич начал читать, но прочел только первые две страницы – рассказ ему не понравился.
– Нет, не видно, чтобы было талантливо, – сказал он. – Что это? «И в этой молитве, жаркой и трепетной, как дыхание умирающего, точно слышалась мольба Даниила из львиного рва, Иосифа из темницы, Ионы…» Фразы…
Душан не окончил прием больных, и я поехал со Львом Николаевичем верхом.
– Поедемте дороги разыскивать! – весело сказал он, садясь на лошадь.
Но ездили немного и новых дорог не разыскали, потому что Душан просил далеко не ездить, утверждая, что Льву Николаевичу это было бы вредно после только что минувшего нездоровья.
28 июля.
Я оказал Льву Николаевичу, что Владимир Григорьевич шлет ему привет и просил сказать, что он хотел бы что‑нибудь слышать от него.
– Скажите ему, – ответил Лев Николаевич, – что я хотел написать ему подробно, но теперь некогда. Передайте так, что у нас теперь тишина, не знаю – перед грозой или нет… Я все чувствую себя нехорошо, и даже совсем нехорошо: печень, желчное состояние… Приехал Сергей Львович, вы видели, что мне приятно, потому что он мне не далек. Было письмо от Тани.
Лев Николаевич поехал с Душаном, но что‑то забыл У себя в комнате, вернулся и, проходя назад через «ремингтонную», сказал мне:
– А про Танино письмо вы скажите, что я с ним не согласен…
Он торопился и уже отвернулся от меня и быстро пошел. Но воротился опять.
– Она пишет, чтобы он уехал. А я по крайней мере думаю, что это совершенно не нужно, и я этого не хочу.
30 июля.
Придя, Узнал, что Лев Николаевич справлялся обо мне. Пошел к нему. Он дал мне письма для ответа.
– Земляки все ваши (письма были из Сибири. – В. Б.).Все хорошие письма.
Об одном письме, интимной исповеди, он рассказывал в зале Софье Андреевне, мне и С. А. Стахович. Хотел сам на него отвечать, но теперь решил отдать мне.
– Думал, что оно более интересное, – сказал он, давая мне указания, как ответить.
Я сказал Льву Николаевичу, что на письмо, которое я вчера передал от него Владимиру Григорьевичу, тот ответит завтра.
– Да оно не требует особенного ответа, – сказал он. – Мне просто приятно слышать его голос, знать о нем, чем он занят, как живет.
Лев Николаевич был как‑то особенно доверчив, и лицо его было совсем открыто.
Я не уходил. Когда бываешь наедине с дорогим, близким человеком, то иногда, уже после того как все переговорено, ясно чувствуешь, что нужно еще подождать, потому что назрела между вами потребность более серьезного задушевного общения, чем только деловое. Бывает особенно приятно сознавать присутствие друг друга, и хочется воспользоваться эт. им моментом, чтобы перекинуться несколькими теплыми, серьезными, соединяющими души мыслями, словами, хотя заранее ничего и не готовилось к такому разговору.
Кажется, такой момент был этот.
– Что бы вам еще рассказать? – задумался Лев Николаевич:
– Бирюковы приехали к вам.
– Да, да… Я очень, очень им рад. Павла Ивановича я давно не видал, и мне очень приятно с ним.
– У нас сейчас все спокойно, – продолжал, помолчав, Лев Николаевич. – Я понял недавно, как важно в моем положении, теперешнем, неделание! То есть ничего не делать, ничего не предпринимать. На все вызовы, какие бывают или какие могут быть, отвечать молчанием. Молчание – это такая сила! Я на себе это испытал. Влагаешь в него (в противника. – В. Б.) самые сильные доводы, и вдруг оказывается, что он вовсе ничего… то есть тот, кто молчит: представляешь себе, что он собирает все самые веские возражения, а он – совсем ничего… На меня по крайней мере молчание всегда так действовало… И просто нужно дойти до такого состояния, чтобы, как говорит евангелие, любить ненавидящих вас, любить врагов своих… А я еще далеко не дошел до этого…
Он покачал головой.
– Но они все это преувеличивают, преувеличивают…
По – видимому, Лев Николаевич разумел отношение Владимира Григорьевича, Александры Львовны и других близких людей к поведению Софьи Андреевны.
– Наверное, Лев Николаевич, вы смотрите на это как на испытание и пользуетесь всем этим для работы над самим собой?
Да как же, как же! Я столько за это время передумал!.. Но я далек еще от того, чтобы поступать в моем положении по – францисковски. Знаете, как он говорит? Запиши, что если изучить все языки и т. д., то нет в этом радости совершенной, а радость совершенная в том, чтобы когда тебя обругают и выгонят вон, смириться и сказать себе, что это так и нужно, и никого не ненавидеть. И до такого состояния мне еще очень, очень далеко!.



