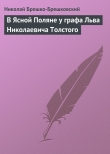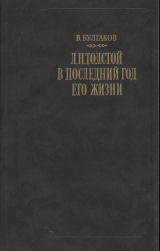
Текст книги "Л. Н. Толстой в последний год его жизни"
Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
– Да, да, ведь их так много пишется, что познакомиться со всеми ими никак не возможно.
– Нет, – с увлечением восклицает Ге, – это именно такая книга, какие очень редко встречаются! Он говорит в ней, что религиозная истина заключается не в каком‑нибудь отдельном веровании – в католичестве, в протестантстве, – а во всех них, только надо извлечь ее… Это – вера!
– Это что же: la loi и la croyance? [205]205
вера и вероисповедание? (фр.)
[Закрыть]
– Да.
– Да, но ведь только это – такие трюизмы…
– Трюизмы, да, для нас да, но для всего современного общества это не трюизмы, а для них это очень важно!..
Говорили о том, что фельдмаршал Милютин поправился и по – прежнему сам убирает свои комнаты.
– Как это трогательно! – заметил Лев Николаевич.
Ездил с Львом Николаевичем верхом. Долго, по лесу больше. Как он говорил, проехали верст двадцать.
Между прочим, вот программа всех верховых прогулок Льва Николаевича, от которой он отступает очень редко: выехать на дорогу, затем свернуть с нее в лес или в поле, в лесу пробираться по самым глухим тропинкам, переезжать рвы и заехать таким образом очень далеко; затем заблудиться и, наконец, искать дорогу в Ясную, спрашивая об этом у встречных, плутать, приехать утомленным. Спрашиваешь: «Устали, Лев Николаевич?» – «Нет, ничего», – неопределенным тоном. Или очень определенно, только одно слово: «Устал!»
И сегодня так все именно было. Ответ по возвращении: «Устал!»
Я удостоился сегодня ехать на Дэлире, который опять подкован. Сильная, горячая лошадь, но очень покойная для седока.
28 мая.
Опять поехал с Львом Николаевичем, но не на Дэлире, на котором ехал он сам.
Сегодня немного проедем, – говорил Лев Николаевич. – Впрочем, я говорю – немного, а как поедешь, опять далеко уедешь.
Ездили меньше вчерашнего, – по вычислениям Льва Николаевича – верст двенадцать. Программа та же.
Жаркий день. Зелень, зелень, зелень. Голубое небо.
Лев Николаевич все восхищается.
За обедом шепотом говорит сидящему рядом H. Н. Ге:
– Я думаю, через пятьдесят лет люди будут говорить: представьте, они могли спокойно сидеть и есть, а взрослые люди ходили, прислуживали им, подавали и готовили кушанье!..
– Ты о чем? – спросила Софья Андреевна. – О том, что они подают?
– Да, – и Лев Николаевич повторил то же вслух.
Софья Андреевна стала возражать.
– Да я это только ему сказал, – произнес Лев Николаевич, указывая на Ге. – Я знал, что будут возражения, а я совсем не хочу спорить.
Рассказывал о письме Черткова, в котором он сообщает, что приедет артист Орленев, который хочет посвятить себя устройству народных спектаклей. Очень заинтересован. Говорил, что хотел бы очень написать для Орленева пьесу, но вот – не может.
Говорили о памятнике Гоголю в Москве [206]206
Чертков в письме от 26 мая из Крекшина сообщал: «На этих днях к нам в Телятинки приедет известный артист Орленьев (Павел Николаевич). Мы с ним познакомились и сошлись в Англии. Там и в Америке он со своей труппой имел большой успех… Еще в Англии он увлекся проектом передвижного народного театра, с которым он переезжал бы с места на место, давая представления в деревнях, в амбарах и под открытым небом… Он жаждет одного только – успокоить свою совесть, сознающую всю незаконность его положения и всю пустоту той публики, которую он «потешает», с тем, чтобы отдавать хоть часть своих сил и своего времени попытке внести хоть немного радости в крестьянскую среду и, главное, самому себе доставить радость подышать одним воздухом с простым рабочим народом» (т. 58, с. 397).
[Закрыть] . Сергей Львович взялся доказать, что он никуда не годится. Между прочим, он говорит, что Гоголь представлен в памятнике не в полном расцвете сил, как следовало бы, а в период упадка. Расцвет же сил Гоголя – это время написания «Мертвых душ».
– Если бы Гоголь сжег не вторую, а первую часть «Мертвых душ», то ему, наверное, и памятника бы не поставили, – привел Сергей Львович слова, как он сказал, Л. М. Лопатина, профессора философии Московского университета.
H. Н. Ге заявил, что памятник ставился для городской толпы и потому так вычурен, а если б он ставился «для народа», то был бы яснее, понятнее, именно это был бы Гоголь – автор «Мертвых душ».
– А я скажу, – с необыкновенным волнением, какое мне приходилось редко наблюдать в нем, произнес до сих пор молчавший Лев Николаевич, – что народу все эти «Мертвые души» и прочие художественные произведения Гоголя вовсе не нужны. Он скажет: это выдумка, значит, вещь ненужная, забава. А народ знает Гоголя совсем с другой стороны и только это в нем ценит. А все эти выдумки Гоголя ему вовсе не интересны и не нужны!..
Вечером я уехал на новое, вернее – на старое местожительство– в Телятинки.
29 мая.
В Ясной – тяжелая семейная история. Рассказывал ездивший туда Дима Чертков.
Софья Андреевна стала жаловаться Льву Николаевичу, что ей все надоело, что она не может заниматься хозяйством и т. д. Лев Николаевич предложил ей бросить эти скучные занятия, а если в Ясной Поляне нельзя ими не заниматься, то уехать куда‑нибудь. Это обидело Софью Андреевну, и она ушла в поле, где будто бы лежала в канаве. За ней послали лошадь и привезли ее домой. Лев Николаевич боится, как бы Софья Андреевна чего‑нибудь не сделала над собой, взволнован, и это волнение вызвало у него перебои сердца.
Очень грустно за него, – грустно, что и он, при всем своем величии, да еще в преклонные годы, не избавлен от таких сцен.
30 мая.
Был в Ясной. Когда пришел, все сидели за завтраком на террасе. Я подошел к Софье Андреевне и стал обходить, здороваясь, сидящих за столом.
– Точно чужой, – заметил, улыбаясь доброй улыбкой, Лев Николаевич.
Тут же были новые гости: скульптор князь Паоло Трубецкой и его жена.
Лев Николаевич потом говорил мне о Трубецком:
– Очень интересный человек. Действительно, он ничего не читает, но мыслящий человек и умный. Вегетарианец. Говорит, что животные живут лучше, чем современные люди. Он был очень мил – приехал неза тем, чтобы лепить, а просто, но потом увлекся и будет лепить.
Я спросил Льва Николаевича о здоровье. Он ответил, как бы угадывая мою мысль:
– Хорошо. Вчера у нас было нехорошо, а сегодня все хорошо.
Дал мне несколько писем для ответа. Потом уехал с Трубецким верхом. Сам на Дэлире, тот – на маленькой лошадке, между тем он очень грузный и высокий человек.
Трубецкой действительно очень оригинален. Наружность у него – актера на роли резонеров и благородных отцов, лицо совершенно бритое. Что‑то в нем напоминает и американца. По – русски говорит плохо, потому что с детства жил в Италии и Франции. Жена его – финка или шведка и говорит по – русски, по словам Варвары Михайловны, едва ли не лучше мужа. За столом беседа велась все время по – французски.
31 мая.
Лев Николаевич очень весел. Занимается Трубецким, много говорит с ним. Зовет его «ваше сиятельство».
– Буду его звать: ваше сиятельство. К нему это идет, – смеялся Толстой.
Я думаю, что он именно потому зовет Трубецкого «ваше сиятельство», что последний, как это делается очевидным очень скоро после знакомства с ним, совершенно равнодушен к своему титулу и, наверное, забыл бы о нем, если бы не напоминали другие.
Пока я был в Ясной, Лев Николаевич с Трубецким ездил в Телятинки и потом рассказывал, что Трубецкой был в восхищении от простой, веселой и трудовой жизни телятинковских друзей во главе с Димой Чертковым.
В Ясной Трубецкой не теряет времени: уже сделал небольшой портрет Льва Николаевича маслом и два рисунка карандашом [207]207
[Закрыть]. В свой альбом зарисовал карикатуры на себя и свою жену. Приступить к лепке он пока еще не может, так как глину пришлось выписывать из Москвы, и она еще не получена.
Июнь
2 июня.
Был у Толстых вечером. Приезжала дама, соседка– помещица, делала «визит». Она показалась мне очень порядочной женщиной, но была слишком разговорчива, – по – моему, от робости: она и сама признавалась вслух, что робеет, и я видел, как дрожали ее руки. Вполне светская, с хорошими манерами и французской речью.
Лев Николаевич вошел в «ремингтонную», где я один занимался копированием писем.
– Ужасно меня утруждает эта дама, – проговорил он. – Разговоры, разговоры… Только, чтобы не молчать – прелюбодеяние слова…
И с этой дамой он должен был прощаться любезно, сказать ей что‑нибудь приятное.
В Ясную кто‑то из друзей прислал православный «На каждый день», издаваемый миссионером Скворцовым, в противовес, может быть, сочинению того же названия Льва Николаевича. Лев Николаевич, придя ко мне в «ремингтонную», развернул его и прочел первое попавшееся какое‑то суеверное мудрствование.
– Мне очень нравится, – произнес он, – то, что сказал перед смертью Вольтер, отказавшись от причащения, о чем его просили близкие: я умираю, обожая бога, любя своих друзей и не ненавидя своих врагов и питая отвращение к суеверию.
3 июня.
Трубецкой лепит статуэтку Льва Николаевича верхом на лошади. Лев Николаевич понемногу позирует художнику перед отправлением на прогулку. Лепит Трубецкой на дворе, перед крыльцом. Все смотрят на его работу. Он сам очень увлекается: отходит в сторону, оглядывает свое произведение, восхищается маленькой степной лошадкой Льва Николаевича, на которой он непременно хотел лепить его, обойдя Дэлира. Лошадку эту скульптор находит очень характерной.
Лев Николаевич занят пьесой. Название ее из «Долг платежом красен» он переменил на другое: «От ней все качества». Это – фраза одного из действующих лиц. От ней, то есть от водки.
Дал мне письмо для ответа, который начал писать сам, но не кончил.
Сделав свои дела, я отправился в Телятинки. Лев Николаевич уже уехал верхом в сопровождении Душана. Прощаясь с Трубецким, я задержался и разговорился с ним по – русски. Оказывается, он все‑таки недурно владеет своим родным языком.
– Вы из Телятинок? – спросил он меня. – Как вы хорошо живете!.. Работаете на земле и сами себя прокармливаете? Это лучше всего – жить тем, что дает работа на земле… Вы лучше меня живете. Я живу в городе. Но, – с твердостью произнес он, – я буду так жить, я непременно буду!
Он хотел купить небольшой участок земли и работать на ней. И теперь он питается исключительно растительными продуктами, не употребляя в пищу ни мяса, ни молока и молочных продуктов. Вегетарианцем он стал десять – двенадцать лет назад. Поводом к решению вегетарианствовать послужил следующий случай: однажды, проезжая итальянскую деревню, он видел, как для того, чтобы заставить теленка войти в бойню, ему закрутили хвост и сломали хрящ.
– Никакое животное этого не сделает! – воскликнул Трубецкой.
О молоке же он говорит:
– Зачем нам молоко? Разве мы маленькие, чтобы пить молоко? Это только маленькие пьют молоко.
Как художник, Трубецкой ни к какой школе себя не относит. Считает, что в наше время «нет скульпторов». Родэн и Судьбинин? Оригинально? В чем состоит эта оригинальность? Он изображает женщину с ногой, закинутой на руку (Трубецкой изобразил это), – и все кричат: ах, оригинально!
– Нужно просто делать! – говорит Трубецкой.
Говорит, что творчество художника должно быть свободным. Учить мастерству нельзя. Учитель может только передать ученику свои приемы, между тем талантливый художник должен сам вырабатывать свои. Он рассказал историю своего профессорства в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. К нему записалось сначала сорок учеников, а потом осталось только два, потому что он ничему не учил и за два года был в школе только три раза. Но зато оставшиеся у него два ученика были самые талантливые.
– Отчего я леплю? – спрашивал Трубецкой. – Мне нужны деньги, за это, – указал он на статуэтку Льва Николаевича, стоявшую около, – дают деньги, – и на его лице мелькнула детская, смущенная, застенчивая улыбка. – Но надо редко лепить, – продолжал Трубецкой, – когда самому хочется. Я вижу: натура хорошая, нужно сделать натуру, и я делаю.
– Меня спрашивают, – говорил еще этот, я думаю, единственный в своем роде скульптор: – «Вы скульптор?» Нет, я не скульптор, я – человек.
4 июня.
Ездил в Ясную с Димой Чертковым и баронессой Ольгой Константиновной Клодт. Она – пожилая особа, лет пятидесяти. Близкая родственница русских художников баронов Клодтов. Сама окончила академию по классу живописи, но давно этим искусством не занимается. Она разделяет взгляды Льва Николаевича. Старается жить трудовой жизнью. Долго жила в деревнях среди крестьян, помогая им в работах и обучая детей. Она считает трудовую жизнь более важной и более отвечающей ее религиозному настроению, чем занятие искусством. Очень проста и приветлива со всеми.
В столовой много народа. Шум. Лев Николаевич молча сидит грустный в сторонке.
Где‑то затерялся листок из альбома для автографов одной дамы – итальянки с несколькими автографами каких‑то других знаменитостей, который она прислала Льву Николаевичу для подписи. Лев Николаевич очень беспокоился за этот листок. Ввиду того, что поиски его оказались безрезультатными, решил сам написать итальянке извинительное письмо [208]208
Письмо, адресованное «Неизвестной», – т. 82, № 51
[Закрыть] .
Где предел его снисходительной доброте!
Я спросил у Льва Николаевича, чем он теперь занимается.
– Двумя самыми противоположными вещами: тем, что мне особенно дорого и что так серьезно и важно – предисловием к «Мыслям о жизни», и самой глупейшей вещью – комедией.
О комедии:
– Я теперь бросил ее писать. Комедию гораздо труднее написать, чем философскую статью. Только представить, сколько здесь трудностей! Каждое лицо имеет свой характер, каждое лицо говорит своим языком, столкновения между всеми лицами тоже должны быть естественными. Я так обрадовался, когда узнал от Ольги Константиновны, что Арвид Ернефельт писал своего «Тита» восемь лет. Это понятно.
Лев Николаевич имел здесь в виду не О. К. Толстую, а О. К. Клодт, приходящуюся Ернефельту родной теткой со стороны его матери, тоже баронессы Клодт. «Тит» – драма Ернефельта, недавно шедшая с выдающимся успехом на финской сцене.
О предисловии к «Мыслям о жизни» Лев Николаевич говорил с необыкновенным оживлением:
– Думаю, что теперь скоро кончу. Да, да, мне самому кажется, что это так хорошо. Знаете, как‑то это само собой поднялось у меня, эти три пункта – усилия: против похотей тела – усилие самоотречения, против гордости – смирения и против лжи – правдивости. Это верно! Очень важно, хорошо… Буду кончать! Ну, до свиданья!
5 июня.
Утром в Телятинки пришел крестьянин – писатель С. Т. Семенов и скоро ушел, как‑то незаметно для всех, в Ясную, где я его снова и встретил. В рубашке, в пиджаке. Похож на подрядчика. Жесткое выражение лица, маленькие бледные глаза, рыжеватая клинышком бородка. Лев Николаевич мало говорил с ним. О любви Льва Николаевича к Семенову как к писателю я уже неоднократно упоминал.
Просмотрев мои дела, Лев Николаевич оставил меня обедать.
Трубецкой лепит его. Выходит очень похоже. Фигура Льва Николаевича бесподобна! Особенно голова. Взгляд понимаешь не сразу, а хочется вглядеться в него и так же задуматься. Выражение лица Льва Ни – колаевича на статуэтке Трубецкого напомнило мне чуть – чуть выражение, которое я видел у Льва Николаевича в вагоне, по дороге в Кочеты.
Трубецкой говорит, что я заметил главное достоинство его работы: что у глиняного Льва Николаевича «даже есть глаза».
Лев Николаевич позирует художнику, сидя в кресле или стоя и разговаривая. Трубецкой так деликатен, что не заставляет его ни переходить с места на место, ни поворачиваться, а сам переносит подставку с своей статуэткой: быстрые, тяжелые, неуклюжие, но осторожные, медвежьи движения. Лев Николаевич передразнивал их: согнув колесом руки и ноги, переваливаясь с ноги на ногу, побежал… Засмеялся и бросил.
Видимо, он любит Трубецкого, это «большое дитя», необыкновенного человека.
Идет дурочка Параша, старая толстая женщина с улыбающимся лицом.
– Мажет! – говорит она, указывая на скульптора.
– Здравствуй, Параша! Это кого же он мажет, кто на лошади‑то сидит? – спрашивает Лев Николаевич.
– Да ты! – смеется и закрывает рукавом лицо Параша.
Лев Николаевич рассказывает Семенову:
– Она – девушка. Но с ней однажды случился грех: она забрюхатела. И это Таня рассказывала о ней, очень трогательно, как она доставала белый хлеб, и когда ее спрашивали: куда? – «А малого‑то!» И про малого: «Ишь кобель, ворочается!..» Но, к сожалению, не умела родить. И была девочка, а не «малый». Когда ей говорили, что «что же ты, Параша, еще не родишь?», она отвечала, что как кто теперь полезет, так она его «в морду»! Чудесно! – заливался смехом Лев Николаевич. – Вот кабы все женщины так!
Расстроила его сегодня одна просительница: рыдала и требовала дать ей какое‑нибудь место. Он хотел опять писать письмо в газеты о том, что материальной помощи он не имеет возможности оказывать.
– Хочу перед смертью быть со всеми в добрых отношениях, – говорил Лев Николаевич с волнением, – а мои отказы в материальной помощи их раздражают и вызывают недобрые чувства.
Удовлетворила просительницу Мария Николаевна, жена Сергея Львовича.
8 июня.
Лев Николаевич болен. Хотел приехать в Телятинки, к актеру Орленеву, который здесь, а завтра хотел ехать в Столбовую к Чертковым, но ни того, ни другого не смог осуществить. Орленев был ненадолго у Льва Николаевича, по его приглашению, но не понравился ему, как передавали после.
Орленев – лет сорока двух, но моложавый, живой, стройный, остроумный, однако, на мой по крайней мере взгляд, очень жалкий. Уже не человек, а что‑то другое: не то ангел, не то машина, не то кукла, не то кусок мяса. Живописно драпируется в плащ, в необыкновенной матросской куртке с декольте и в панаме, бледный, изнеженный, курит папиросы с напечатанным на каждой папироске своим именем; изящнейшие, как дамские, ботинки, трость – все дорогое. Читал стихи. Думается: нет, не ему основывать народный театр. Для этого нужен совсем другой человек. Впрочем, у Орленева и замыслы не широкие: один спектакль из семи– для народа.
Ездил в Ясную. Из лакейской, рядом с прихожей, слышатся звуки балалайки. Вхожу и вижу такую картину. Сидят: Дима Чертков, лакей Филя и князь Трубецкой, причем последний, склонив голову и вогнув носки ног внутрь, бренчит на балалайке.
Потом я играл на балалайке на террасе вальс, а Трубецкой с женой вертелся, комически подражая движениям завзятых танцоров. «Еще, еще!» – кричал он, когда я останавливался, не будучи в состоянии от смеха продолжать игру.
Он показывал мне снимки с его модели – проекта памятника Александру II. И этот высокохудожественный проект был отвергнут, а ему предпочтена какая‑то конфетная бонбоньерка! Вечером Трубецкой приехал в Телятинки, к фотографу Тапселю, которому он давал проявлять пластинки со своими снимками. Мы оставили его пить чай. Живо соорудили самовар не в очередь и накрыли стол на дворе на открытом воздухе. Трубецкому нравится, как он говорил, «простота» Телятинок. Рассказывал о своей мечте заниматься земледелием, о варварском приготовлении некоторых мясных блюд, как foie gras [209]209
паштет из гусиной печенки (фр.).
[Закрыть].
– Как это… белое такое… – Он делал руками округлые движения и потом вспомнил: – Гусь!
Сожалел, что Лев Николаевич живет в таких тяжелых условиях. Говорил, что, может быть, через сто лет все будут жить, занимаясь трудом.
И во всех оставил такое милое впечатление, так все с ним сроднились.
9 июня.
Приходил вечером в Ясную. Лев Николаевич дал много писем для ответа. Между прочим, приведу образчик его религиозной терпимости. Один корреспондент пишет, что «принять учение Толстого он не может», но что сочувствует очень учению баптистов, а потому просит Льва Николаевича указать ему адреса баптистов в Москве. Лев Николаевич на конверте так просто и пишет: «указать адреса». Меня удивила эта исключительная внимательность Льва Николаевича:
Говорил мне об Орленеве:
– Совсем чужой человек. Афера… И не деньги, а тщеславие: новое дело…
Особенно поразил Льва Николаевича костюм Орленева и декольте во всю грудь до пупа. О своем разговоре с артистом Лев Николаевич рассказывал:
– Я с ним и так и так – ничего не выходит!
10 июня.
Был в Ясной и ездил с Львом Николаевичем верхом, причем на одном из поворотов в лесу потерял его и вернулись домой мы отдельно. Он вышел, смеясь, к обеду, зная, что я сконфужен. Расспрашивал, где я потерял его, и не успокоился до тех пор, пока ясно этого не понял.
Об Орленеве опять говорил мне:
– До сих пор не могу от него опомниться. Живет человек не тем, чем надо. Это совершенно то же, что проституция.
Читал в юмористическом копеечном журнале «Анекдоты о Толстом», очень остроумные, и весело смеялся над ними.
Говорил, что читает о бехаизме [210]210
Толстой читал присланную ему из Тегерана английскую книгу: Ф е л ь п с М. Жизнь и учение Аббаса Эффенди. Исследование религии бабистов или бехаистов. С предисловием Э. Г. Броу-на (Нью-Йорк, Лондон, 1903). Бехаизм – оппозиционное религиозное учение, возникшее в Персии в середине XIX века, основателем которого был Бехаулла. Толстой относился к нему сочувственно, а бехаисты, в свою очередь, разделяли его аграрную программу и также выдвигали требование уничтожения земельной собственности
[Закрыть] , рассказывал об этой религии и очень высоко отзывался о ней.
Спрашивал о дальнейшей судьбе моей книги «Христианская этика».
– Так было вам много труда, такая интересная работа, – жалко!
То есть жалко, что она не печатается.
Я немного говорил с ним о своем недавнем разговоре с Сергеем Булыгиным и о том, как последний понимает бога. Лев Николаевич не согласен с пониманием бога как существа, и с тем, что возможно «видение» бога.
Опять дал мне для ответа несколько писем и, как очень часто, о некоторых приговаривал:
– Если вам бог на сердце положит, ответьте.
12 июня.
Лев Николаевич наконец собрался в гости к В. Г. Черткову, проживающему в селе Мещерском, близ станции Столбовой, по дороге на Москву. Сопровождали его: Александра Львовна, Душан Петрович, слуга Илья Васильевич и я.
Решили в поезд садиться в Туле, а до Тулы ехать на лошадях. Чудесное утро.
Проезжаем мимо Тульской тюрьмы.
– Вот здесь сидел Гусев, – говорит Душан Петрович.
Вспомнили, что и еще кое‑кто из «толстовцев» сиживал в этом огромном белом с мрачными окнами здании, и тюрьма показалась «своей», близкой.
К. Курскому вокзалу проехали задними, глухими улицами – если не ошибаюсь, по желанию Льва Николаевича, не хотевшего соблазнять туляков своим появлением.
По железной дороге отправился во втором классе, причем к нашей компании присоединился еще японец Д. П. Кониси, бывший вчера у Льва Николаевича в Ясной Поляне и теперь возвращавшийся в Москву! Ехали хорошо. Лев Николаевич по большей части находился в своем маленьком купе, а мы, остальные, теснились в другом таком же купе.
Лев Николаевич, присутствие которого мы невольно чувствовали даже и в другом купе и оттого радовались, несколько раз во время остановок поезда выходил погулять по платформе. Публики ехало немного, и назойливых приставаний не было.
Один раз, во время прогулки, я остановил Льва Николаевича и представил ему только что познакомившегося со мной добродушного пожилого сибиряка – доктора. Доктор из какой‑то газеты узнал, что секретарь Толстого – сибиряк, и, увидав меня, подошел познакомиться с земляком. Лев Николаевич очень приветливо отнесся к сибиряку, и тот был счастлив.
Уже когда мы сошли с поезда на Столбовой и Льва Николаевича окружили встречавшие нас Чертковы, ко мне подошел юноша в фуражке с зеленым околышем и робко попросил передать Льву Николаевичу «привет от ученика коммерческого училища», что я после и исполнил.
Мы – у Чертковых.
Обед. За столом все: и хозяева, и гости, и прислуга. Наш Илья Васильевич робко жмется к сторонке: он не привык к такому порядку.
Лев Николаевич очень наблюдателен. Заметил, что экономка и хозяйка Чертковых Анна Григорьевна, разливавшая суп, «левша». Заговорили о погоде. Встал и прямо подошел к одному из окон – взглянуть на градусник, который уже заприметил.
После обеда сел играть в шахматы с А. Д. Радынским, молодым человеком, одним из сотрудников Владимира Григорьевича по издательским и литературным делам.
– Мы с Сухотиным ровно играем, – говорил Лев Николаевич о шахматах, – только он играет спокойно, а я вот по молодости лет все увлекаюсь.
13 июня.
Дождь, но Лев Николаевич все‑таки гулял утром.
В его комнате, по указаниям его, сделали перестановку мебели. Он тоже помогал. А утром нечаянно пролил чернила и сам стирал их мокрой бумагой с клеенки стола. Позвал меня помочь, потому что нужно было с силой тереть, и мы терли до тех пор, пока клеенка не стала совсем чистой.
Собрались все в столовой. Владимир Григорьевич говорит, что часто приходит ему мысль, что если бы сочинения Льва Николаевича могли распространяться свободно, то как бы усиленно они читались и какое бы влияние оказывали на людей.
– Не думаю, – ответил Лев Николаевич. – Есть такие течения, которые препятствуют входить, – как цензура «Русских ведомостей».
– Да, но потребность религиозная назрела.
– Назрела—το назрела.
Утром Лев Николаевич опять исправил предисловие к «Мыслям о жизни». Оно было переписано, и вечером Лев Николаевич снова сел за него. К чаю он пришел поздно, в одиннадцать часов, и вручил мне вновь исправленное предисловие.
Веселый и оживленный. Быстро заговорил. Говорит, что начал читать «Яму» Куприна, но не мог дочитать, бросил.
– Так гадко! Главное, лишне. Все это можно короче. А тут размазывание. Вот меня сейчас ждут в Ясной Поляне две девушки, приехали просить о местах. Одна из них имеет дар писательства. Но так как содержания она не может дать интересного, то она описывает. И вот описывает судьбу девушки. Очень естественно. У нее ноги вывернуты вот так (Лев Николаевич показал руками. – В. Б.), но такое красивое лицо, милое, нежное. Кто‑то ее соблазнил, потом бросил… И такой рассказ производит гораздо более сильное впечатление, чем все «Ямы». А эти Пречистенские курсы… (Лев Николаевич имел в виду рабочую молодежь с Пречистенских курсов в Москве, бывшую у него недавно [211]211
Имеется в виду посещение 6 июня Ясной Поляны группой учащихся Пречистенских рабочих курсов из 26 человек. Толстой отметил в дневнике: «Очень хорошо с ними говорил» (т. 58, с. 62).
[Закрыть] . – В. Б.). Я им говорю: отделите в литературе все написанное за последние шестьдесят лет и не читайте этого – это такая путаница!.. Я нарочно сказал шестьдесят лет, чтобы и себя тоже захватить… А читайте все написанное прежде. И вам то же советую, молодые люди, – обратился он к нам.
Что же, Пушкина? – говорит Владимир Григорьевич
Ах, обязательно! И Гоголя, Достоевского… Да и иностранную литературу: Руссо, Гюго, Диккенса. А то принято это удивительное стремление – знать все последнее. Как этот? Грут, Кнут… Кнут Гамсун!.. Бьёрнсон, Ибсен… О Гюго же, Руссо – знать только понаслышке или прочитать, кто они были, в энциклопедии и – довольно!..
– Да, кстати, – продолжал он, – я недавно смотрел там о Формозе. Вы имеете представление о том, что такое Формоза? Это остров, которым Япония недавно завладела. Мне рассказывал о нем много Кониси, который постоянно там бывает. Представьте, там встречается людоедство. И как! Трубецкой очень умно сказал, что людоедство есть уже некоторая цивилизация. Людоеды уверяют, что они едят дикарей. А дикарями они считают племена, которые там же живут и питаются только фруктами.
И еще рассказывал Лев Николаевич о слышанном им от японца.
14 июня.
Лев Николаевич ходил в находящуюся поблизости деревню, где у крестьян размещены, под надзором фельдшера, пятьдесят умалишенных из находящейся близ психиатрической лечебницы. Разговаривал с ними. Некоторыми успел заинтересоваться, но, видимо, думал найти для себя в этой прогулке больше интересного, чем нашел, потому что рассказывал о своих впечатлениях без особенного одушевления.
Был доктор Карл Велеминский из Праги, чех, «учитель немецкого языка на реальном училище», как сообщил о нем милый Душан. Он приехал со специальною целью: подробнее ознакомиться с педагогическими взглядами Льва Николаевича. Лев Николаевич уделил ему довольно много времени, в течение которого Велеминский имел возможность расспросить Толстого об его отношении к отдельным научным дисциплинам и к школьному преподаванию вообще.
Об энтографии Лев Николаевич говорил, что ее задача не изучение внешней стороны жизни известной народности, не того, во что люди одеваются, в чем помещаются, а того, во что они веруют, какой смысл придают жизни.
Велеминский задавал свои вопросы на немецком языке, Лев Николаевич отвечал по – русски.
Беседа шла в столовой при всех. Тут же записывали за Львом Николаевичем четверо и даже больше людей: Владимир Григорьевич, Алеша Сергеенко и другие. Этакое старание было даже неприятно, и я нарочно ничего не записывал.
О сборнике киевских студентов по вопросу о самоубийствах Лев Николаевич сказал:
– Наивный сборник молодежи. Самонадеянность: «мы, молодежь»… Между тем молодые люди тогда‑то и хороши, когда они скромны.
Говорил:
– С детьми стоит поработать. Я не столько говорю о маленьких, но вот так, начиная с четырнадцатилетнего возраста. Среди них из ста бывает двое таких, над которыми можно поработать, из которых что‑нибудь выйдет.
Приходили дети из соседнего приюта с цветами для Льва Николаевича. Он благодарил их, а Владимир Григорьевич роздал им портреты Льва Николаевича и книжки.
15 июня.
Лев Николаевич немного нездоров. Приходил директор психиатрической лечебницы из Мещерского, но не был принят. Вечером Лев Николаевич все‑таки вышел в столовую и сел за шахматы с своим постоянным теперешним партнером А. Д. Радынским.
Рассказывал, что читал «Записки лакея» А. П. Новикова [212]212
«Записки лакея, или Правдивая история рабской жизни» – крестьянина А. П. Новикова, знакомого Толстого, где рассказывается о его 26-летней службе лакеем у князя Г. П. Волконского. Часть рукописи была получена и прочитана Толстым еще в апреле 1904 года. В письме автору от 22 апреля он заметил, что в рукописи «прекрасно описаны жизнь в деревенской нужде и потом в глупой барской роскоши» и что «она в высшей степени интересна» (т. 75, с. 85). Полностью сочинение А. Новикова никогда не публиковалось, частично с названием «Народ и господа»– «Свободное слово», 1905, № 17.
[Закрыть] , служившего и у Сухотиных, переписанные на пишущей машинке. Восхищался ими.
– Начал читать и не мог оторваться: так интересно!
По предложению А. К. Чертковой, стали читать «Запйски» вслух. Обязанность эта выпала на мою долю. Играя в шахматы, Лев Николаевич все‑таки внимательно следил за чтением: некоторые места просил пропускать, смеялся при описании комических подробностей барской жизни, наконец исправлял мои многочисленные почему‑то сегодня ошибки в ударениях.
– Не правда ли, как интересно? – спросил Лев Николаевич, когда мы оставили чтение по окончании им шахмат. – Но, к сожалению, у него есть преувеличения в описании барской жизни, преднамеренное сгущение красок…
Попрощался и ушел.
16 июня.
С Чертковым Лев Николаевич осматривал психиатрическую лечебницу в Мещерском. Руководил осмотром директор. И он и все врачи были с гостями очень любезны. Вечером Лев Николаевич делился впечатлениями. Говорил:
– Все‑таки думал, что впечатление будет сильнее, что меня больше взволнует. Должно быть, не сильное впечатление было оттого, что мы видели всех больных сразу, было много интересного… Сильнее бы действовало, если бы мы видели одного больного…
Приятно поразило Льва Николаевича доброе отношение врачей и низших служащих к больным.
– Как это хорошо – доброе отношение к больным, да и ко всем! Ведь вот эта бывшая учительница: я немного стал ей перечить, а как она взволновалась. Она жаловалась, что ей дают не ту пищу, которая ей полезна. Я говорю, что доктора ведь, наверное, знают. А когда стал прощаться, то она мне руки не подала. «Я не могу вам подать руки, потому что мы с вами расходимся во мнениях…»
Говорил:
– Удивительно то, что для врачей больные – это не люди, которых жалеешь, а это тот материал, над которым они должны работать. И, пожалуй, это так и нужно, чтобы не распускаться.
Льва Николаевича интересовало отношение больных к религиозным вопросам. Один, на вопрос, верит ли он в бога, ответил: «Я – атом бога», а другой: «Я в бога не верю, я верю в науку». Второй ответ особенно поразил Льва Николаевича.
Между прочим, по дороге в больницу Льва Николаевича остановил крестьянин.
– Что вам? – спросил Лев Николаевич.
– Да я слышал, что вы счастье отгадываете, – ответил тот.
Он обратился ко Льву Николаевичу как к знахарю. Лев Николаевич сделал то, что мог сделать, объяснил крестьянину свое понимание жизни.
Вообще за эти дни, то есть за время пребывания у Чертковых, Лев Николаевич, по – видимому, чувствует себя очень хорошо. Всегда такой оживленный, разговорчивый. Думаю, что он отдыхает здесь после всегдашней суеты у себя дома. Да и самая сравнительная простота чертковского домашнего обихода, как мне кажется, гораздо больше гармонирует со всем душевным строем Льва Николаевича, чем опостылевшая ему «роскошь», а главное, хоть и не полная, но несомненная аристократическая замкнутость яснополянского дома.