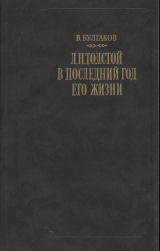
Текст книги "Л. Н. Толстой в последний год его жизни"
Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Ахшарумову Лев Николаевич написал письмо о его стихах [146]146
См. прим. 19 к гл. «Апрель». 20 апреля Толстой написал Ахшарумову: «Несмотря на мое равнодушие к стихам, я прочел ее (то есть книгу «Стихотворения») с удовольствием и с таким же удовольствием вспоминаю то время, о котором вы вспоминаете, и нашем тогдашнем знакомстве» (т. 81, с. 236). Знакомство с Ахшарумовым относится к середине 1850-х годов.
[Закрыть] .
Говорили о журналах для широкой публики – «Жизнь для всех» и «Журнал для всех». Гольденвейзер заметил, что последний привлекает публику хорошим составом печатающейся в нем беллетристики.
– Неужели беллетристика может привлекать? – удивился Лев Николаевич. – Я на старости лет никак этого понять не могу.
Сам Лев Николаевич заговорил о том, что старше его «на деревне» (Ясной) никого нет. Другие перевели разговор на то, что крестьяне стареют раньше, чем «мы».
Я видел, как Лев Николаевич насупился.
– Еще бы, – проговорил он тихо (думаю, вникая больше сам в свои слова, чем желая поделиться ими с другими), – у нас это от ухода за своим телом, а они все измучены…
Гольденвейзер играл очень хорошо, но, к сожалению, немного. Его стеснялись просить, но попросил первый Лев Николаевич. На него музыка опять произвела сильное впечатление.
– Когда хорошее музыкальное произведение нравится, то кажется, что сам его написал, – заметил он после этюда Шопена e‑dur, opus 10.
Гольденвейзер сообщил, что певучую мелодию этого этюда сам Шопен считал лучшей из всех своих мелодий.
– Прекрасно, прекрасно! – восклицал Лев Николаевич по окончании игры, вспоминая те вещи, которые ему больше нравились.
– Если бы, – говорил Лев Николаевич, – мартовский житель пришел и об этом тоже сказал бы, что никуда не годится, то я стал бы с ним спорить. Вот только одно, что это непонятно народу. А я в этом так испорчен, и больше ни в чем, как в этом. Люблю музыку больше всех других искусств, мне всего тяжелее было бы расстаться с ней, с теми чувствами, которые она во мне вызывает.
После говорил:
– Я совсем не слыхал декадентов в музыке. Декадентов в литературе я знаю. Это мое третье психологическое недоразумение (никто не решился спросить, какие два первые недоразумения. – В. Б.). Что у них у всех в головах – у Бальмонтов, Брюсовых, Белых!..
Гольденвейзер обещал приехать на пасху и познакомить Льва Николаевича с декадентами в музыке. Лев Николаевич очень его звал.
Прощаясь со всеми в зале, Лев Николаевич, между прочим, говорил:
– Силы для работы у меня обратно пропорциональны желанию. Иногда нет желания работать, а теперь приходится его сдерживать.
У меня в комнате он подписал письма и, прощаясь, спросил:
– Так письмо и пропало? Совсем, и восстановить нельзя? Это что‑то таинственное, прямо что‑то спиритическое!..
Он засмеялся.
– Ну, прощайте!
И – обычным жестом – быстро поднял руку и опустил ладонь на ладонь.
Сегодня написал Лев Николаевич одно письмо, я думаю – самое краткое из всех, когда‑либо писанных. Вот его содержание: «Ростовы. Л. Т.». Написано оно «ученику III класса Федорову» в ответ на его вопрос, как произносить встречающуюся в «Войне и мире» фамилию Ростовы или Ростовы.
14 апреля.
Утром приезжала некто Бодянская, муж которой за участие в движении 1905 года был осужден сначала на смертную казнь, а потом на шесть лет каторги, – по ее словам, невинно. Она приехала ко Льву Николаевичу с письмом от его знакомого Юшко и просила устроить ей свидание с царицей или со Столыпиным. Лев Николаевич и Татьяна Львовна дали ей письма к гр. Олсуфьеву и С. А. Стахович [147]147
Письма неизвестны
[Закрыть] .
Кроме Бодянской, приезжали фотографы от московской фирмы «Шерер и Набгольц», вызванные Софьей Андреевной, чтобы сделать новую фотографию Льва Николаевича, специально для подготовляемого ею двенадцатого издания Собраний сочинений Толстого. Снимали на террасе. Лев Николаевич очень неохотно позировал.
Получилось письмо от англичанина Истама, секретаря какого‑то «общества мира», – одного из тех «обществ мира», которые как раз к делу мира имеют наиболее отдаленное отношение. Мистер Истам просил Льва Николаевича принять участие в делах общества. Лев Николаевич позвал меня и продиктовал ответ [148]148
Истгем Джон – американский буржуазный пацифист пригласил Толстого участвовать в предстоящем 18 мая в Лондоне пацифистском митинге. В своем ответе от 15 апреля Толстой назвал эту деятельность «отвратительной, возмутительной», так как она прикрывает социальное неравенство и оправдывает колониальную политику, ту, что «держится… войсками» (т. 81, с. 228).
[Закрыть] , резко осудительный по отношению к обществам, именующим себя «мирными» и в то же время отрицательно относящимся к антимилитаризму.
После завтрака Лев Николаевич отправился на верховую прогулку; сопровождал его я.
Выехав из усадьбы, встречаем молодого человека– «моряка», как он отрекомендовался, который, как оказалось, шел как раз ко Льву Николаевичу, чтобы попросить материальной помощи.
Лев Николаевич в мягких выражениях отказал.
– Пожалуйста, не имейте на меня недоброго чувства, – прибавил он.
– Простите! – сказал «моряк». – Простите! – повторил он, галантно приподнимая над головой свою маленькую шапочку.
Мы проехали в Овсянниково. Лев Николаевич посидел некоторое время на террасе домика, занимаемого семьей И. И. Горбунова – Посадова. Иван Иванович, его жена, дети, П. А. Буланже и М. А. Шмидт – все собрались на террасе посидеть и побеседовать с дорогим гостем.
Из того, что говорилось, отмечу слова Льва Николаевича:
– Христос был преждевременен. Учение его настолько противоречило установившимся взглядам, что нужно было извратить его, чтобы втиснуть в эти… (Лев Николаевич не кончил. – В. Б.). И только кое – где оно просвечивает.
Захватили в Овсянникове привезенные Иваном Ивановичем из Москвы корректуры нескольких книжек «Мыслей о жизни».
Вечером приходил С. Д. Николаев, поселившийся с семьей на лето в Ясной Поляне; следовательно, были разговоры о Генри Джордже… Николаев – усердный переводчик и пропагандист Генри Джорджа.
Лев Николаевич припомнил старину. Кто‑то упомянул об «яснополянском Мафусаиле», крестьянине из дворовых Василии Васильевиче Суворове. Лев Николаевич сказал:
– А вот никто не знает, почему его фамилия Суворов. Только я один знаю. У него дед был большой пьяница, и когда напивался, то колотил себя в грудь и говорил: «Я – генерал Суворов!» Его прозвали Суворовым, и так эта фамилия и перешла к его детям и внукам.
И еще Лев Николаевич вспомнил:
– Мне памятна та дорожка, по которой мы ездили сегодня. (Боковая дорожка по лесу от Засеки на Ясную Поляну, вдоль оврага. – В. Б.) Тут в ров полетели однажды дрожечки Володьки, слуги отца, и разбились вдребезги.
Почему‑то заговорили еще о теософии.
– В теософии все хорошо, – заметил Лев Николаевич, – исключая только того, что теософы знают, что на том свете будет и что до этого света было.
Перед уходом Лев Николаевич обратился ко мне:
– Не знаю, как мне книжку назвать. «Грех излишества»… «Грех служения телу»… «Грех служения похотям тела»… Все нехорошо!
Шла речь о заглавии для одной из книжек «Мыслей о жизни».
Я посоветовал: «Грех угождения телу».
– Это лучше, – согласился Лев Николаевич.
Привожу выписку из сегодняшнего письма Льва Николаевича к одному крестьянину – единомышленнику:
«Ты спрашиваешь, нравится ли мне та жизнь, в какой я нахожусь, – нет, не нравится. Не нравится потому, что я живу с своими родными в роскоши, а вокруг меня бедность и нужда, и я от роскоши не могу избавиться, и бедноте и нужде не могу помочь. В этом мне жизнь моя не нравится. Нравится же она мне в том, что в моей власти и что могу делать и делаю по мере сил, а именно, по завету Христа, любить бога и ближнего. Любить бога – значит: любить совершенство добра и к нему сколько можешь приближаться. Любить ближнего – значит: одинаково любить всех людей, как братьев и сестер своих. Вот к этому‑то самому и к одному этому я стремлюсь. И так как, хотя плохо, но понемножку приближаюсь к этому, то и не скорблю, а только радуюсь.
Спрашиваешь еще, что если радуюсь, то чему радуюсь и какую ожидаю радость. Радуюсь тому, что могу исполнить, по мере своих сил, заданный мне от Хозяина урок: работать для установления того царства божия, к которому мы все стремимся» [149]149
Письмо сектанту С. Бессмертному-Козакову (т. 81, с. 226).
[Закрыть] .
15 апреля.
Лев Николаевич получил письмо от известного английского драматурга Бернарда Шоу. На конверте этого письма Толстой сделал пометку: «умное – глупое». В письме своем Шоу остроумничает на темы о боге, о душе и т. п. Лев Николаевич не мог не отнестись отрицательно к этому легкому тону при обсуждении столь важных вопросов, о чем он резко и прямо и заявил в своем ответе английскому писателю, продиктованном мне утром же, на террасе [150]150
Б. Шоу прислал письмо от (14 февраля н. ст. и пьесу «Разоблачение Бланко Поснета. Сцены в аду». Толстой ответил ему, что пьесу «прочел с удовольствием», ее сюжет ему «вполне сочувственен», однако «вопросы о боге и о зле и добре слишком важны, чтобы говорить о них шутя» (т. 81, с. 254).
[Закрыть] .
Я просил у Льва Николаевича позволения написать от себя несколько слов в ответ на одно письмо, оставленное им без ответа, – наивное, но хорошее письмо, с просьбой о высылке денег для покупки фотографического аппарата.
– Сделаете доброе дело, – ответил Лев Николаевич. – Хорошее письмо, но как деньги, так это меня расхолаживает и руки опускаются.
Вечером за столом упомянули о ком‑то, кажется об И. И. Горбунове, что он судится по политическому делу.
– Ныне всякий порядочный человек судится, – сказал Лев Николаевич. – Это как Хирьяков пишет: «Я не достоин этой чести, но принимаю это авансом».
16 апреля.
Был сельский учитель Василий Петрович Мазурин, сочувствующий взглядам Льва Николаевича. Он ему очень понравился.
– Все те же нравственные вопросы, – говорил мне о нем Лев Николаевич: – воспитание детей, целомудрие. Как возникнет один, так за ним поднимаются все другие, по таким расходящимся радиусам…
Сегодня Лев Николаевич нехорош здоровьем. Не завтракал и не хотел ехать верхом. Но потом позвал меня.
– Притворюсь, что будто бы хочу сделать вам удовольствие, – улыбнулся он, успев, видимо, заметить, что езжу я с ним охотно.
Перед этим предлагали ему разные лекарства, но, оказывается, болезнь его (печень, желудок) настолько застарелая, что обычные лекарства уже не производят своего действия.
– Ничего, ближе к смерти, – говорил Лев Николаевич и добавил: – Видишь, как недействительны все эти внешние средства.
Поехали в Телятинки. Проезжая Ясную, Лев Николаевич остановился у одной избы на выезде.
– Где Курносенковы живут?
– Здесь, кормилец, – ответила баба.
– Это тебе Александра Львовна помогает?
– Так точно.
– Так вот на, она велела тебе передать! – И Лев Николаевич дал бабе денег.
Поклоны и благодарности.
– Ну что, муж‑то все хворает?
– Хворает.
– Ну, прощай!
– Прощайте, ваше сиятельство! Покорнейше вас благодарим!
Подъезжаем к следующей избе. У порога сидит, пригорюнившись, баба. Поднимается, идет к лошади и тоже просит помощи.
– Ты чья?
– Курносенкова.
– Как Курносенкова! Я сейчас Курносенковой подал.
– Нет, та не Курносенкова, та такая‑то, – и баба называет другую фамилию.
Лев Николаевич поворачивает лошадь к первой избе. Баба, получившая деньги, продолжает настаивать, что она тоже Курносенкова, но сознается, что Александра Львовна помогает не ей, а ее соседке.
Лев Николаевич просит ее вынести назад деньги, что баба и исполняет охотно, весело улыбаясь, видимо на самое себя. Деньги передаются «настоящей» Курносенковой.
Лев Николаевич едет дальше, опечаленный всей историей и тем, что пришлось у бабы брать деньги обратно.
Позади идут две другие бабы и переговариваются о тех, с которыми мы имели дело.
– Что вы, бабы? – поворачивает к ним лошадь Лев Николаевич.
Те начинают ругать и настоящую Курносенкову, и выдавшую себя за нее. А идут обе в деревню Кочаки, где есть церковь, потому что говеют.
– Нехорошо, – говорит, отъехав немного, Лев Николаевич, – вот уже и зависть, а та хотела обмануть. Это понятно. С одной стороны, нужда, с другой – вот это развращение, церковь.
И он показал рукой в сторону Кочаков, где находится приходская церковь. Я заметил, что все‑таки в народе больше положительных черт, чем отрицательных. В доказательство привел те письма от простых людей, которые получает Лев Николаевич. По письмам этим я впервые узнал ясно, что такое народ и, в частности, русский народ, что за люди в нем есть и какие могучие духовные силы в нем скрываются.
– Еще бы, еще бы! – согласился Лев Николаевич и вспомнил сегодняшнего учителя, человека из трудовой среды. – Ведь откуда берется! – говорил он.
– Вот вы говорите, – сказал Лев Николаевич затем, – что есть люди, которые самостоятельно освобождаются от церковного обмана. Но среди них есть такие, которые все отрицают, а основания у которых остаются все‑таки церковные. Вот я сегодня имел письмо от одного такого материалиста… К ним принадлежит и Бернард Шоу. Отрицая бога, он полемизирует с понятиями личного бога, бога – творца. Рассуждают так, что если бог сотворил все, то он и зло сотворил и т. п. Постановка вопроса – церковная. Влияние церкви тут несомненно. Ведь в религии буддистов, конфуцианцев отсутствуют понятия бога– творца, рая, загробного блаженства; для них эти вопросы не существуют. А у нас есть.
В Телятинках Лев Николаевич зашел в дом Чертковых и посидел некоторое время с друзьями. Поехав назад, мы хотели было пробраться в красивый еловый лесок за деревней, но не могли переехать через ров, Кочак, и через канаву, которой окопана находящаяся здесь помещичья усадьба. Тогда отправились опять по дороге.
Сидя на лошади, я прочел полученное мною в Телятинках письмо от неоднократно уже упоминавшегося мною в дневнике студента М. Скипетрова, знакомого Льва Николаевича. Письмо затрагивало интересовавший меня вопрос – о взаимоотношении духовного и телесного начала в человеке и о возможности гармонического объединения этих начал в жизни и деятельности человека. Я ни разу не собрался предложить об этом прямо вопрос Льву Николаевичу, хотя мнение его мне, разумеется, было бы интересно узнать. Теперь представился повод и удобный случай к этому…
Я догнал Льва Николаевича на своей лошадке, сообщил о получении письма от Скипетрова и попросил позволения поделиться содержанием этого письма:
«Они, – писал Скипетров о Сереже Булыгине и еще об одном из наших друзей, – живут только для бога. Этому я не завидую и к этому не стремлюсь… Моя жизнь должна быть равнодействующей между животной и божеской… Человек должен быть одна прекрасная гармония».
– Как я всегда это говорил, – сказал Лев Николаевич, прослушав меня, – так и теперь скажу, что главная цель человеческой жизни, побуждение ее, есть стремление к благу. Жизнью для тела благо не достигается, жизнь для тела доставляет страдания. Благо достигается жизнью для духа.
Я указал, между прочим, на то, что в своем письме Скипетров стремится везде вместо слова «бог» подставить слово «разум».
– Это от учености, – ответил Лев Николаевич. – Но те, кто еще не освободились от ее влияния, могут, освобождаясь, стоять на нормальном пути. И он стоит на нормальном, как мне кажется.
– Где‑то я читал, – продолжал Лев Николаевич, – что, отказавшись от личного бога, трудно поверить в бога безличного. И это правда. Тот бог может наградить, ему можно молиться, просить его; а чтобы верить в бога безличного, нужно себя сделать достойным вместилищем его… Но хорошо то, что люди ищут. Жалки те, которые не ищут или которые думают, что они нашли.
Яблоневый сад. Лев Николаевич объясняет, как отличать на яблоне листовую почку от цветной.
– По какому поводу, Лев Николаевич, писал вам Шоу? – спрашиваю я.
– Он прислал мне пьесу.
– Хорошая пьеса?
– Плохая. Он пишет, что его вдохновило мое произведение, кажется «Власть тьмы», где изображен какой‑то мужик, пьяница, но который на самом деле лучше всех… Кажется, это во «Власти тьмы»… я не помню… Я совсем свои прежние произведения перезабыл!.. И вот Шоу изображает крестьянина, который украл лошадь и которого за это судят. А взял он лошадь для того, чтобы съездить за доктором для больного. Но здесь недостаток тот, что очень неопределенно чувство, которое он приписывает крестьянину. Он поехал за доктором, но доктор мог и не помочь. Другое дело, если бы он, например, бросился в огонь. Тут уже определенное чувство жертвы собой, чтобы спасти другого.
Вечером за общим столом Лев Николаевич говорил о начале всего по научным теориям, о невозможности бога – творца, о пространственных и временных условиях восприятия, повторяя отчасти то, что говорил мне утром.
– Много же ты, Лев Николаевич, болтаешь! – засмеялся он, вставая из‑за стола. – Нет, нет, шучу, – добавил он тотчас в ответ на чей‑то протест, – мне самому приятно было с вами побеседовать.
– Вот поприще для воздержания, – говорил потом Лев Николаевич, – не судить о правительстве. Я не удерживался от этого, а теперь буду удерживаться.
Стали говорить о русском бюджете. Татьяна Львовна упомянула об имеющихся у нее известных диаграммах проф. Озерова, со статистическими сведениями о доходной и расходной статьях русского бюджета и пр. [151]151
Озеров И.Х Атлас диаграмм по экономическим вопросам. Вып. 1, 2, 5, 6.– М., 1908. Вып. 1.2 с дарственной надписью (ЯПб.).
[Закрыть] .
– Принеси, принеси, я люблю эти цифры, – поддержал ее Лев Николаевич, когда она поднялась было нерешительно со стула.
Стали рассматривать диаграммы.
– Первое, – говорил Лев Николаевич, – что бросается в глаза при введении этих аэропланов и летательных снарядов, это то, что на народ накладываются новые налоги. Это – как иллюстрация того, что при известном нравственном общественном состоянии никакое материальное улучшение не может быть в пользу, а – во вред.
Кончили смотреть. Лев Николаевич сидел задумчиво, откинувшись на спинку стула.
– Да, – произнес он, – как подумаешь, что есть люди, которые не понимают и не хотят понять того, что так ясно, так нужно, то и хочешь умереть.
Наступило молчание. Татьяна Львовна осторожно улыбнулась.
– Ну, я бы из‑за этого не хотела умирать, – сказала она.
– Ты бы не хотела, да я‑то хочу, – возразил Лев Николаевич. – О последствиях не нужно думать. Когда живешь для внешней цели, то в жизни столько разочарований и горя, а когда живешь для внутренней работы совершенствования, то достигаешь блага. Но есть это поползновение думать о последствиях…
Между прочим, для «gens poetarum» придумана такая отписка, которая отпечатана посредством шапирографа на открытках и рассылается теперь в ответ на все стихи: «Лев Николаевич прочел ваши стихи и нашел их очень плохими. Вообще он не советует вам заниматься этим делом».
17 апреля.
– Сегодня у меня мрачное состояние, – говорил Лев Николаевич, – и большая слабость.
Из утренней почты было интересное письмо такого рода. Некто Селевин из Елисаветграда просил указать ему те места в евангелии, которые было бы полезно напечатать на издаваемых им ученических тетрадях. По поручению Льва Николаевича я просмотрел все евангелия, изд. синода, и выписал все то, что соответствует подлинно христианским убеждениям. Лев Николаевич просмотрел письмо, просил прочесть ему два места из отмеченных мною на пробу, одобрил, сделал приписку, указав в ней еще на первое послание Иоан – на, и велел послать письмо. Между прочим, говорил, что ему более нравятся евангелие Матфея (как более подробно излагающее Нагорную проповедь) и Иоанна.
С сегодняшней же почтой получилась книжка журнала прогрессивной группы молодежи на английском языке [152]152
Журнал «The World’s Chinese Student Journal», Шанхай, 1910, с пометами Толстого (ЯПб.).
[Закрыть] . Лев Николаевич очень ею заинтересовался и говорил даже, что если б был молод, то поехал бы в Китай.
– Меня занимают китайцы, – говорил он, – четыреста миллионов людей, которым хотят привить европейскую цивилизацию!
Часа в два, то есть после завтрака Льва Николаевича, в дом явился красивый юноша, поляк, одетый в гимназическую форму, который заявил мне, что он желает переговорить непосредственно с самим Львом Николаевичем по важному вопросу. На мою просьбу, не может ли он сказать, по какому именно вопросу, молодой человек ответил отрицательно. В свою очередь, несколько неожиданно для меня, он обратился ко мне с просьбой ответить, как Лев Николаевич относится к революционерам. Я решил, что передо мною, видимо, один из таковых, и вкратце объяснил, стараясь не обидеть нечаянно молодого человека каким– нибудь резким выражением, что хотя Толстой совершенно отрицательно относится к правительственной деятельности, но тем не менее отрицательно он относится и к деятельности революционной. Молодой человек, казалось, вполне удовлетворился таким ответом и вновь заявил о желании видеть Толстого.
Я передал о нем Льву Николаевичу, и Лев Николаевич спустился на террасу, где поджидал юноша.
Что же оказалось? Вернувшись, Лев Николаевич, с выражением ужаса на лице, сообщил, что юноша этот признался ему, что он – шпион, состоящий на службе у правительства и доносящий властям о действиях революционных кружков, с которыми он близок. Нелепее всего то, что молодой человек ожидал от Толстого одобрения своей деятельности, зачем и приезжал к нему. Лев Николаевич ответил этому необычному посетителю, что доносить на своих товарищей он считает ужасным, нехорошим делом.
Вечером, на круглом столе в гостиной, Лев Николаевич увидел игру, состоящую в раскладывании и подбирании снимков с картин классических живописцев. Он присел и стал рассматривать эти снимки. Ему нравились многие портреты стариков. Попался снимок с рафаэлевской мадонны.
– Не знаю, за что так любят «Сикстинскую мадонну»! – произнес Лев Николаевич. – Ничего хорошего в ней нет. Я, помню, тоже когда‑то восхищался ею, но только потому, что восхищались Тургенев, Боткин, а я им подражал и притворялся, что мне тоже нравится. Но я не умею хорошо притворяться.
Ему гораздо больше нравится «Madonna della Sedia» Рафаэля. Нравятся еще ему следующие картины: «Дочь Лавиния» Тициана («Это не красиво, но, видимо, так похоже»); его же «Кающаяся Мария Магдалина» («Превосходно! Я не про красоту говорю, а про правдивость, в противоположность рафаэлевской искусственности»); «Девушка, считающая деньги» Мурильо («Это восхитительно! Какое выражение, какая правдивость! Это не декадентская картина»); «Францисканец» Рубенса («характерно»); «Монна Лиза Джоконда» Леонардо да Винчи.
Два слова о письмах ко Льву Николаевичу. Почти все они начинаются одной определенной формулой: «Дорогой Лев Николаевич, так как вас беспокоит множество людей и вы получаете множество писем, то… и я вас обеспокою, и я пишу вам письмо». (По началу можно было бы ожидать совсем обратного: так как вас беспокоят многие, то я воздержусь от этого и не буду вас беспокоить.) Если верить письмам, то у Льва Николаевича много учеников: это слово часто присоединяется к подписи. Впрочем, иногда «ученик» ограничивается лишь просьбой выслать от десяти до ста и более рублей. Лучшие и более многочисленные письма – от крестьян и вообще от простых людей.
18 апреля.
Пасха. Лев Николаевич провел день как всегда: занимался до двух часов, гулял и вечером опять занимался.
Утром я спросил его:
– В вас, Лев Николаевич, сегодняшний день никаких особенных чувств не возбуждает?
– Нет, никаких!.. Только жалко, что есть такое суеверие: приписывают этому дню особые значения, звонят в колокола…
Софья Андреевна и другие домашние праздник справляют: одеты нарядно, на столе цветы, пасха, кулич.
Был у Льва Николаевича довольно необыкновенный гость: старый офицер, в парадной форме, в орденах, со шпагой. Он долго сидел у Льва Николаевича в кабинете, спорил с ним о непротивлении и обвинял в непоследовательности. Он – в отставке и живет тем, что читает какие‑то лекции о грамотности. Очень наивный человек. К удивлению остальных домашних, он оказался Льву Николаевичу не особенно в тягость. По окончании разговора со Львом Николаевичем старик выпил кофе, говорил наедине с Татьяной Львовной, растрогался и пешечком ушел обратно на станцию [153]153
Посетителем Толстого был отставной полковник Троцкий-Сенютович, который признался Татьяне Львовне, что им написаны стихи против Толстого за его отход от православия и царского правительства, отпечатанные в тысячах экземпляров. После свидания с писателем раздумал их распространять.
[Закрыть] .
– Хорошо работал, – сказал Лев Николаевич, выходя в два часа в столовую, где, кроме меня, никого не было. – Из «Веры», «Души», «Единения» (книжки «Мыслей») выкинул все о боге. Как я могу говорить о боге, когда еще не определил его (книжка «Бог» следует по порядку после упомянутых. – В. Б.). Это важно для таких людей, как ваш брат интеллигент, которые увидят вначале слово «бог» и от этого все им покажется таким скучным, неинтересным. Я представляю себе такое отношение по тому, как я относился к Сковороде [154]154
Толстой в разные годы изучал философские сочинения Г. С. Сковороды, сочувствовал его мечте о «царстве любви без вражды и раздора». Задуманный им биографический очерк о Сковороде не был завершен (т. 43), его суждения и высказывания включены в сб. «Круг чтения», «Мысли мудрых людей», «На каждый день»
[Закрыть] , когда читал его в молодости: все казалось так скучно. Не знаю почему. Просто не интересовали эти вопросы. Это было во время увлечения художественной, эстетической деятельностью.
Я рассказал Льву Николаевичу, как в ранней юности, после потери наивной, детской веры, мучительно занимали меня вопросы о существовании бога и о бессмертии души. Лев Николаевич с интересом выслушал меня и, в свою очередь, поделился следующими воспоминаниями о собственной духовной жизни в раннюю пору:
– В юности вопросы о боге, о бессмертии души находили на меня порывами. Но особенно меня занимали вопрос о сознании и вопрос о пространстве и времени. Вот я стою, говорю с Булгаковым, все это сознаю, а что то, что это сознает? Это, что сознает, что оно сознает, что сознает, что сознает и т. д. – до бесконечности. И вот это столкновение с бесконечностью приводило – здесь особенно ясно, определенно – к богу, к духовному началу. Вопрос же о пространстве и времени занимал меня тоже очень давно. Но я уже не верил тогда в православие. Смутно помню, что я читал Канта, Шопенгауэра и это им обязан взглядам на пространство и время как формы восприятия. Но, знаете, мысль становится близка только тогда, когда в душе уже сознаешь ее, когда при чтении кажется, что она уже была у тебя, что все это ты знал, когда ты точно только вспоминаешь ее. Так это было со мной и при чтении евангелия. В евангелии я открыл Америку: я не предполагал, что в нем столько глубины мысли, и мне казалось странным, что все это мирится с этими чудесами, церковью, с этой пасхой! И все казалось так знакомо; казалось, что все это я давно знал, но только забыл.
Выйдя на улицу, Лев Николаевич смотрел, как на устланной ковром террасе детишки и их бабушка Софья Андреевна и матери Ольга Константиновна и Татьяна Львовна катали яйца.
Вечером за чаем рассказывал о своей встрече с немецким императором Вильгельмом I.
– Это было в Баден – Бадене. Я был молодой человек, франт. Однажды играл в рулетку, и необыкновенно счастливо. Вышел с целым мешком золота. Иду такой веселый, радостный, и встречаю графа Олсуфьева, деда нынешнего. Идем вместе, и все встречные ему низко кланяются. И мне это так приятно, что я с ним иду. Вдруг смотрю – идет какой‑то господин в наглухо застегнутом сюртуке, и мой Олсуфьев перед ним склоняется вот как!.. Поздоровались, сказали несколько слов и пошли дальше. Спрашиваю, кто такой? Оказывается, наследный принц [155]155
В Баден-Бадене Толстой находился с 24 июля по 3 августа 1857 года н. ст. Факт встречи с Вильгельмом не отражен ни в его дневнике, ни в переписке.
[Закрыть] .
Был разговор о любви. Слова Льва Николаевича:
– Если есть духовная жизнь, то любовь представляется падением. Любовь ко всем поглощает чувство исключительно любви. Начинается чувство исключительной любви бессознательно, но затем возможно разное отношение к нему. Все дело в мыслях: можно или останавливать себя, или подхлестывать. И такое подхлестывание– описания всех Тургеневых, Тютчевых, которые изображают любовь как какое‑то высокое, поэтическое чувство. Да когда старик Тютчев, у которого песок сыплется, влюбляется и описывает это в стихах, то это только отвратительно!.. Это как сегодня был у меня посетитель: говорит о религии, о боге, а я вижу, что ему водки выпить хочется!
Софья Андреевна возражала Льву Николаевичу. После она говорила, что она знает, что Лев Николаевич не испытал настоящей любви.
Уже поздно вечером Лев Николаевич пошел к себе. Потом вернулся и позвал всех на балкон – посмотреть на теплую, звездную ночь. Темные деревья, уже в листве, благоухание и – звезды, звезды…
Мы слишком долго любовались, так что Лев Николаевич, которому хотелось спать, шутливо раскланялся.
– Я вас не задерживаю, господа!
Все ушли, еще раз попрощавшись с ним.
19 апреля.
– Здравствуйте, мой милый! – весело сказал Лев Николаевич, протянув мне руку, когда я утром вошел к нему в кабинет. – Ну, как вы поживаете?
– Очень хорошо.
– Будто хорошо? – усмехнулся он.
В «ремингтонной» в присутствии моем, О. К Толстой и М. А. Шмидт, Софья Андреевна, выйдя из своей комнаты, говорила:
– Лев Николаевич стал теперь гораздо красивее. Раньше у него нос был башмаком, а теперь опустился так, стал прямой. Лицо у него было страстное, беспокойное и задорное, а теперь доброе, милое, кроткое… Он меня никогда не любил так, как я его любила. Я, когда встречаю его или когда он входит ко мне, чувствую: «Ах, как радостно!..» Лев Николаевич говорит, что любовь – падения. Для него любовь и была всегда такими падениями. Но он не чувствовал поэзии любви! Он говорит, что не нужно исключительной любви, но он сам ревновал меня, когда мне было пятьдесят лет!.. А если б я этой исключительной‑то любовью полюбила кого‑нибудь другого, что бы он сделал? Я думаю, застрелился бы! В дневнике у него два раза записано, что если бы я ему отказала, то он за – стрелился бы… Впрочем, конечно, этого не было бы: утешился бы с какой‑нибудь другой…
Часов в одиннадцать утра приехали из Москвы с письмами ко мне и к Льву Николаевичу от общего нашего знакомого японца Кониси двое его земляков: Хорада, директор высшей школы в Киото, и Ходжи Мидзутаки, чиновник министерства путей сообщения, командированный в Россию для изучения русского языка.
Лев Николаевич принял их немедленно и долго разговаривал с ними. И вообще отдал им значительную часть сегодняшнего дня. Уехали японцы поздним вечером.
Из них Хорада старше, солиднее и самоувереннее. Мидзутаки – совсем молоденький, смеющийся и наивный. Хорада – христианин, Мидзутаки – буддист, но тоже близкий к христианству. Но только христиане‑то они особенные: рационалисты и вместе с тем государственники.
С Львом Николаевичем разговаривал больше Хорада, на английском языке. Мидзутаки, недурно говорящий по – русски, больше почтительно слушал. Лев Николаевич много расспрашивал о Японии, высказал свой отрицательный взгляд на стремление Японии к воплощению у себя форм европейской цивилизации и на увлечение японцев милитаризмом, говорил о непротивлении и пассивном сопротивлении.
Когда за завтраком И. И. Горбунов высказал сожаление, что японцы охвачены стремлением подражать европейским государствам, Хорада с достоинством возразил, что их микадо заимствует у разных государств то, что у них есть лучшего.
Были еще посетители: инженер и студент с женами из Петербурга – посмотреть на Л. Толстого и получить его автографы; студент духовной академии и революционер: первый приезжал, чтобы укорить Толстого за то, что он передал родным право собственности на свои сочинения до 1881 года, второй – чтобы увещевать Толстого «проповедовать истину револьвером» (как он мне сам после говорил). Этих двух Лев Николаевич поблагодарил за их наставления, «без которых он жил так долго до сих пор», инженеру со студентом и их дамам дал автографы.
После завтрака Иван Иванович, О. К Толстая и я пошли показывать японцам парк. На одной из скамеек, вижу, сидят студент академии и революционер, которые были у Льва Николаевича. Я подсел к ним, они охотно подвинулись, и мы долго говорили. В результате они ушли примиренные со Львом Николаевичем и почти друзьями со мной. Взяли они и книги Льва Николаевича. Для меня этот день наполнился такой радостью: «помирись с врагом, и ты выиграешь вдвойне: потеряешь врага и приобретешь друга», вспомнил я изречение.



