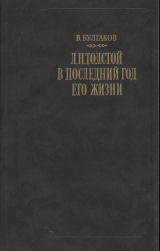
Текст книги "Л. Н. Толстой в последний год его жизни"
Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
И Лев Николаевич представил суетливые движения господина с бакенбардами и засмеялся.
Во время рассказа он тоже все улыбался, причем добродушно и лукаво, исподлобья поглядывал на меня. (Я сидел за столом как раз напротив него.)
– Разве этот человек не безумный?.. У меня это Idйe fixe [221]221
навязчивая идея (фр.).
[Закрыть], грешный человек, я это везде ищу, – продолжал Лев Николаевич.
– А разве не безумный этот знаменитый ученый, как его – Мечников? Я, когда он был тут, один раз, чтобы навести его на нравственные вопросы, заговорил о прислуге, о том, как это безнравственно, что взрослые люди, почтенные, семейные, прислуживают каким– нибудь мальчишкам – гимназистам… Он говорит: «Да, представьте… Приходит ко мне француз и говорит, что у него в доме у всех аппендицит, так что он окружен больными с аппендицитом»…
Лев Николаевич засмеялся.
– Аппендицит, аппендицит – что такое аппендицит? «Я, говорит, отправляюсь к нему…» и что же?.. Там он находит, что у людей, у прислуги, устроены плохо ретирады, так что все оттуда стекает прямо на огород. «Я, говорит, им и говорю: да ведь вы же едите испражнения своих людей!»
Лев Николаевич опять засмеялся.
– Так вот у него только и есть на уме эти испражнения и ретирады…
– Эти иностранные слова! В этих больницах психиатрических, где я никак не мог усвоить деление больных, названия болезней такие, что эпитет состоит из четырех иностранных слов да существительное из двух… Некоторые я понимаю, – ну такие, как dementia или stultitia [222]222
безумие или глупость (лат.).
[Закрыть], – а одна болезнь называется «везания». Уж я и пробирал докторов этой везанией! Спросишь: что это значит – везания? А это, видите ли, так, этак… ни то ни се, а так… Только директор в Троицком объяснил, что, может быть, частица «ве» имеет отрицательное значение, «sanus» – значит здоровый, так что «везания» собственно значит: нездоровье.
Лев Николаевич весело рассмеялся.
– И пробирал же я их этой везанией!..
– Сегодня я чувствую себя так, как будто мне семьдесят лет, – говорил, прощаясь, Лев Николаевич.
– То есть как? – немного удивился я. – Это значит – хорошо?
– Нет, напротив! В самом деле, – говорил он мне и H. Н. Ге, – я никак не могу привыкнуть к мысли, что я старик. И это даже научает смирению. Удивляешъся, почему с тобой говорят с таким уважением, тогда как ты мальчишка, – ну просто мальчишка! Вот каким был, таким и остался!..
26 июня.
Вчера с Софьей Андреевной опять было нехорошо. Не ела, не спала. Чтобы успокоить жену, Лев Николаевич ездил вместе с нею в Овсянниково (сначала хотел ехать один, верхом). Утром Лев Николаевич ходил в деревню, в гости к приехавшим с Кавказа и остановившимся у крестьян своим знакомым, Н. Г. Сутковому с сестрой и П. П. Картушину, но не застал их дома: вчера еще они ушли к Булыгиным в Хатунку вместе с Сережей, приходившим оттуда в Телятинки.
По духу Сутковой и Картушин, по крайней мере в последнее время, близки к учению небезызвестного мистика Александра Добролюбова, вышедшего из интеллигентной среды и имевшего даже причастие к литературе, – личности во всяком случае очень незаурядной, судя по тому, что мне до сих пор удавалось о нем слышать. Оба прошли высшую школу: Сутковой окончил юридический факультет, а Картушин был студентом Высшего технического училища. Теперь они «опростились» и живут, занимаясь разработкой земли, близ Сочи. Редкие по нравственной высоте и идейной чистоте люди. Сутковой старше и оригинальнее. Картушин как бы следует за ним в своих духовных исканиях. К Добролюбову идейный путь их был через Толстого, давнишними почитателями которого они являются.
Беседуя по поводу приезда «добролюбовцев», Л. Н. Толстой восстал именно против мистического в воззрениях Добролюбова.
– Что неясно, то слабо, – говорил он. – То же в области нравственной. Только те нравственные истины тверды, которые ясны. И что совершенно ясно, то твердо. Мы твердо знаем, что дважды два – четыре. Или что углы треугольника равны двум прямым… И зачем, зачем этот мистицизм!
Говорил Лев Николаевич также против обычая «добролюбовцев» употреблять слово «брат» лишь по отношению к единомышленным им людям.
– Они отделяют себя от других людей. Все люди братья.
– Все‑таки их жизнь удивительно последовательна и высока, – заметил Белинький.
– Да как же! – воскликнул Лев Николаевич. – Дай бог, чтобы таких людей было больше!..
Белинький говорил, что при этих словах Лев Николаевич прослезился. Я, по близорукости, не видал.
Между прочим, я передал Льву Николаевичу свой вчерашний разговор о мистицизме с Сережей Булыгиным и мысль последнего: «Я допускаю мистицизм. Например, голос совести есть уже нечто мистическое, а не разум. Но есть граница в допущении мистического: именно мистицизм допускается, пока он не принижает разума».
С этой мыслью Лев Николаевич вполне согласился.
– Превосходно и вполне верно, – были его слова.
27 июня.
В Телятинки ожидалась сегодня мать В. Г. Черткова. Неожиданно приехал и он вместе с ней. Оказывается, что, провожая сюда по железной дороге мать, Чертков уже в Серпухове – крайнем пункте на границе Московской губернии, дальше которого он уже не имел права ехать, – получил телеграмму с разрешением проживать и ему в Телятинках во время пребывания там его матери. Времени же пребывания в Телятинках матери В. Г. Черткова мудрая телеграмма, конечно, не определяла.
Приезд Черткова возбуждает ревность Софьи Андреевны, чувствующей себя вообще все последнее время в болезненно – возбужденном состоянии, а теперь опасающейся, как бы непосредственная близость не усилила «влияния» Черткова на Льва Николаевича.
Придя вечером в Ясную Поляну, я передал Льву Николаевичу о приезде Владимира Григорьевича и его матери в то время, как Лев Николаевич играл в шахматы с Гольденвейзером, а Софья Андреевна сидела около них неотступно, по словам Варвары Михайловны.
Лев Николаевич, выслушав известие, чуть заметно улыбнулся. После я узнал, что он уже слышал это известие от Гольденвейзера. Софья Андреевна не просидела и минуты, взволнованно поднялась, вышла куда‑то и опять вернулась.
Я спросил ее о здоровье.
– Вот сейчас опять в жар бросило… не могу дышать! – сказала она и снова вышла.
– Видите, как это ее взволновало, – сказал Лев Николаевич, обращаясь к Гольденвейзеру.
Чтобы успокоить Софью Андреевну, Лев Николаевич согласился на просьбу жены отправиться завтра вместе с нею в гости к старшему сыну Сергею Львовичу, по случаю дня его рождения. Пока Лев Николаевич гостил в Мещерском, Софья Андреевна занималась ремонтом дома, и теперь она хотела поездкой в имение Сергея Львовича «вознаградить себя», как она сказала Варваре Михайловне, за поездку Льва Николаевича к Чертковым.
Имение С. Л. Толстого Никольское – Вяземское находится в пределах Орловской губернии, как раз по соседству (верст за тридцать пять) от Кочетов. Таким образом, Льву Николаевичу, только что вернувшемуся из поездки к Чертковым и недавно ездившему в Кочеты, предстоит новое, довольно продолжительное путешествие по железной дороге и на лошадях.
Впрочем, поездка в Никольское может расстроиться, если завтра утром приедет Татьяна Львовна, которую здесь ожидают. При том влиянии, которым пользуется Татьяна Львовна у Софьи Андреевны, она могла бы уговорить ее остаться. Лев Николаевич нарочно оставил меня ночевать, чтобы я мог передать Владимиру Григорьевичу, поедет или не поедет он к сыну.
Гольденвейзер играл. Прелюдия Скрябина. Понравилась Льву Николаевичу очень.
– Очень искренне, искренность дорога! – говорил он. – По этой одной вещи можно судить, что он – большой художник. Не правда ли, Валентин Федорович, хорошо?
Вот образчик беспристрастности суждений Льва Николаевича: ведь он говорил это – не угодно ли? – о Скрябине, о декаденте Скрябине, о Скрябине – музыкальном новаторе, именем своим пугающем добродетельных маменек даже и в столицах!
Затем слушали Аренского. Опять понравилось Льву Николаевичу. Он стал припоминать самого композитора, вспомнил место, где он играл с ним в карты, и удивился этому:
– Почему это помнишь?
Гольденвейзер рассказал, что после посещения Аренским Ясной Поляны Лев Николаевич послал ему «Круг чтения», а тот неожиданно скончался, и подарок не успел дойти по назначению.
Шуман, Шопен…
28 июня.
Утром от Татьяны Львовны получилась телеграмма, извещающая, что по нездоровью она приехать не может. Тем самым окончательно решилась поездка Льва Николаевича и Софьи Андреевны в Никольское.
Во время утренней прогулки Лев Николаевич виделся в парке с В. Г. Чертковым, временно, вследствие охлаждения отношений с Софьей Андреевной, воздерживающимся от посещения дома, и беседовал с ним. Ясная Поляна превратилась в какую‑то крепость, с таинственными свиданиями, переговорами и пр.
Итак, отправились в Никольское: Лев Николаевич, Софья Андреевна, Александра Львовна, Душан Петрович, а также H. Н. Ге, продолжающий гостить в Ясной.
На время отсутствия всей семьи я переселился из Телятинок в Ясную, где, кроме меня и прислуги, остается еще только Варвара Михайловна.
Вчера, между прочим, перед тем как дать свой новый рассказ («Нечаянно») Софье Андреевне, Лев Николаевич изменил в нем одну деталь: жену, неприятную высокую брюнетку с блестящими глазами, напоминавшую Софью Андреевну, заменил невысокой голубоглазой блондинкой. Листок рукописи с этой поправкой выпросил себе на память А. Б. Гольденвейзер [223]223
А. М. Добролюбов – один из первых русских поэтов-симво-листов, в начале 1900 г. оставил литературные занятия, переселился в Самарскую губ., где стал заниматься земледельческим трудом. Он проповедовал опрощение, непротивление злу, основал религиозную секту «добролюбовцев». С Толстым виделся в сентябре 1903 г. и в июле 1906 г. Толстой интересовался взглядами и личностью Добролюбова, но относился к нему критически.
[Закрыть] .
В голове – туман от всех этих нелепых историй и обида за Льва Николаевича.
29 июня.
В половине первого ночи вернулись все уезжавшие в Никольское. Лев Николаевич на мой вопрос, как съездили, отвечал:
– Ничего, хорошо. Были маленькие неприятности, но это ничего.
Неприятности, между прочим, состояли и в том, что за приехавшими, по недоразумению, долго не высылали на станцию лошадей. Пришлось ждать на станции чуть ли не четыре часа. Лев Николаевич сначала заводил разговор кое с кем из народа, бывшего на станции, а потом решил пойти в Никольское пешком, с тем чтобы его после догнали на лошадях. Но ошибся и в одном месте свернул не на ту дорогу, причем ушел довольно далеко. Его не сразу нашли…
Июль
1 июля.
История тянется. Между Софьей Андреевной и В. Г. Чертковым возник спор о том, у кого должны храниться дневники Льва Николаевича (кажется, начиная с 1900 года), находящиеся сейчас у Черткова, которому они когда‑то переданы были Львом Николаевичем. Чертков и его близкие уверяют, что если передать дневники на хранение Софье Андреевне, то она может вымарать в них все те места, которые покажутся ей неприятными. Лев Николаевич также против передачи дневников. Настроение неспокойное.
Лев Николаевич сегодня слаб и вял. Верхом не ездил. Позвал меня, чтобы поговорить о письмах. Был в зале, где полулежал на кушетке.
Передавал, что продолжает писать статью о самоубийствах и что для обрисовки безумия современной жизни ему была полезна только что полученная им книга француза Поллака:
– Научная… Здесь и теория эволюции: все эволюирует. Значит, не нужно никакого усилия? – говорил Лев Николаевич.
5 июля.
Сегодня Душан Петрович был занят, и верхом поехал со Львом Николаевичем я. Отправились в Телятинки. Дорогой Лев Николаевич был разговорчив, и мы ехали рядом.
– Я вам когда‑нибудь подробно расскажу, – начал он, – это очень интересно! Получил я сегодня брошюру студента, окончившего несколько факультетов. Научная, «фагоцитоз»… [224]224
Иосиф Чеховской. Научная мечта (электричество – фагоцитоз). – Киев, 191
[Закрыть]
Лев Николаевич засмеялся. Об этой брошюре он рассказывал вечером. Она представляет попытку сделать крайние выводы из всех популярных современных научных теорий – выводы в практической области: так, например, автор утверждает, что женщины не будут рожать как теперь, а дети будут происходить из яиц; что общение между людьми словом, языком заменится общением посредством внушения; что, собрав жизненные силы («фагоцитозы», состоящие, кажется, из «электронов») в одну перчатку, можно, надев эту перчатку, одной рукой поднять невероятные тяжести; что пища будет приготовляться химически и много др. Забавнее всего, что автор всей этой чепухи основывается на авторитете ученых и излагает все это совершенно серьезно.
Рассказывал Лев Николаевич по дороге о пожаре у его друзей М. А. Шмидт и Горбуновых в Овсянникове, уничтожившем их избы, все имущество и ценные бумаги и рукописи. Есть предположение, что пожар был следствием поджога: подозревается в поджоге приехавший издалека и остановившийся у Шмидт некто Репин, бывший военный и затем устроитель земледельческой общины, совершенно ненормальный человек, помешавшийся на том, что он Христос. М. А. Шмидт обвиняли в том, что она в не принадлежащий ей дом (он составлял, так же как и изба Горбуновых, собственность Татьяны Львовны) пустила сумасшедшего. Но Лев Николаевич говорил, что иначе она не могла поступить: ее долг был принять человека, кто бы он ни был, раз он искал приюта. Да и к самому Репину Лев Николаевич относился снисходительно.
– Он сделал только то, – говорил Лев Николаевич, – что мы все думаем: уничтожил внешнее, материальное, что не имеет важности… Я вообще не думаю, чтобы человек мог перестать быть человеком. И у ненормального та же душа, но она только уродливо проявляется.
Жалел только Лев Николаевич жену Репина, которая должна была ухаживать за больным мужем.
– И она беременна от него, – говорил Лев Николаевич. – К счастью, она, говорят, стара для того, чтобы употребить искусственные способы…
Вчера Лев Николаевич смотрел фотографии, снятые Чертковым в Кочетах и в Мещерском. Они очень ему понравились, особенно стереоскопические снимки, которые он и рассматривал в стереоскоп.
– А как хороша та фотография, где мы с вами! – говорил он. – Это даже не похоже на портреты: видно, что заняты делом. Я, помню, просил устроить, чтобы мне можно было просматривать письма в саду… Чертков все говорит о цветной фотографии, но я что‑то не верю, чтобы это было возможно…
В Телятинках Лев Николаевич своим приездом, конечно, доставил всем большую радость. Да и он, я думаю, рад был видеть и Владимира Григорьевича и остальных друзей. Было так приятно видеть его в этой обстановке дружелюбного отношения и уважения к нему.
Я думаю, его радовала теперь, раньше надоедавшая ему, фигурка мистера Тапселя в серой шляпе, по своему обыкновению забегавшего и щелкавшего фотографическим аппаратом со всех сторон. Лев Николаевич даже нарочно проехался лишний раз по двору верхом в сопровождении своего внучка Илюшка, чтобы дать возможность мистеру Тапселю сделать снимок…
Вечером в яснополянском зале собралось большое общество: Лев Николаевич, Софья Андреевна, Лев Львович, H. Н. Ге, М. В. Булыгин, А. Б. Гольденвейзер и позже В. Г. Чертков. Говорили о том же, о чем заговаривал Лев Николаевич со мной по дороге в Телятинки: о брошюре ученого студента, о пожаре у М. А. Шмидт и о Репине. В связи с вопросом о безумии последнего Лев Николаевич говорил, что он прочел обстоятельно две трети поднесенной ему врачами больницы в Мещерском большой книги проф. Корсакова о душевных болезнях [225]225
Корсаков С. С. Курс психиатрии, тт. I. – II.– М., 1901 (с дарственной надписью и пометами Толстого. ЯПб.).
[Закрыть] и при этом часто при чтении не мог удержаться от смеха, – так много в книге несообразностей.
– Представьте только, – говорил Лев Николаевич, – есть восемнадцать разных классификаций душевных болезней, и все они отвергают одна другую. А в каждой классификации свои отделы и разряды, которые тоже не сходятся… Или он ставит вопрос: что такое «я»? И отвечает, что есть ощущения, из ощущений складываются представления, из представлений – умозаключения, и эти умозаключения составляют «я». Ну, а ощущения кто же испытывает? Ведь, должно быть, «я», которое воспринимает их?.. Полная несообразность! И так почти все.
Затем Лев Николаевич дал очень интересное определение состояния безумия. Он говорил:
– Я не согласен с учеными в определении того, что такое душевная болезнь, безумие. По – моему, безумие– это невосприимчивость к чужим мыслям: безумный самоуверенно держится только своего, только того, что засело ему в голову. Моего он не поймет. Есть два рода людей. Один человек отличается восприимчивостью, чуткостью к чужим мыслям. Он находится в общении со всеми мудрецами мира – и древними и теми, которые теперь живут. Он отовсюду собирает впечатления: и от них, и из детства, и из того, что няня говорила… А другой человек знает только то, 4·ого его, что раз пришло ему на ум. Вот как Михаил Васильевич (Булыгин. – В. Б.) рассказывал о каком‑то чудаке, который был уверен, что для того, чтобы освободить душу в человеке, надо отрубить ему голову: тогда душа выйдет через два отверстия – из головы и из сердца… Но это два крайние типа, и вот между ними идут всевозможные градации.
8 июля.
После завтрака поехал со Львом Николаевичем в Овсянниково. Видели пепелище после пожара: на месте двух изб стоят две полуразрушившиеся печки с торчащими трубами. Ребятишки Горбунова весело бегают вокруг.
– Мне часто приходят в голову, – говорил, глядя на них, И. И. Горбунов, – стихи Пушкина:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!
– хотя наше пожарище еще и не гробовой вход… Только, думаю, природа ко мне неравнодушна.
– Нет, «равнодушная природа», – подтвердил, улыбаясь, Лев Николаевич, – равнодушная и красивая. Вот она мне – не равнодушное, близкое, – указал он на девушку, пришедшую за детьми, – а природа – равнодушное.
– Но у вас у самих, Лев Николаевич, есть описания природы, прекрасные, где природа производит впечатление и неравнодушной…
– Обязательно когда‑нибудь перечитаю Толстого! – засмеялся Лев Николаевич.
После пожара Горбуновы ютятся в маленькой избе, в одну комнату; М. А. Шмидт – в каком‑то сарайчике. Заговорили о предполагаемом переезде их в Телятинки к Чертковым, по предложению последних. Они не решаются покинуть Овсжнниково. Как на одну из причин этой нерешительности Мария Александровна указала Льву Николаевичу на «слабую сторону» Софьи Андреевны: нежелание постоянной близости ко Льву Николаевичу его друзей.
Но Лев Николаевич стал горячо заверять Марию Александровну, что на этот раз она ошибается, как он наверное знает, и добавил:
– Не надо думать о других… Вот действительно, крайности сходятся: думать как можно меньше о себе и в то же время не думать о других. Я говорю – «не думать о других» в том смысле, что ничего не предполагать, не предугадывать о них, а делать самому то, что нужно.
На обратном пути через Засеку встретили толпу дачников с только что пришедшего из Тулы поезда. Тут же шел П. А. Буланже, с которым Лев Николаевич, остановившись, перекинулся несколькими словами. Дачники почти все кланялись. С террасы одной дачи, из зелени, слышим торопливый тонкий женский голос:
– Льву Николаевичу привет! Льву Николаевичу привет и почтение!
Лев Николаевич сначала не обращал внимания на крик, потом наклонился слегка и сделал под козырек.
Утром Лев Николаевич дал мне письмо: молодой человек хочет поступить в университет, чтобы избавиться от воинской повинности. «Учиться в университете хуже, чем быть солдатом», – сказал и в этом духе просил ответить юноше Лев Николаевич, желая указать на подневольность солдатчины и на безнравственность вполне сознательного отношения к школе, к науке как к средству пропитания, освобождения себя от труда за счет народа [226]226
Речь идет о письме П. А. Казулина, на котором Толстой написал; «В. Ф. Решить может только он сам. Предполагаемый выход есть выход самый грубый, эгоистический – заставлять других служить вместо себя и сесть учителем или вообще интеллигентом на шею народа. В 100 раз лучше ему идти солдатом» (т. 82, с. 250).
[Закрыть] . А когда мы возвращались из Овсянникова, Лев Николаевич подозвал меня и просил «получше» ответить на это письмо. Как раз вчера был у Льва Николаевича юноша, который передал ему о своем намерении сделать буквально то же самое, что предполагал сделать и упомянутый корреспондент Толстого. Льва Николаевича особенно задевало то, что у обоих спрашивающих и сомнения не возникало в том, что нравственнее. Задевало, что оба рассуждали с чисто эгоистической точки зрения.
10 июля.
Приехали: француз Шарль Саломон из Парижа, давнишний знакомый Толстого, Н. В. Давыдов из Москвы– приват – доцент университета и бывший прокурор Тульского окружного суда, и H. Н. Ге – от Булыгиных, где он теперь живет.
От «Посредника» прислали новую книжку «О воспитании», три статьи Льва Николаевича, написанные в 1909 году. Первая из них – письмо Льва Николаевича ко мне, то самое, которое прислано было Львом Николаевичем в ответ на мой запрос об образовании во время работы над «Христианской этикой» [227]227
См. прим. 2 к гл. «От автора».
[Закрыть] . Письмо это Лев Николаевич прочитал сегодня, и оно ему так понравилось, что вечером он прочел его вслух, – тем более что, как Лев Николаевич сам заметил, вопрос об образовании должен был быть близок Давыдову, состоящему председателем правления Московского народного университета имени Шанявского. Но как Саломон, так и Давыдов выслушали письмо довольно равнодушно. Точка зрения Льва Николаевича едва ли близка им обоим.
Отмечу, что Лев Николаевич всячески подчеркивал свое внимание к Н. В. Давыдову: называл его «такой дорогой гость» и пр. Меня это даже несколько удивило: так редко видел я Льва Николаевича нарочито любезным. Само по себе внимание его к Давыдову понятно: последний связан с семьей старинными дружескими отношениями.
Гольденвейзер много играл: Шуман, Шопен.
– Как я люблю Шумана! – говорит Софья Андреевна.
– Да кто же его не любит? – отвечает Лев Николаевич.
11 июля.
Я ночевал в Ясной. Проснувшись утром, узнал, что ночью в доме был большой переполох. Софья Андреевна, продолжая требовать, чтобы Лев Николаевич взял свои дневники у Черткова, устроила ему бурную сцену. Сначала она лежала на полу его балкона, а потом убежала в парк. Просьбы Душана, H. Н. Ге и Льва Львовича не могли ее заставить вернуться. Она требовала, чтобы за ней пришел Лев Николаевич. Наконец он пришел, и она вернулась.
Нехорошо проявил себя Лев Львович, который грубо кричал на отца, требуя, чтобы он отправился за Софьей Андреевной в парк.
Приехал Сергей Львович. Днем между детьми Толстого происходил совет о том, как предохранить Льва Николаевича от всевозможных неожиданных выходок больной Софьи Андреевны.
12 июля.
В Телятинки к Е. И. Чертковой, матери Владимира Григорьевича, приехал известный баптистский проповедник Фетлер, одетый в длиннополый сюртук и в белую накрахмаленную манишку, и заявил, что он хочет проповедовать крестьянам Ясной Поляны и Телятинок против Толстого. Когда ему стали указывать, что по многим причинам это неудобно, ретивый немец возразил, что на эту проповедь его призывает голос божий.
Когда я, придя в Ясную Поляну, рассказал об этом Льву Николаевичу, он повторил несколько раз:
– Прекрасно, прекрасно!
Впрочем, вечером Фетлер вместе с каким‑то другим приезжавшим с ним баптистом уехал обратно на станцию. Он успел только попроповедовать двум дамам: Е. И. Чертковой и С. А. Толстой, которая была приглашена по этому случаю в Телятинки. Никто из нашей молодежи Фетлер а не слыхал.
А он, по дороге на станцию, разбрасывал пачки баптистских брошюрок и склонял в свою веру правившего лошадью Диму Черткова, соблазняя его тем, что он может быть таким же учеником Христа, как он, Фетлер, или даже более.
Все это забавно, но рядом с этим эпизодом я должен описать другой, в котором уже не только не было ничего забавного, но который, наоборот, произвел на меня самое тяжелое впечатление.
Дело в том, что я должен был возвращаться из Ясной Поляны в Телятинки как раз в то время, когда Софья Андреевна направлялась к Е. И. Чертковой. Узнав об этом, она любезно предложила довезти меня туда, на что я с удовольствием согласился.
В коляске, на рысаках, мы поехали. Софья Андреевна – в изящном черном шелковом костюме, ради великосветской Е. И. Чертковой, друга императрицы– матери Марии Федоровны…
Поехали в объезд, по большаку, чтобы миновать плохой мост через ручей Кочак.
И вот Софья Андреевна всю дорогу плакала, была жалка до чрезвычайности и умоляла меня передать Черткову, чтобы он возвратил ей рукописи дневников Льва Николаевича.
– Пусть их все перепишут, скопируют, – говорила она, – а мне отдадут только подлинные рукописи Льва Николаевича!.. Ведь прежние его дневники хранятся у меня… Скажите Черткову, что, если он отдаст мне дневники, я успокоюсь… Я верну ему тогда мое расположение, он будет по – прежнему бывать у нас, и мы вместе будем работать для Льва Николаевича и служить ему… Вы скажете ему это?.. Ради бога, скажите!..
Софья Андреевна, вся в слезах, дрожащая, умоляюще глядела на меня: слезы и волнение ее были самые непритворные…
Она почему‑то не верила, что я передам ее слова Черткову, и умоляла меня об этом снова и снова…
Я не мог без чувства глубокого сострадания смотреть на эту плачущую, несчастную женщину. Тех нескольких десятков минут, которые я провел с нею в экипаже, я никогда не забуду.
Признаюсь, меня самого охватило волнение, и мне так захотелось, чтобы какою угодно ценою, ценою ли передачи рукописей Софье Андреевне, или еще каким– нибудь способом, был возвращен мир в Ясную Поляну, – мир, столь нужный для всех и особенно для Льва Николаевича!.. В этом настроении я отправился к В. Г. Черткову, когда мы приехали в Телятинки.
Узнав, что я имею поручение от Софьи Андреевны, Владимир Григорьевич, встревоженный, с озабоченным видом, ведет меня в комнату своего ближайшего помощника и непременного советника Алеши Сергеенко. Мы оба усаживаемся с ним на скромную «толстовскую» постель Сергеенко. Тот, с напряженным от любопытства лицом, садится против нас на стуле.
Я начинаю рассказывать о просьбе Софьи Андреевны вернуть рукописи. Владимир Григорьевич – в сильном возбуждении.
– Что же, – спрашивает он, уставившись на меня своими большими, белыми, возбужденно бегающими глазами, – ты ей так сейчас и выложил, где находятся дневники?!
При этих словах Владимир Григорьевич, совершенно неожиданно для меня, делает страшную гримасу и высовывает мне язык.
Я гляжу на Черткова и страдаю внутренне от того нелепого положения, в которое меня ставят, и не знаю: меня ли это унижает, или мне надо жалеть этого человека за то унижение, которому он себя подвергает. Я соображаю, однако, что Чертков хочет посмеяться над проявленной мною якобы беспомощностью, когда– де на меня насела в экипаже Софья Андреевна. Он, должно быть, заметил то волнение, в котором я находился, и раздражился, поняв, что я сочувствую Софье Андреевне и жалею ее.
Собравшись с силами, я игнорирую выходку Владимира Григорьевича и отвечаю ему:
– Нет, я не мог ей ничего сказать, потому что я сам не знаю, где дневники!
Ах, вот это прекрасно! – восклицает Чертков и суетливо поднимается с места. – Так ты иди, пожалуйста!.. (Он отворяет передо мной дверь из комнаты в коридор.) Там пьют чай… Ты, наверное, проголодался… А мы здесь поговорим!..
Дверь захлопывается за мной, щелкает задвижка замка. Я выхожу, ошеломленный тем приемом, какой мне оказали, в коридор. Владимир Григорьевич и Алеша Сергеенко совещаются.
Позже я узнаю, что дневники решено не возвращать.
14 июля.
В Ясной – настроение тревожное. Софья Андреевна категорически требует себе дневники Льва Николаевича за последние десять лет, находящиеся у Черткова, – под угрозой, в противном случае, отравиться или утопиться и т. п.
Лев Николаевич мучается с ней, но переносит это большое испытание очень хорошо. Он готов на все уступки, чтобы успокоить жену. Разумеется, общий мир и согласие для него бесконечно важнее, чем какие бы то ни было бумаги.
Сегодня им написано следующее письмо на имя Софьи Андреевны:
«1) Теперешний дневник никому не отдам, буду держать у себя.
2) Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно, в банке.
3) Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то, не говоря о том, что такие выражения временных чувств как в моих, так и в твоих дневниках никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях, – если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике или просто как бы в этом письме мое отношение к тебе и мою оценку твоей жизни.
Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такие: как я смолоду любил тебя, так я, не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя.
Причины охлаждения эти были… во – первых, всё большее и большее удаление мое от интересов мирской жизни и мое отвращение к ним, тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естественно и в чем я не упрекаю тебя. Это во – первых. Во – вторых (прости меня, если то, что я скажу, будет неприятно тебе, но то, что теперь между нами происходит, так важно, что надо не бояться высказывать и выслушивать всю правду), во – вторых, характер твой в последние годы все больше и больше становился раздражительным, деспотичным и несдержанным. Проявления этих черт характера не могли не охлаждать – не самое чувство, а выражение его. Это во – вторых. В – третьих. Главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты, – это наше совершенно противуположное понимание смысла и цели жизни. Все в наших пониманиях жизни было прямо противуположно: и образ жизни, и отношение к людям, и средства к жизни – собственность, которую я считал грехом, а ты – необходимым условием жизни. Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, подчинялся тяжелым для меня условиям жизни, ты же принимала это за уступки твоим взглядам, и недоразумение между нами росло все больше и больше. Были и еще другие причины охлаждения, виною которых были мы оба, но я не стану говорить про них потому, что они не идут к делу. Дело в том, что я, несмотря на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя.
Оценка же моя твоей жизни со мной такая: я, развратный, глубоко порочный в половом отношении человек, уже не первой молодости, женился на тебе, чистой, хорошей, умной 18–летней девушке, и, несмотря на это мое грязное, порочное прошедшее, ты почти 50 лет жила со мной, любя меня, трудовой, тяжелой жизнью, рожая, кормя, воспитывая, ухаживая за детьми и за мною, не поддаваясь тем искушениям, которые могли так легко захватить всякую женщину в твоем положении, сильную, здоровую, красивую. Но ты прожила так, что я ни в чем не имею упрекнуть тебя. За то же, что ты не пошла за мной в моем исключительном духовном движении, я не могу упрекать тебя и не упрекаю, потому что духовная жизнь каждого челове – ка есть тайна этого человека с богом, и требовать от него другим людям ничего нельзя. И если я требовал от тебя, то я ошибался и виноват в этом.
Так вот верное описание моего отношения к тебе и моя оценка тебя. А то, что может попасться в дневниках (я знаю только, ничего резкого и такого, что бы было противно тому, что сейчас пишу, там не найдется).



