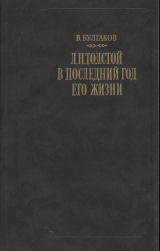
Текст книги "Л. Н. Толстой в последний год его жизни"
Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Обед. Лев Николаевич выходит на террасу, где накрыто в первый раз.
– Что, хорошо? – обращается к нему Софья Андреевна.
– Да нет, нехорошо. Что же на позор выставлять? Ходит народ, все это видит.
Я видел, как огорчилась Софья Андреевна.
– А я думала, что ты скажешь: ах, как хорошо! – тихо говорила она ему за обедом. – Такая природа…
Перед тем как садиться за стол, я рассказал Льву Николаевичу о своем разговоре с двумя его посетителями. Он сказал, что жалеет, что иронически благодарил их за советы, и рад, что мне удалось хорошо поговорить с ними, но что только он сомневается, чтобы на них могло это оказать влияние. «Да дай бог», – присовокупил он.
– Истинный прогресс идет очень медленно, – говорил мне по этому же поводу Лев Николаевич, – потому что зависит от изменения миросозерцания людей. Он идет поколениями. Теперешнее поколение состоит, во– первых, из бар, из таких, с которыми совестно вот здесь обедать, и из революционеров, которые ненавидят их и хотят уничтожить их насилием. Нужно, чтобы оба эти поколения вымерли и заменились новым. Поэтому все– в детях, все зависит от того, как воспитывать детей.
После обеда все пошли на деревню – показывать крестьянам граммофон, что давно задумал Лев Николаевич. Я нес ящик, Иван Иванович – трубу, а Лев Николаевич и Хорада – по свертку с пластинками. Затем установили граммофон на площадке у избы, где помещается библиотека, созвали обитателей деревни Ясная Поляна – и завели машину.
Ставили и оркестр, и пение, и балалайку. Балалайка особенно понравилась. Под гопак устроили пляску, которую Лев Николаевич наблюдал все время с живым интересом. Он вообще был очень подвижен и общителен. Ходил среди публики, разговаривал с крестьянами, знакомил их с японцами, рассказывал тем и другим друг о друге, объяснял мужикам устройство граммофона, читал им либретто песен, поощрял плясунов. Между прочим, его стали расспрашивать о комете Галлея.
– Правда ли, что землю заденет?
– Чепуха, ничего не будет! – отвечал он. – Есть такие люди, которым нечего делать, вот они и вычисляют, когда она пройдет и сколько лет ходит. Да если б и было что, так ничего тут страшного нет, мы все под богом ходим.
– Да это точно так, точно так, – соглашались не только старые, но и молодые.
Возвращался домой Лев Николаевич с одним из своих прежних учеников, Тарасом Фокановым, с которым вел беседу о его житье – бытье и о крестьянских нуждах.
Мидзутаки все удивлялся, что Толстой так близок с простым народом, и говорил, что он никак этого не ожидал.
Между прочим, по поводу пасхи Лев Николаевич получает много поздравительных писем и открыток.
19 апреля.
Лев Николаевич еще гулял, как явился опять бывший у него на пасхе офицер. Стал упорно дожидаться Льва Николаевича. Тот сказал, что он занимается и освободится только к трем часам. Офицер остался ждать до трех часов.
Нельзя ли как‑нибудь этого офицера удалить? – говорил мне после завтрака Лев Николаевич. – Трудно? Главное, вы выведайте у него, есть ли у него какое‑нибудь определенное дело ко мне, какие– нибудь вопросы. Если есть, то я выйду и поговорю с ним, а если нет, то скажите, что я очень занят, что мне нельзя выйти.
Никаких определенных вопросов у офицера не оказалось, но он упорно повторял все одно: что граф обещал принять его в три часа. Лев Николаевич вышел и опять долго с ним говорил. Разговор, как он и сам передавал и как можно было догадаться, был неинтересный, нудный и никудышный. Посетитель опять все обличал Льва Николаевича и старался доказать полезность и нужность своих занятий. Лев Николаевич говорил:
– Это совсем, как вчера Таня рассказывала: хочет оправдать себя и утверждает, что «честное слово, верю».
Татьяна Львовна рассказывала это о художнике Викторе Васнецове: он написал изображение богородицы и, глядя на него, все восклицал: «Честное слово, я в нее верю!»
– Ясно, что он вовсе в нее не верил, – смеялся вчера Лев Николаевич.
Поехать верхом Лев Николаевич решил сегодня на шоссе. Почему? Потому что там на сегодня назначены были автомобильные гонки между Москвой и Орлом. Утром дом – ашние сообщили об этом Льву Николаевичу и просили его не ездить на шоссе. Он же заинтересовался и решил отправиться посмотреть на автомобилистов.
К счастью, по пути нам сказали, что гонки отменены и перенесены на 1 мая.
– Куда бы нам получше поехать? – задумался тогда Лев Николаевич.
Поехали в лес – прямо в сторону полотна железной дороги. По словам Льва Николаевича, он в лесу этом или совсем не бывал, или бывал очень давно.
– Попробуем, – произнес он свое обычное в таких случаях словцо.
Ехали по чудной тропинке.
– Куда эта дорога ведет? – все спрашивал Лев Николаевич. – А, знаю, – и он назвал какую‑то деревню.
Но мы выехали совсем не на деревню, а к полотну железной дороги, вдоль которого по высокому обрыву Лев Николаевич и направил своего Дэлира. Мимо быстро прокатился товарный поезд. Мы заблаговременно подались немного от полотна к кустам, чтобы Дэлир не испугался поезда. Все обошлось благополучно.
Наконец дорогу нам преградила куча старых рельсов, наваленная близ полотна, между лесом и склоном обрыва, и мы свернули в лес. Подъезжаем к глубокому рву. Спуск очень крутой, и на дне – ручей. Лев Николаевич пробует спуститься, но Дэлир не идет, и мы возвращаемся обратно. Опять едем вдоль полотна. Льву Николаевичу хочется переехать на другую сторону, где красивые холмы и среди них вьется хорошая дорожка. Но ров, по дну которого идет железнодорожная насыпь, слишком глубок. В одном месте, у будки путевого сторожа, шла вниз лестница и был мостик через канаву и насыпь. Но перила лестницы загораживали въезд на мостик сбоку. К тому же женщина, сидевшая у окна будки, объявила, что мостик не выдержит лошадей. Если б не перила, Лев Николаевич все– таки поехал бы. Мы уже спустились вниз, но пришлось вернуться. Лошади прыжками вынесли нас вверх по крутому склону. Нечего делать, поехали по той же дороге назад. Лев Николаевич посмотрел на часы.
– Теперь как раз время и домой ворочаться: приедем через полчаса, и будет половина пятого. А я завел привычку в это время спать ложиться.
Свернули опять в тот лес, через который выехали к полотну. Ехали довольно долго и вдруг оказались у того же полотна. Повернули обратно. Как будто выехали на настоящую дорогу.
– Вот и наши следы видно, – показывает Лев Николаевич.
Но вот опять следов не видать. Все‑таки едем. По мнению Льва Николаевича, мы с минуты на минуту должны выехать на дорогу к Засеке. Едем томительно долго. Дорога начинает расширяться, видимо лес должен кончиться.
– Вот тут будет дорога на Засеку, – говорит Лев Николаевич.
Но я обращаю его внимание на глубокий ров, который тянется влево от дороги и, как мне казалось, должен впереди пересечь нам дорогу.
– А ну, поезжайте посмотрите, что там такое, – говорит мне Лев Николаевич.
Я только этого и ждал и пустился галопом вперед.
Я понимал, что он уже должен был быть утомлен длинной дорогой, и мне самому хотелось сделать сначала разведку, чтобы не заставлять Льва Николаевича даром ехать вперед.
Подъезжаю. Действительно, тропинка спускается в огромный овраг. Начинаю спускаться, чтобы посмотреть, можно ли переехать внизу, – лошадь пятится, не идет: спуск слишком отвесный. С досадной мыслью, что ехали так долго и попали в тупик, лечу назад ко Льву Николаевичу, который уже едет мне навстречу, и сообщаю о своем открытии. Он все‑таки едет ко рву. Посмотрел и говорит:
– Ну, это что же! Это хорошо!
И начинает спускаться. Я за ним. Переехали благополучно. Думали, что теперь пойдет ровная дорога, но не проехали и десяти сажен, как наехали на новый ров, такой же глубокий, как первый.
Я в душе приходил в отчаяние; мне казалось, что Льву Николаевичу дорого стоил переезд и через первый ров, а теперь впереди еще такой же, если не хуже. Если бы захотели вернуться назад, то надо было бы опять переезжать первый ров. И очутились мы между двух рвов, как между двух огней: ни вперед, ни назад. И неизвестно куда приедем.
Подъехав ко рву, Лев Николаевич на минуту приостановился, чем я воспользовался и поехал вперед. Лев Николаевич стал спускаться за мной. Внизу Дэлир заартачился, так что Лев Николаевич должен был слезть, а я перевел его лошадь через русло оврага в поводу. Лев Николаевич опять сел на нее, и мы выехали наверх.
Тропинка вьется дальше. Едем быстро.
Проезжаем саженей пятьдесят – опять ров, не менее глубокий и крутосклонный, чем первые два. Лев Николаевич прямо едет вниз. Я предупреждаю его, что деревья по бокам дорожки в одном месте так часты, что трудно проехать при таком неудобном и крутом спуске, не зашибив о них ног.
Лев Николаевич сворачивает в сторону на почти отвесный скат. Я видел, как Дэлир, приседая на спуске, заскользил задними ногами, шурша по листьям. Однако выбрался и отсюда.
Встретили внезапно каких‑то дам, кавалеров. Оказались засековскими дачниками. Тут же нашли проезд на дорогу к Засеке. Только находились мы не вблизи Ясной Поляны, а еще версты за две с половиной от нее.
На дороге встретили толпу нарядных людей. Как объявили они сами, шли они в Ясную посмотреть на Толстого.
– Специально для того шли, чтобы посмотреть на вас, Лев Николаевич! – говорили они, отвешивая Толстому низкие поклоны, точно желая этими словами сказать ему величайший комплимент. Попросили позволения снять его, живо расставили треножник фотографического аппарата, щелкнули и рассыпались в благодарностях.
Лев Николаевич пришпорил лошадь и вихрем понесся вперед. Поехали тише уже около шоссе, когда толпа любопытствующей публики совсем скрылась из виду.
– Как вы, Лев Николаевич, относитесь к таким людям? – спросил я.
– Да что же, если они есть, так нужно их терпеть! Конечно, было бы лучше, если бы их не было…
– Но все‑таки мне кажется, что они приходят к вам с хорошими чувствами.
– Да нет, идут только потому, что обо мне говорят, сделали меня знаменитостью. Им дела нет до того, что во мне. Я записал сегодня, что такие люди в животной жизни отдаются исключительно телесным потребностям: похоти, аппетита. И в этом их вся цель. В человеческих же отношениях они руководствуются тем, что говорят все. У них совсем нет способности самостоятельного мышления.
Мы немного проехали молча.
– Таких людей нельзя обвинять, – заговорил опять Лев Николаевич, – они не понимают и не могут понять, где истинная жизнь и в чем истинное благо. Я хотел написать под заглавием «Нет в мире виноватых» описание всех этих людей, начиная от палачей и кончая революционерами… Описать и эту революцию… Тема эта очень меня интересует, и она заслуживает того, чтобы ее разработать.
– Художественное произведение?
– Да, художественное.
Лев Николаевич помолчал.
– И тема художественная, – добавил он.
– Вы не начинали еще разрабатывать ее?
– Нет еще, не начинал [156]156
Речь идет о повести «Нет в мире виноватых», над которой Толстой начал работать в декабре 1908 года и не раз возвращался к ней и в 1909 году. Повесть осталась незаконченной.
[Закрыть] .
Вечером вспоминали о сегодняшней, полной приключений, поездке.
– Нет, меня особенно поразило, – смеялся Лев Николаевич, – что когда заехали в такую глушь, что, казалось, и выхода из нее никакого не было, – вдруг эти дамы в шляпках, и как много!.. Вся цивилизация!..
Софья Андреевна играла Бетховена. Лев Николаевич, выйдя к чаю, сказал, что слушал ее игру с удовольствием.
Она вся даже вспыхнула.
– Да ты шутишь, – недоверчиво проговорила она.
– Нет, нисколько. Да это adajo в «Quasi una fantasia» так легко…
Как была рада Софья Андреевна!
– Никогда я так не жалею, что я плохо играю, как когда меня слушает Лев Николаевич, – говорила она потом.
Утром Лев Николаевич говорил мне про свое здоровье, что оно слабо. Я высказал предположение, что его утомил вчерашний шумный день (с японцами и граммофоном), но Лев Николаевич возразил:
– Нет, ничего, день был шумный, но приятный!
Ему прислал свои книги Н. А. Морозов, шлиссельбуржец [157]157
Н. А. Морозов прислал Толстому две свои книги «Письма из Шлиссельбургской крепости» (СПб., 1910) и «На границе неведомого» (М., 1910) с дарственными надписями (ЯПб.).
[Закрыть] .
– Удивительная ученость у него! – говорил Лев Николаевич.
Меня уговаривал не раздавать прохожим его запрещенных книг.
– А то смотрите, чтобы не было как с Гусевым [158]158
См. прим. 24 к гл. «Март».
[Закрыть] . Я боюсь.
20 апреля.
Утром рано приехал Михаил Львович, младший сын Льва Николаевича.
А часа в два приехал еще гость.
Я спускался зачем‑то вниз. Вверх поднимается по лестнице Ольга Константиновна и сообщает:
– Андреев приехал!
– Какой? Леонид, иисатель?
– Да.
Давно жданное свидание Толстого с Андреевым, визит Андреева в Ясную, который долго не мог состояться [159]159
Л. Н. Андреев дважды – в сентябре 1907 и в октябре 1909 года, запрашивал разрешение на посещение Ясной Поляны, но, несмотря на полученное согласие, отменял свой приезд
[Закрыть] .
Я бросился вниз, к входной двери. Андреев только что слез с извозчичьей пролетки: красивое смуглое лицо, немного неспокойное, белая шляпа, модная черная накидка – вот что мне бросилось в глаза. Кажется, Лев Николаевич уже был там, не помню хорошо. Произошла какая‑то маленькая суматоха, и когда я осмотрелся, то увидел уже, как Лев Николаевич представлял всех гостю:
– Это моя жена, это мой сын, это Чертков сын…
Рука Л. Андреева, державшая шляпу, немного дрожала.
Все прошли на террасу. От завтрака Л. Андреев отказался. Приказано было подать ему чай.
Начался пустячный разговор. Андреев рассказывал, откуда он приехал, куда едет. Едет он, оказывается, с юга домой, в Финляндию, где у него дача. Рассказывал о Максиме Горьком, которого он видел на Капри.
– Он страшно любит Россию, и ему хочется вернуться в нее, но он притворяется, что ему все равно.
Говорил о своих занятиях живописью, цветной фотографией. Софья Андреевна рассказывала ему о своих работах: мемуарах, издании сочинений Льва Николаевича [160]160
С. А. Толстая была занята писанием своих воспоминаний «Моя жизнь» и подготовкой к изданию нового собрания сочинений Л. Н. Толстого в 20 томах. Издание было завершено в 1911 году.
[Закрыть] .
Андреев был очень робок, мягок. С Львом Николаевичем и Софьей Андреевной во всем соглашался.
Пришла еще одна дама с двумя дочерьми, еще ранее обращавшаяся ко Льву Николаевичу с просьбою разрешить поговорить с ним. Девочки, дочери ее, отличались дурными характерами, и она надеялась, что Лев Николаевич сможет воздействовать на них. Лев Николаевич гулял с ними по саду, говорил и подарил свои книжки.
Затем вошел на террасу в шляпе и с тростью.
Андреев разговаривал с Софьей Андреевной.
Вы не поедете верхом, Лев Николаевич? – спросил я
Нет. Не поеду, – ответил каким‑то особенно решительным тоном Лев Николаевич. – Я вообще больше не буду ездить верхом, – прибавил он.
Я вспомнил вчерашнюю поездку, и у меня сжалось сердце: верно, он чувствует, что стал слишком стар и верховая езда тяжела ему. Но Лев Николаевич промолвил:
– Это возбуждает недобрые чувства в людях. Мне говорят это. Вот у крестьян нет лошадей, а я на хорошей лошади езжу. И офицер вчерашний то же мне говорил.
Затем он предложил Андрееву погулять с ним. Тот поспешно собрался, отказавшись и от поданного чая.
Лев Николаевич зачем‑то еще вошел в переднюю. Я подошел к нему.
– Лев Николаевич, я хотел сказать по поводу вашего отказа от лошади: ведь можно представить себе так, что ваши друзья могли бы собрать средства и подарить вам эту лошадь. Нужно ли было бы тогда отказываться от нее?
– Да так оно и есть, – возразил Толстой [161]161
Лишь после я узнал, что Дэлир был подарен Льву Николаевичу М. С. и Т. Л. Сухотиными.
[Закрыть], – но все‑таки не буду ездить.
А вечером по этому же поводу я передал ему совет Димы Черткова: ездить на плохой лошади.
– Да ведь и эта плохая, – ответил Лев Николаевич, – ноги слабые, и глаза… У ней только вид хороший.
Прогулка Льва Николаевича с Андреевым была не особенно удачна: их захватил в поле сильный дождь и даже град, хотя утро было прекрасное и перед этим все стояли теплые, солнечные дни. Я шутил, что Леонид Андреев, такой пессимист, теперь уверует в фатум: как он приехал, так и погода изменилась и его с Толстым вымочило до нитки. За обоими писателями хотели послать тележку с непромокаемыми плащами, но они вернулись раньше, чем успели запрячь лошадь.
Л. Андреев пошел переодеться, а Лев Николаевич – спать.
Я же отправился в Телятинки, на репетицию спектакля, и домой вернулся только вечером, уже после обеда.
Л. Андреев сидел с дамами в зале. На нем была вязаная фуфайка цвета «крем», очень шедшая к его смуглому лицу с черными как смоль кудрями и к его плотной фигуре, что он, видимо, великолепно сознавал.
– Это можно здесь? Я дома всегда так хожу, – еще давеча с невинным видом говорил он.
Заговорили о его произведениях. Ему самому из них нравятся больше «Елеазар», «Жизнь человека», начинает нравиться «Иуда Искариот». По поводу рассказов «Бездна», «В тумане» Леонид Николаевич заявил, что «таких» он больше и не пишет. Рассказывал, как в начале своей писательской деятельности он «изучал стили» разных писателей – Чехова, Гаршина, Толстого, разбирал их сочинения и старался подделываться «под Чехова», «под Гаршина», «под Толстого». Ему это удавалось со всеми, кроме Толстого.
– Сначала шло, – говорил он, – а потом вдруг что‑то такое случалось, захватывало, и нельзя было ничего понять отчего это.
Вошел Лев Николаевич.
Он предложил Андрееву писать для дешевых копеечных изданий «Посредника». Но Андреев заявил, что, к сожалению, не может этого, так как он «сделал, как Чехов»: запродал какой‑то фирме раз навсегда не только то, что написал, но и то, что он когда‑нибудь в будущем напишет.
За чаем он рассказывал Льву Николаевичу о критике К· Чуковском, который поднял вопрос о специальной драматической литературе для кинематографа. Сам Андреев этим вопросом очень увлечен. Лев Николаевич слушал сначала довольно скептически, но потом, видимо, мало – помалу заинтересовался.
– Непременно буду писать для кинематографа! – заявил он в конце беседы.
В общем особенно значительных разговоров за столом не было.
Когда Лев Николаевич зашел ко мне просмотреть и подписать письма, я спросил, какое впечатление произвел на него Андреев.
– Хорошее впечатление. Умный, у него такие добрые мысли, очень деликатный человек. Но я чувствую, что я должен сказать ему, прямо всю правду: что много пишет.
– Он очень молодой, пользуется такой популярностью. Интересно, придает ли он значение своей личной жизни или довольствуется только своей писательской славой.
– О нет! – возразил Лев Николаевич. – Мы говорили с ним… Напротив, он говорит, что он сейчас ничего не пишет, что думает о нравственных вопросах.
Лев Николаевич ушел спать, а я проводил Л. Андреева в приготовленную ему комнату – так называемую «под сводами», бывший кабинет Льва Николаевича, изображенный на картине Репина.
21 апреля.
Утром я вышел на террасу одновременно с Львом Николаевичем и Л. Андреевым. Лев Николаевич отправился гулять. Андреев хотел пойти с ним, но Лев Николаевич не сделал и для него исключения и пошел сначала гулять один, как всегда.
– Он и не может делать никаких исключений, – горячился Андреев, как будто оправдывая Льва Николаевича. – У него тогда нарушился бы обычный день, потому что сколько же бы ему пришлось делать таких исключений? Я вполне его понимаю…
Как раз подошел молодой человек, единомышленник Льва Николаевича, приехавший повидаться с ним из Архангельской губернии. Он встретил Льва Николаевича на дороге, и тот ему сказал, что он поговорит с ним после, так как сейчас он идет молиться.
На террасе, залитой солнцем, Л. Андреев, красиво раскинувшись в плетеном кресле, говорил о тех «изменениях в философской области», которые должен произвести усовершенствованный кинематограф. Об этой мысли Андреева я читал еще раньше, у посетившего его литературного критика А. Измайлова. «Изменения» должны быть потому, что благодаря кинематографу сознание человека, видящего себя на экране, раздвояется: одно «я» он чувствует в себе, а другое свое «я» – на экране.
Я пожалел, что по причине раннего отъезда Андреева, в десять часов утра, Софья Андреевна, встающая поздно, не сумеет его снять с Львом Николаевичем, как она вчера намеревалась. Но у Андреева оказался в багаже заряженный фотографический аппарат, которым я и снял его: сначала одного, а потом с Львом Николаевичем. Кроме того, все домашние, подъехавшие со станции Гольденвейзеры и подошедшие некоторые телятинские друзья снялись с Андреевым группой под «деревом бедных». Раз снял я, другой раз – Дима Чертков.
Лев Николаевич, вернувшись с уединенной прогулки, еще долго гулял с Андреевым. Потом он ушел заниматься, а Андреев еще посидел с нами на террасе, поджидая своего извозчика.
Когда тот подъехал, писатель попрощался со всеми; затем отправился вместе со мной наверх проститься с Львом Николаевичем.
Я пошел в кабинет вперед.
– А! – услыхал я голос Льва Николаевича. – Это, верно, Леонид Николаевич уезжает?
И тотчас послышались его шаги. В дверях из кабинета в гостиную Лев Николаевич встретился с Андреевым.
Последний взволнованно благодарил Льва Николаевича.
Лев Николаевич просил его приезжать еще.
– Будем ближе, – произнес он, и затем добавил: – Позвольте вас поцеловать!
И сам первый потянулся к молодому собрату.
Остановившись в гостиной, я был невольным свидетелем этой сцены.
Когда мы с Андреевым вышли, я видел, как сильно прощание со Львом Николаевичем взволновало его.
– Скажите Льву Николаевичу, – прерывающимся голосом говорил он, когда мы спускались по лестнице, повертывая ко мне свое взволнованное лицо и едва глядя на ступеньки, – скажите, что я… был счастлив, что он… такой добрый…
Сел в пролетку, захватил небольшой чемодан и фотографический аппарат и, провожаемый нашими напутствиями, уехал.
Андреев на всех в Ясной произвел хорошее впечатление. Все время он держался в высшей степени скромно, был даже робок. О Льве Николаевиче говорил с благоговением. Речь его – простая, иногда даже грубоватая, в противоположность всем понятному, но кра – сивому и изысканно точному языку Льва Николаевича. Он немножко рисовался, как мне показалось, или, по меткому выражению О. К. Толстой, «милашничал». И одет он был, как говорят, «просто, но изящно»: живописная накидка, на рубашке повязанный бантом черный галстук, домашний костюм – придающая ему большую эффектность фуфайка. Вероятно, он находит, что во всех этих аксессуарах нуждается его красивая наружность. По – видимому, он придает значение общественному мнению. Даже о своем знакомстве с Горьким («как же, я с ним хорошо знаком») говорил с заметным удовольствием или с некоторым оттенком гордости. Увлечения его кинематографом, цветной фотографией, живописью что‑то мне не совсем понравились: напомнили знакомый тип богатых и праздных людей, не знающих, к чему приложить свои силы и чем занять свое время.
Со всем тем я вполне находился под обаянием Л. Андреева как писателя. «Жизнь человека», «Иуда Искариот» принадлежат к любимым моим произведениям. Но таково уж свойство Ясной Поляны: здесь, ставя невольно каждого посетителя рядом с Толстым, по большей части приходишь к выводам слишком строгим по отношению к наблюдаемому человеку и делаешься, вероятно, несправедливо придирчивым.
По отъезде гостя Лев Николаевич работал, как всегда.
После завтрака верхом не поехал, а пошел гулять пешком с Гольденвейзерами и Софьей Андреевной.
Из дальней деревни приходили мужики с жалобой на своего помещика, отнимающего у них выгон. Лев Николаевич дал им записку к тульскому адвокату гр. Толстому [162]162
Л. Андреев в письме от 12 апреля 1912 г. к А. Е. Грузинскому признался: «Мне жалко только – опять-таки не в моих интересах, а в интересах более полного освещения личности Л. Толстого, что я не могу привести того, что лично при свидании говорил он о моих вещах и обо мне…разве только, когда умру сам, пусть другие расскажут» («Летописи Гос. литературного музея, кн. 12.—М., 1948, с. U23). Посещение Ясной Поляны Андреев описал в очерке «За полгода до смерти» («Солнце России», 1911, № 53).
Записка от 22 апреля с просьбой принять крестьян и помочь им (т. 81, письмо № 309)
[Закрыть] .
Я уходил в Телятинки на репетицию спектакля (ставится «Первый винокур» Толстого) и, вернувшись вечером, застал в столовой большое собрание. Были: Горбуновы, Николаевы, Буланже, Гольденвейзеры и свои – Лев Николаевич, Софья Андреевна и Ольга Константиновна.
Стали меня расспрашивать о спектакле. Льву Николаевичу не удастся у нас быть, так как завтра, только на один вечер, приезжает в Ясную московский скрипач Борис Сибор. Но Льву Николаевичу так хотелось побывать на спектакле, что он даже старался так выгадать время, чтобы приехать до или после игры Сибора. Но это оказалось невозможным. Мы же не можем отложить спектакль, так как некоторые из его участников сразу после него, в этот же день, уезжают.
Между прочим, Лев Николаевич досадливо махнул рукой и промолвил:
– Эх, мое авторское самолюбие задето! Нужно было вам дать новую пьесу!..
Говорил за столом, что он всю ночь думал о том, что нужно писать для кинематографа.
– Ведь это понятно огромным массам, притом всех народов. И ведь тут можно написать не четыре, не пять, а десять, пятнадцать картин.
Я передал Льву Николаевичу слова Андреева, что ему удобнее всех начинать писать для кинематографа: он сделает почин, а за ним пойдут и другие писатели, которые первые не решаются «снизойти» до писания для кинематографа. Андреев говорил также, что если Лев Николаевич напишет, то он скажет Дранкову, владельцу кинематографической фирмы, и тот привезет в Ясную труппу актеров и хорошего режиссера, чтобы тут же разыграть и снять пьесу.
Гольденвейзер играл.
– Прекрасно, прекрасно! – говорил Лев Николаевич после сыгранной первой сонаты Бетховена «Quasi una fantasia».
Затем Гольденвейзер играл преимущественно Шопена. Говорили о музыке.
– Мне нравится Гайдн в своем роде, – говорил Лев Николаевич, – какая простота и ясность! Все так просто и ясно, и уж никакой искусственности.
Расспрашивал Гольденвейзера о Шумане, Шуберте.
– Кажется, он кутила был? – полюбопытствовал он о последнем.
Ольга Константиновна заметила по поводу полученного сегодня письма от В. А. Поссе с описанием его впечатлений от поездки по югу России с лекциями о Толстом:
– Какие вы интересные письма получаете, nanа!
Я этого не стою, – ответил Лев Николаевич. – Живешь в деревне и получаешь со всех концов, как по сходящимся радиусам, сведения о самом дорогом дл ятебя, то есть о движении, – и положительные и отрицательные.
Поздно вечером Лев Николаевич принес ко мне в комнату письмо для дочери и просил надписать адрес.
– Я потому вчера сам запечатал письмо, – говорил он, – что писал там лестное о вас, а вам это не нужно знать… То есть не лестное, а приятное. Писал, что мне с вами хорошо работать.
22 апреля.
Утром Лев Николаевич вернулся с прогулки с распустившейся веткой дуба в руках. Он показывал нам это новое свидетельство необыкновенно ранней весны.
Я с утра ушел в Телятинки, где и провел целый день. Вечером в большом амбаре у Чертковых состоялся спектакль – «Первый винокур» Толстого. Я играл мужицкого чертенка, Дима Чертков – бабу, Егор Кузевич – мужика, один рабочий из Тулы, уроженец Телятинок, – сатану и т. д. Спектакль сошел, по – видимому, удачно. Крестьянская публика, которой собралось человек двести, осталась очень довольна. Из Толстых никого не было: в Ясной играл Б. Сибор. Зато присутствовал местный урядник, который, переодевшись в штатское платье, потихоньку пробрался в публику посреди действия, чтобы понаблюдать, не станут ли «толстовцы» смущать крестьянство какими– нибудь «недозволенными» речами. Однако на этот раз поживы ему не было.
23 апреля.
За поздним временем, вчера, по окончании спектакля, я заночевал в Телятинках и сегодня утром вернулся в Ясную Поляну вместе с Белиньким, который шел на свою обычную работу. У террасы мы встретили Льва Николаевича. Он только что вышел на прогулку, с некоторым запозданием, так как было уже более девяти часов.
– Ну что, как прошел спектакль? – обратился он к нам, поздоровавшись.
Мы ответили, что вполне удачно. Лев Николаевич порадовался и еще раз выразил сожаление, что не мог быть на спектакле.
– А у нас был Сибор, – добавил он, – и прекрасно играл.
Недаром встал Лев Николаевич так поздно. На самом деле, он сегодня очень плох. С ним даже повторилась несколько раз случавшаяся с ним и ранее забывчивость.
Так, я упомянул по одному поводу о М· С. Дудченко, прекрасно известном Льву Николаевичу, находившемуся с ним в переписке.
– Какой это Дудченко? – внезапно спросил он.
– Митрофан Семенович.
– Да где он?
– В Полтавской губернии.
– Ага!
Сегодня Льву Николаевичу прислали сборник, посвященный памяти В. А. Гольцева.
– Меня эта книга приятно поразила. Здесь два моих незначительных письма; а кроме них, мысли о любви, да самые лучшие!.. [163]163
В сб. «Памяти Виктора Александровича Гольцева» (М., 1910) были напечатаны два письма Толстого к В. А. Гольцеву и ряд его суждений под общим названием «Мысли о любви»
[Закрыть] Посмотрите, откуда они, не новые ли это версии? А то можно ими воспользоваться.
Но мысли оказались взятыми из прежних произведений Льва Николаевича и в «На каждый день» включены.
Вечером позвал с письмами к себе. Ему стало еще хуже. Он полулежал в кресле, протянув ноги на стуле. Голос слабый и почерк тоже сбивчивый и тяжелый. Подписал свои письма и прочел написанные мною. Между прочим, сегодня я узнал, что третьего дня Лев Николаевич велел расковать Дэлира и пустить его в табун.
Один поэт писал сегодня Льву Николаевичу: «Я, как вам известно, в настоящее время пишу, собственно говоря, разные стихотворения, преимущественно классические, есть и юмористические» [164]164
Речь идет о H. Т. Нагаеве. На конверте его письма Толстой пометил: «…Стихи ваши очень плохие. Не советую вам заниматься этим совершенно бесполезным делом» (т. 81, с. 299)
[Закрыть] . Я, грешным делом, думаю, что у этого поэта и классические стихотворения все юмористические.
Гулял Лев Николаевич очень мало. Ходит тихотихо, видно слаб.
Позвонил мне. Получилось письмо с просьбой указать список книг, полезных для чтения·
– Нам обоим работа, – сказал Лев Николаевич. – Вы возьмите каталог «Посредника» и другие каталоги и составьте по ним список, а я просмотрю и исправлю. Хорошенько займитесь этим. При случае будем посылать другим.
Список этот я составил по каталогам «Посредника» и Костромского земства для народных библиотек, по главным отраслям знания, с преобладанием книг по религиозным и философским вопросам. Лев Николаевич выпустил некоторые сочинения, а остальные в каждом отделе распределил соответственно их важности на три разряда.
В «Русском богатстве» он читал продолжение статьи Короленко о смертной казни. В этой же книжке журнала он нашел воспоминания о Чернышевском, а в них некоторые интересные ему письма Чернышевского [165]165
В «Русском богатстве» (1910, № 4) было опубликовано окончание статьи «Бытовое явление (заметки публициста о казни)» и очерк Н. С. Русанова «Чернышевский в Сибири (по неизданным письмам и семейному архиву)»
[Закрыть] .
– Я его небольшой сторонник, – сказал Лев Николаевич, – но вот его прекрасные мысли о науке.
И он дал мне их прочесть и попросил выписать, чтобы потом воспользоваться ими при случае. Мысли – отрицательного характера о школьной, в частности университетской, науке [166]166
Толстой включил одно высказывание Чернышевского в раздел «Ложная наука» в сб. «Путь жизни» (т. 45)
[Закрыть] . Я тоже порадовался им, и мы перекинулись со Львом Николаевичем несколькими фразами по этому поводу.
– А для Софьи Андреевны, – засмеялся Лев Николаевич, – окончивший университет уже не обыкновенный человек и получает доступ в «сферы»… то есть в самые плохие люди.
За обедом заговорили о вегетарианстве и о трудности ведения молочного хозяйства для вегетарианцев, так как возникает необходимость убивать бычков.
– И здесь один ответ, – сказал Лев Николаевич. – Я иду, давлю муравьев, я не могу предотвратить этого. Но не нужно умышленно убивать, а если неумышленно, то ничего не сделаешь. Главное, помнить, что жизнь в стремлении к идеалу, а воплотить его нельзя.
Говорили о «мясной» выставке в Москве, о реч игородского головы Гучкова о «процветании московских городских боен» и о молебствии при открытии выставки.
– Никакая гадость без молебствия не обходится, – заметил Лев Николаевич.
Вечером я дал ему подписать книжку для записи получаемой им корреспонденции, присланную начальником почтовой станции. Он забыл, что есть такая книжка.
– Отчего же я раньше—το никогда не подписывал?



