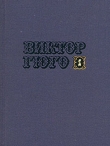Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Стихотворения"
Автор книги: Вадим Шефнер
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Шефнер изображает таких героев не без лукавства. Пародийность, питающая саму ткань его фантастической прозы, столь же обязательна в повестях-сказках, как и подчеркнутая назидательность иронического оттенка в описании героев, близких писателю по своим жизненным правилам. Но юмористический антураж повествования в данном случае не снижает, а скорее заостряет этико-философскую проблематику. Герои Шефнера бесконечно преданы жизни и задумываются над тайной ее возникновения во Вселенной, они не страшатся смерти и способны без колебаний жертвовать собой во имя долга; в своих поисках счастья они готовы претерпеть любые испытания и невзгоды и употребляют всю свою энергию на то, чтобы в мире – на земных и далеких космических орбитах – всегда торжествовала человечность.
Духовный кругозор этих героев весьма богат. Юмористическая оболочка размышлений над вопросами бытия и человеческого существования их нисколько не компрометирует, – наверно, еще и потому, что их духовный потенциал обеспечен прямым родством с самим писателем. Не случайно Шефнер считает, что настоящая фантастика должна быть автобиографична, личностна, и автор всегда, хоть краешком, но должен присутствовать в своем повествовании: «в мудром, героическом или намеренно дурацком виде».
Все это находит себе подтверждение и в самой значительной вещи этого жанра – в «Лачуге должника» (1983), которая имеет интригующий подзаголовок: «роман случайностей, неосторожностей, нелепых крайностей и невозможностей».
Этот трагикомический роман построен на привычном для Шефнера сопоставлении нравов XX века с нравами и этическими представлениями века условного, не слишком отдаленного от наших дней. В «Лачуге должника», как ранее в «Девушке у обрыва», это век XXII. Такая временная проекция позволяет писателю, всецело подчиняясь современной реальности, прибегать к разного рода преувеличениям, художественным гиперболам, изобретательским домыслам, а главное – к фантастическим заострениям, помогающим полнее раскрыть авторские идеи.
Герой романа Павел Белобрысов, «пришелец из минувшего», из нашего сегодня, страдающий ностальгией по XX веку, олицетворяет собой живую, непрерывающуюся связь будущего и настоящего, поскольку родился он в 1948 году, а выпитый им волшебный экстракт дарует ему «один миллион лет». Эта сюжетная предпосылка служит своеобразным ключом и к событиям романа, и к тем нравственным проблемам, которые в нем подняты. Будет ли человек счастлив, обретя бессмертие? Имеет ли он моральное право противопоставить себя остальным людям? Эти «фантастические» вопросы – Шефнер отвечает на них, конечно же, отрицательно, шутливо говоря, что «перебор в игре – это не выигрыш», – служат поводом для вопросов куда более животрепещущих: что такое героизм? Каково предназначение человека на Земле? Сколь велико бремя ответственности каждого перед миром?
Негаданно обретенное личное бессмертие порождает в шефнеровском герое чувство вины перед теми, кто наделен одной, настоящей жизнью. Именно чувство вины движет всеми поступками Павла Белобрысова, заставляя его идти на постоянный риск в поисках «земли своего брата» и в конце концов жертвовать собой в схватке с инопланетными монстрами. Житейская история Павла Белобрысова для того, кажется, и рассказана, чтобы предупредить: даже и помимо своей воли человек может оказаться виновником «чудовищных чудес» – подобных тем, что погубили цивилизацию на планете Ялмез.
Ялмез – Земля в обратном чтении, анти-Земля, аналог земных тревог и страстей, достигших трагического исхода. Ялмезиане имели ту же физиологическую структуру, что и земляне, и болели теми же болезнями, что и люди. Катастрофа на Ялмезе произошла потому, что, несмотря на воцарившуюся на этой планете «эру всеобщего здоровья», научная мысль вышла из-под разумного контроля, родила нечто «гениально-бесполезное», непоправимо опасное, и уничтожающие болезни, материализовавшись в ужасных «метаморфантов», возобладали над всем живым.
«Лачуга должника» – роман-предостережение, поучительная притча о том, к чему может привести душевная пассивность, беспечный прагматизм и забвение гражданского долга. Писатель не обольщается на тот счет, что людям – как и его ялмезианам – гарантировано в будущем вечное блаженство. Опасность возврата к дикости остается, если перестает бить тревогу человеческая совесть. И потому безмятежность – вовсе не идеал Шефнера, его добродушные и проницательные герои, кем бы они ни были, всегда помнят о коварстве таящегося в мире зла.
Да, шефнеровские утопии никак не способствуют благодушию. Вот «Рай на взрывчатке» (1983) – накрепко отгороженный от мира человеческий заповедник, где люди не знают, что такое страх, не умеют плакать и считают за оскорбление грусть. Здесь нет в помине денег, нет никакого социального принуждения, неизвестны «винопитие и курево», нет «ни драк, ни воровства, ни жульства». И все-таки этот райский «подопытный участок» не изолирован от мира «на все сто процентов» и не застрахован от гибели. Он и гибнет – как Ялмез – из-за легкомыслия его жителей, и авторская ирония по этому поводу приобретает весьма печальный оттенок.
Тем не менее нужно отметить одну существенную особенность. Показывая, сколь изощренным бывает зло и сколь слабым человек, писатель все равно верит в победу мудрости и добра над злом. В своих невероятных сюжетах он всегда оставляет место для надежды. На Ялмезе он сохраняет недоступным для метаморфантов Гусиный остров, а в финале сообщает, что после второй экспедиции планета была от метаморфантов освобождена. И в «Раю на взрывчатке», в последней главке «Под занавес», уповая на то, что в Раю «свои законы физики» и потому Рай все-таки не должен погибнуть от взрыва, видит – правда, во сне – своих героев живыми, вернувшимися из райских кущ на родной Васильевский остров.
Какие бы безутешные перспективы ни вставали иной раз перед героями «маловероятных» повестей, какие бы испытания писатель им ни готовил, он уверен в одном: без драм, без потерь и поражений человек не узнает истинной цены счастья. Таково важнейшее нравственное правило Шефнера, и все свое воображение он мобилизует на то, чтобы доказать это. Его герои жаждут изобрести всемирный Отметатель Невзгод, который должен охранять землян от всех превратностей судьбы, от всех бед земных и небесных, но даже и одному человеку такой прибор не приносит счастья. Его внешне простоватые герои могут на какой-то момент прельститься даровыми деньгами, но потом долгие годы мучаться совестью, искупать свой грех, дабы убедить космических пришельцев, что с Землей возможен дружественный контакт. Героям Шефнера оказывается не по нутру беззаботное райское существование. Им, как уже говорилось, тяжко бессмертие, лишающее их естественных человеческих радостей.
«Сказки для умных», при всей их занятности, наделены весомым идейно-нравственным потенциалом и достаточно правдивы, при всей их фантасмагоричности. Недаром в своих творческих симпатиях Шефнер, кажется, в первую очередь выделяет Джонатана Свифта, считая его самым гениальным фантастом. Он рассуждает о Свифте так: «Мне интересна та фантастика, которая граничит со сказкой, где речь идет о заведомо невозможных вещах и событиях. И она кажется мне более прочной, если можно так выразиться. Гениальный Свифт послал своего Гулливера к лилипутам, потом в Бробдингнег к великанам. Мы твердо знаем, что никаких лилипутов и великанов в природе нет – и в то же время знаем, что они есть и что они, по воле Свифта, будут существовать, пока есть на свете читающие люди. Гулливер – человек, в сущности, обыкновенный, средний, ничуть не сказочный. Когда читаешь о том, что он пережил, то кажется, что придумать он этого не мог, что все именно так и было. Несказочность героя придает повествованию особую достоверность».
Достоверность будничного героя в сказочных обстоятельствах... Добиваясь этого, Шефнер следует не только за Свифтом – ему дороги и Гоголь, и Булгаков, близки Герберт Уэллс и Рей Брэдбери. Думается, можно уловить известную связь его фантастики и с той русской литературной традицией, которая представлена недооцененным, по мнению Шефнера, Владимиром Одоевским, одним из провозвестников русского романтизма.
Более ста лет назад В. Одоевский жаловался, что в его век «анализа и сомнения довольно опасно говорить о чудесном», между тем как чудесное существует в искусстве изначально, удовлетворяя одну из «естественных наклонностей человека». В. Одоевский считал, что «единственную нить», посредством которой этот элемент может быть «проведен в словесное искусство» в современных для него условиях и с гарантией на будущее, нашел великий Гофман, изобретя «особого рода чудесное», имеющее всегда две стороны: «одну чисто фантастическую, другую – действительную». Эта нить по сей день остается путеводной для романтической фантастики и, в частности, для Шефнера.
Узнаваемость иронически изображаемого героя отнюдь не единственный признак «сказок для умных». Они отмечены тонким искусством комедийного диалога и виртуозным использованием живой разговорной речи. Рассказчик в этих сказках не перестает едко и весело смеяться. Авторская издевка над газетной пошлостью и канцелярским дурновкусием, над наукообразным пустословием и официозным велемудрием не покидает страниц. Городской питерский жаргон двадцатых годов, язык объявлений и вывесок, стилизованных «сводок», «заяв», «справок», язык дворового фольклора, частушек, сентиментальных романсов, базарной рекламы и другие стилистические вариации отличают причудливый рисунок шефнеровской прозы.
И есть в этой прозе еще один колоритный – обязательный! – художественный слой, о котором нельзя не упомянуть. Это пародийные стихи, продукция многочисленных вымышленных стихоплетов. Какую бы повесть мы ни открыли, мы найдем в ней традиционную для Шефнера фигуру поэта-неудачника, поставщика рифмованных шуток и сентенций. В одном случае в этом амплуа выступает «высокопродуктивный поэт», выдающий ежемесячно не менее четырех погонных метров заздравных стихов. В другом случае наплыву пиитов-графоманов противостоит система агрегатов, выполняющих решительные редакторские функции. В рассказе «Когда я был русалкой» (1972) мы знакомимся с «гениальным поэтом-консультантом», чей образ доведен уже до абсолютного абсурда. И даже сам Павел Белобрысов в «Лачуге должника» страдает, как представляется рассказчику, «маниакальным тяготением к рифмачеству».
Словом, и в своей фантастической прозе Шефнер остается поэтом – и лириком, и озорным пародистом.
5
В октябре 1988 года, давая интервью «Литературной газете», Шефнер счел нужным вновь напомнить о своей родословной.
И вот в какой связи.
Дотошный читатель спрашивал в письме: не является ли его дальним предком забытый ныне немецкий поэт Иоганн Георг Шефнер, некогда друживший с самим Кантом? На что Вадим Сергеевич ответил: «Не думаю. По семейным данным, те фон Шефнеры, от которых мы ведем свой род, поселились на Руси при Алексее Тишайшем. И уж больше никакой другой родины, кроме России, не знали. Частичка «фон» употреблялась все реже, а потом и вовсе отпала. Традиционной профессией мужчин была флотская служба. Дед мой, Алексей Карлович Шефнер, командовал военным транспортом «Манджур» на Тихом океане и считается основателем города Владивостока. Об этом, впрочем, не раз уже писалось...»
Однако не только желание удовлетворить любопытство читателя руководило здесь Шефнером. Ему представился случай коснуться того момента своей биографии, который вместо заслуженной гордости с детства сулил тревогу и о котором распространяться открыто прежде не полагалось.
«Во всех анкетах, где был вопрос о социальном положении, – рассказывал Шефнер, – всегда писал: из дворян. И могу сказать, что чрезмерно больших неприятностей по этому пункту не имел, хотя и опасался их, ибо знал, что у родственников и знакомых они были, особенно после убийства Кирова в 1934 году. А меня, как говорится, Бог миловал...» Причина сей благодати, по словам писателя, была такая: «дворянский отпрыск» смолоду приобщился к физическому труду, работал и на заводе, и на стройке, в результате чего даже справку получил в 1933 году, подтверждающую, что гражданин Шефнер В. С. принадлежит к рабочему сословию и в списках лишенцев не состоит.
Но если с дворянским титулом как-то обошлось, Бог действительно миловал, то на пути литературном Шефнер быстро столкнулся и с подозрительностью, и с предвзятостью.
«Неприятности подстерегали меня, – продолжал он в интервью, – с другой стороны и в другое время: когда я был уже профессиональным литератором, человеком, прошедшим войну и блокаду. Кампания борьбы с «космополитизмом» каким-то образом коснулась и меня. Очевидно, из-за «иностранной» фамилии. Или кому-то померещилось какое-то иное ее происхождение. Сыграло свою роль и печально известное постановление 1946 года, ударившее отнюдь не только по тем, кто был в нем непосредственно поименован. Одна из газет с явным осуждением назвала меня подражателем Гейне (?!), Пастернака и Багрицкого. Другая писала, что мои стихи воспринимаются „как нечто чуждое и враждебное духу нашего народа и времени“».
Да, дорого доставалась Шефнеру верность родовому имени. Но эта же верность, унаследованные от предков постоянство характера и врожденное чувство собственного достоинства дали ему силы выстоять вопреки самым страшным историческим обстоятельствам.
«Быть самим собой, быть верным себе» – этот нравственный принцип, эту «позицию души» Шефнер отстаивал всегда – и в жизни, и в творчестве.
Игорь Кузьмичев

1938
Детство
Ничего мы тогда не знали,
Нас баюкала тишина,
Мы цветы полевые рвали
И давали им имена.
А когда мы ложились поздно,
Нам казалось, что лишь для нас
Загорались на небе звезды
В первый раз и в последний раз.
...Пусть не все нам сразу дается,
Пусть дорога жизни крута,
В нас до старости остается
Первозданная простота.
Ни во чьей (и не в нашей) власти
Ощутить порою ее,
Но в минуты большого счастья
Обновляется бытие,
И мы вглядываемся в звезды,
Точно видим их в первый раз,
Точно мир лишь сегодня создан
И никем не открыт до нас.
И таким он кажется новым
И прекрасным не по летам,
Что опять, как в детстве, готовы
Мы дарить имена цветам.
Цветные стекла
Покинул я простор зеленый
И травы, росшие внизу,
Чтобы с веранды застекленной
Смотреть июльскую грозу.
И, в рамы тонкие зажатый,
Такой привычный, но иной,
На разноцветные квадраты
Распался мир передо мной.
Там через поле шла корова,
И сквозь стекло была она
Сперва лилова и багрова,
Потом желта и зелена.
Но уж клубились вихри пыли,
И ливень виден был вдали,
И в пестром небе тучи плыли,
Как боевые корабли.
И, точно пламенем объята,
Сосна, где с лесом слился сад,
Вдруг из зеленого квадрата
В багровый вдвинулась квадрат.
И разбивались о карнизы
Потоки крупного дождя,
И пылью опускались книзу,
Из цвета в цвет переходя.
И тучи реяли, как флаги
На древках молний,
И во мгле
Чертили молнии зигзаги
И льнули к трепетной земле.
Так, по земле, тоской объяты,
Под ветра судорожный вой
Они прошли
Сквозь все квадраты —
И цвет не изменили свой.
«Вдали под солнцем золотились ели...»
* * *
Вдали под солнцем золотились ели,
А здесь, отвергнув животворный зной,
Шуршал камыш и лилии горели
Прозрачной, нездоровой белизной.
И, на меня уставив изумруды
Недвижных глаз, бездумных, как всегда,
Лягушки, точно маленькие будды,
На бревнышке сидели у пруда.
Молчали все цветы на стеблях тонких,
И тишина, казалось мне тогда,
Давила на ушные перепонки,
Как на пловца глубокая вода.
Но слышалась мне в длительном молчанье
Болотных трав, видневшихся вдали,
Невидимая дрожь существованья,
Корней шуршанье в глубине земли.
Тревога
Тревожные взревут сирены —
И сразу в город хлынет мгла,
И в темноту уйдет мгновенно
Адмиралтейская игла.
Погаснут лампочки в витринах,
Замглится невская вода, —
Так, свет ненадобный отринув,
Померкнет город, – и тогда
Из высоты глухой и черной,
Из поднебесной высоты
Услышишь рев многомоторный,
Нежданный шум услышишь ты.
Не птиц ли то враждебных стая
Летит сюда издалека,
Туманом черным обрастая
И прободая облака,
Летит в тумане ядовитом,
Летит, пощады не суля,
Росою смертной – люизитом —
Кропить асфальты и поля?
Но, точно скальпель неподкупный
В хирурга опытной руке,
Прожектор луч отбросит крупный
И вскроет мглу.
И вдалеке
Увидишь ты:
светлей зарницы,
Быстрей разящего клинка,
Летят серебряные птицы,
Расталкивая облака.
И, как невянущие маки,
На крылья им нанесены
Опознавательные знаки
Твоей единственной страны.
Над городом и над тобою,
Как нарастающий прибой,
Они летят, готовы к бою.
Кто знает – может, завтра бой.
После дождя
Пробрались мы лохматым лугом
Туда, под лиственный навес,
Где капли стряхивал упруго
И охорашивался лес.
И запах луговых растений
Теснил дыхание в груди,
И наши сдвоенные тени
Шагали молча впереди.
И радуга из-за болота
На дальний опиралась лес,
Как триумфальные ворота
Для нас открывшихся небес.
Подражание английскому
«Скорее станет сушь водой
И мгла сойдет за свет,
Луна покажется звездой
И утвержденьем «нет»,
На камне вырастут цветы
И крылья обретут кроты, —
Чем мы расстанемся с тобой» —
Так говорила ты.
На камне не растут цветы,
В земле по-прежнему кроты —
Не надо крыльев им.
И только ты,
И только ты
Отчалила с другим.
Вода – по-прежнему вода,
Луной – луна,
Звездой – звезда,
И мглою – мгла,
И светом – свет
Остались навсегда.
И лишь тебя со мною нет,
И в этом вся беда.
Обещание
В минуты длительных прощаний
На склоне гаснущего дня
Невыполнимых обещаний,
Мой друг, не требуй от меня.
Не оборвали годы странствий
Сердца связующую нить,
И лишь в излишнем постоянстве
Меня ты можешь обвинить.
Он близок, час иной разлуки,
И я оставлю мирный труд,
И мы пожмем друг другу руки,
Как в песне неспроста поют.
Я верю, что во всем мы правы
И правотой своей сильны, —
Да озарит нам солнце Славы
Тропу тернистую Войны!
Но, если пулей вероломной
Жизнь будет прервана моя,
О девушке, простой и скромной,
В свой смертный час припомню
Не путая тебя с другими,
Средь дыма боевых полей
Я повторю простое имя,
Твое коротенькое имя,
Как имя Родины своей.
1939
«Как якорю не выплыть из воды...»
* * *
Как якорю не выплыть из воды,
Как облаку не утонуть в воде,
Как птице не подняться до звезды
И как на землю не упасть звезде, —
Так мне тебя не позабыть вовек;
И клены, шелестящие листвой,
И тишь озер, и шум тяжелых рек —
Мне все напоминает голос твой.
Я никогда, быть может, не пойму,
Чему я рад в тебе, чему не рад,
Но все дороги к дому твоему
Ведут меня, и нет пути назад.
«Я сожалею, что и ты...»
* * *
Я сожалею, что и ты
Когда-нибудь уйдешь навеки
Из мира, где растут цветы
И в берега стучатся реки.
Вставать не будешь по утрам
И, спать укладываясь поздно,
Через стекло оконных рам
Не будешь вглядываться в звезды.
(Ведь, как и прежде, в темноте,
В земные вглядываясь дали,
Светиться будут звезды те,
Что мы вдвоем с тобой видали.)
Подсолнечник
Не знаю, что тому виною,
Но был засушлив этот год,
И пахло гарью торфяною
От высыхающих болот.
У обмелевшей переправы,
Где обнажился дна кусок,
Торчали высохшие травы,
Как гвозди, вбитые в песок.
Ничто не радовало взгляда.
И он передо мной возник,
Как солнца дальнего двойник,
За пыльной изгородью сада.
Он цвел, не ведая печали,
Средь зноя, среди дымной мглы,
И лепестки его торчали,
Как зубья дисковой пилы.
Он врос в земли тугую бездну
Корней сцеплением тугим —
И стало то ему полезно,
Что было гибельно другим.
А я стоял у той ограды,
Молчали пыльные листы,
И, не дающие прохлады,
Склонялись чахлые кусты.
И пот ручьями тек по коже,
И было небо все в дыму,
И душно было мне —
и все же
Я не завидовал ему.
И никогда мне не мечталось
Стоять, как желтые цветы,
На трав смертельную усталость
Бесцельно глядя с высоты.
Утренний ветер
Я развел на поляне костер,
И на землю прилег, и смотрел,
Как багровые крылья огня
Трепетали над сонной травой.
Но сгущалась июльская ночь,
И неслышно костер догорал,
И когда я уснул, то во сне
Неожиданно встретил тебя.
Ты, смеясь, мне сказала: «Вставай»,
Ты сказала: «Я снова с тобой», —
И прохладные губы твои
Ощутив на горячих губах,
Я проснулся – и вижу: заря
Сквозь зеленую чащу видна,
И роса на траве, и кругом
Тишина, даже птицы молчат.
А твоих не осталось следов —
Только горечи вкус на губах.
Это утренний ветер подул
И золу мне бросает в лицо.
Картина
В. А. Л.
В комиссионном магазине
Висит картина на стене:
Горят костры под небом синим,
Котлы клокочут на огне,
Костры струят прямое пламя,
Сверкая искрами во мгле,
А вдалеке, на заднем плане,
Лежит повстанец на земле.
Пускай он молодой и ловкий,
Но кончены его пути:
Ему пеньковые веревки
Не разорвать и не уйти.
Так он минуты ждет последней,
Тоскою смертною томим,
И с поднятой ногой передней
Огромный слон застыл над ним.
И молчаливые сипаи
Зачем-то выстроились в ряд,
И, тихо копоть осыпая,
Костры смолистые горят.
И я не смею отвернуться:
Что, если отвернусь —
и вдруг
Глухие стены покачнутся
И все изменится вокруг:
Костров пошевельнется пламя,
Замрут сипаи не дыша,
И грузный слон на заднем плане
Опустит ногу не спеша.