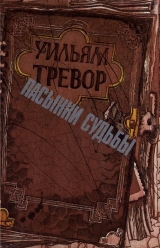
Текст книги "Пасынки судьбы"
Автор книги: Уильям Тревор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Марианна
1
В 1983 году в Дорсете, в доме приходского священника, молодой, энергичный пастор занимается своими делами. Он, как и владельцы Вудком-парка, которым приходится строить автостоянки и подбирать мусор с дорожек, времени не замечает. Однако, печатая на гектографе, пастор, как и все Вудкомы, поневоле свыкается с настоящим. Ему и невдомек, что больше пятидесяти лет назад поздним субботним утром в его уютный домик принесли телеграмму, которая почти весь день пролежала на столе в передней, поскольку, кроме служанки, дома до пяти часов вечера никого не было. «Умерла миссис Квинтон». Когда прошло первое потрясение, пришлось посылать еще одну телеграмму из Дорсета в Индию, в Масулипатам: «Бедная Эви скончалась». На свет из сундуков извлекли проветривать траурные туалеты, и в доме приходского священника воцарилась тягостная атмосфера раскаяния и вины.
А в графстве Корк в 1983 году обо всем этом хорошо помнят.
2
Мы обе были в черном, что, разумеется, сразу бросалось в глаза, и нам, словно мы ослабели от горя, все пассажиры на пароходе уступали дорогу, какая. – то женщина перекрестилась, а мужчины при нашем появлении приподымали шляпы или кепки.
– Это чисто ирландское, – пояснила мне мать.
Сойдя на пристань, она обняла тебя, прижимая к глазам носовой платок с траурной каемкой.
– Бедный мой, – шептала она. – Бедный, бедный мальчик.
– Сочувствую тебе, Вилли, – сказала я. – Очень тебе сочувствую.
Ты не ответил.
Машина остановилась у подъезда.
– Вы, наверно, проголодались, – сказал ты. – Есть ветчина и салат.
Ты отвел нас в столовую, где стоял все тот же запомнившийся мне тяжелый запах – не то чтобы спертый, а какой-то нежилой. В маленьком камине горел огонь, наступило тягостное молчание. Меньше всего на свете в этот момент мне хотелось есть и слушать болтовню матери:
– А ведь все из-за пьянства! Ну, разумеется, Вилли, мы делали, что могли. Сколько раз я с ней об этом говорила! Прошлым летом, когда мы у вас были, я каждый день уговаривала ее не пить.
Я спросила у тебя, буду ли я жить в той же комнате, что и в прошлый раз, и ты что-то пробурчал в ответ, глядя в сторону. А потом опять заговорила мать.
Я вышла из столовой и поднялась наверх. Я часто с любовью вспоминала этот дом: витражи на входной двери и на лестничных окнах, комнаты, заставленные как попало сохранившейся от пожара мебелью. Спальня, отведенная мне, была узкой, с темными стенами и керосиновой лампой – здесь абсолютно ничего не изменилось. Я налила воды в разрисованный цветами кувшин и стала не торопясь умываться.
– Похороны, – говорил ты, когда я вернулась в столовую, – назначены на завтра, на половину двенадцатого дня. Мать будет похоронена в Лохе.
Вошла с чайником и чашками Джозефина, поставила посуду на белую скатерть и вышла, тихонько прикрыв за собой дверь.
– Какая жалость, что они не смогли приехать из Индии, – сказала моя мать. – Разумеется, они ужасно рвутся сюда. Ты же понимаешь, Вилли? Твои дед с бабушкой, если бы могли, непременно приехали бы.
Ты ответил, что понимаешь. Мать с аппетитом ела ветчину и салат. Ты нарезал фруктовый торт, медленно погружая нож в цукаты и изюм и так же медленно извлекая его наружу, разлил чай и предложил нам торт. На меня ты не взглянул ни разу.
– Пойду полежу часок, – объявила мать, выпив две чашки чаю. – А вам советую пойти погулять. Вы же любите. Подышите свежим воздухом – это полезно.
Но ты возразил, что, наверно, и я бы хотела отдохнуть с дороги. «Он расстроен, – подумала я, – а потому так резок».
– И все-таки я ругаю себя, – сказала мать. – Ругаю за то, что не настояла на своем. Но что, в сущности, можно было сделать? Казалось бы, родная, горячо любимая сестра – а сделать ничего нельзя.
Она в очередной раз приложила к глазам носовой платок с траурной каймой и удалилась.
– Я не хочу отдыхать, – сказала я.
Не говоря ни слова, мы спустились с горы, так же молча перешли мост и направились в город.
– Она покончила с собой, – сказал ты наконец. – Вскрыла себе вены. Бритвой.
Говоря это, ты даже не остановился. Мы шли мимо увешанных одеждой и заставленных фарфором витрин, мимо магазина Вулворт, мимо аптеки. Ветер гнал мусор по тротуару, над головой кричали чайки. «Будет гроза», – пробормотал ты таким же равнодушным голосом.
– Я этого не знала.
Две женщины с грязными детьми, подойдя вплотную, дергая меня за рукав и обещая помолиться за спасение души, стали клянчить денег. «Пошли прочь!» – закричал ты, грубо оттолкнув их от меня.
– Самоубийц нельзя хоронить по церковному обряду, – сказал ты, когда мы пошли дальше. – Мне пришлось упрашивать священника.
Мы миновали школу, в которую ты ходил. «Директор мисс А. М. Халлиуэлл» – значилось на черной табличке возле закрытой синей двери. И ниже:
Делай добрые дела,
Чтоб совесть чистою была.
В прошлый раз ты мне много рассказывал про мисс Халлиуэлл, говорил, что мы можем встретить ее на улице.
– Мы сами виноваты. Нельзя было тогда оставлять мать одну.
– Мне ужасно жалко тебя, Вилли.
– Если хочешь, давай зайдем в отель «Виктория» выпить по стаканчику. Это единственное место, куда ходила мать.
Эти слова ты произнес с горечью, и я подумала, что нехорошо сейчас идти в ресторан, куда любила ходить она. За то время, что мы не виделись, ты стал совсем другим. Изменились даже твои движения, походка.
– Я бы выпила лимонада, – сказала я, когда мы вошли в отель. У меня разболелась голова. Напрасно я отказалась пойти отдохнуть. С лимонадом в высоком бокале в одной руке и с рюмкой какой-то янтарной жидкости в другой ты пересек пустой холл отеля, сел, и наступила тягостная тишина – казалось, ты молчишь нарочно, мне назло. Я не знала, что говорить, но молчать было еще хуже.
– Знаешь, я скоро уезжаю на несколько месяцев в Швейцарию, – не выдержала наконец я.
– В Швейцарию?
– Да. В Монтре дают уроки английский профессор с женой.
– Понятно.
– Не знаю, как все будет.
– Еще бы.
– Девочка, о которой я тебе рассказывала, наша староста, к сожалению, тоже едет.
Ты не ответил.
– Агнес Бронтенби, – окончательно отчаявшись, пояснила я.
Ты молча сидел с опущенной головой.
– Я знаю, как тебе сейчас плохо, Вилли.
Ты отвернулся. Я почувствовала, как краснею от стыда. «Вот бессердечная тварь, – думаешь, вероятно, ты. – Разоделась во все черное, маленькая мартышка, и болтает про Швейцарию». Какое легкомыслие в такой момент даже упоминать профессора и его жену! Какой же надо быть эгоисткой, чтобы, как ни в чем не бывало, делиться с тобой своими планами, когда твоя мать лежит мертвой, когда тебе пришлось просить священника похоронить ее как подобает! С несчастным видом я поднесла к губам бокал лимонада. Приторный, тошнотворный вкус. «А может, это лимонад отца твоего школьного друга, о котором ты мне рассказывал?» – подумала я и тут же опять устыдилась своего легкомыслия. Одна и та же мысль преследовала меня, не давала покоя: ведь твой дом сожгли англичане, они разрушили твою семью, да и в самоубийстве матери виноваты тоже они.
Зачем же себя насиловать.
– Скажи, чем я могу помочь тебе, Вилли?
– Жизнь была ей в тягость. Она была несчастна – радоваться надо, что она умерла.
Шел дождь. По полированной крышке гроба стучала галька. Я не спускала с тебя глаз: ты стоял с опущенной головой, уткнув подбородок в грудь. Несколько раз ты закрывал лицо руками. Я знала, ты плачешь, и в эти минуты меня охватывала такая мучительная тоска, что впору было кричать, как от боли. Мне так хотелось приласкать тебя, но не могла же я сама взять тебя за руку или заплакать вместе с тобой. Потом мы все повернулись и пошли по дорожке к воротам кладбища.
Стоя на паперти, где со стен облезала бледная клеевая краска, а на обтянутой сукном доске висели покрытые ржавчиной таблички с объявлениями, я сказала себе, что никогда не забуду этот день. Священник, давший разрешение на похороны, стирал капли дождя со стекол очков. Ты стоял в стороне, дождь струился по твоему черному плащу и русым волосам. Тетя Фицюстас крепилась, тетя Пэнси плакала, а моя мать шептала: «Бедный мальчик, пожалуйста, помни, что в Дорсете тебе всегда рады».
На поминках, устроенных твоими тетками в уцелевшей части усадьбы, тебя не было, но никто и словом не обмолвился о твоем отсутствии. Пришли мистер Дерензи и отец Килгаррифф, моя мать болтала без умолку. Ты же, наверно, был где-то в саду или бродил под дождем по полю.
– Так она и не оправилась, бедняжка, – сказала тетя Фицюстас. – А какая была красавица.
Моя мать повторила то же, что уже говорила тебе: если бы не огромное расстояние, дед с бабушкой обязательно приехали бы на похороны.
– Я ругаю себя, – повторяла она, – что не уговорила ее бросить пить.
На это отец Килгаррифф осторожно заметил, что уговорами тут едва ли поможешь – как еще можно утешиться после такой тяжкой потери? Разговор зашел о тебе. У него по крайней мере есть мельница, будет чем заняться, сказал мистер Дерензи. По крайней мере он уже не ребенок, подхватила тетя Фицюстас.
Чай был накрыт там же, на обеденном столе, и, наконец вернувшись, ты тоже выпил чаю вместе со всеми. Когда ты вошел, на тебя бросились две собаки, а остальные свирепо залаяли – такой ты был мокрый. Ты же не обратил на них никакого внимания и большую часть времени просидел молча.
– Если у тебя сейчас плохо с деньгами, Вилли… – начала было мать на обратном пути в Корк.
– Спасибо, денег хватает.
– Имей в виду, в Дорсете ты всегда нас застанешь. Мы всегда на месте.
Мне ужасно хотелось, чтобы она замолчала. Тебе ведь было не до разговоров.
– Не берись за все сразу, Вилли. Сначала одно, потом другое.
– Да.
– Чем же ты займешься теперь?
– В каком смысле?
От напряжения у меня вспотели ладони. Чувствуя, что краснеют не только щеки, но шея и плечи, я сделала вид, что смотрю в окно.
– Главное, не предаваться грустным мыслям, Вилли.
– Буду продолжать работать на мельнице.
– Вот и правильно, Вилли.
Вернувшись, я некоторое время в одиночестве просидела в своей узкой спальне, где год назад, когда я приезжала сюда на каникулы, мне так сладко спалось. Я стала вспоминать во всех подробностях похоронную службу, в ушах звучали слова заупокойной молитвы, и я пыталась представить себе, как воспринимал эти слова ты. Мне так хотелось утешить тебя, опять остаться с тобой наедине, хотя во время вчерашней прогулки и потом, в отеле, разговор у нас не клеился.
– Он был в ужасном состоянии, мисс, – сказала мне Джозефина, когда я пришла к ней в кухню. – Еще бы – застать ее в таком виде.
– Могу себе представить.
– В тот вечер он как раз собирался написать вам.
– Мне? Мне?!
– Да, мисс. Он хотел признаться вам в любви.
– В любви?!
– Он любит вас с тех пор, как вы гостили у нас прошлым летом. Он рассказал мне об этом в тот самый день, когда умерла миссис Квинтон.
Я пошла в мрачную столовую накрыть на стол, но к ужину ты не спустился, куда-то ушел. Мы с матерью опять ели ветчину и оставили тебе, чтобы ты смог поесть, когда вернешься.
– Он ведь и не обедал, – сокрушалась мать. – Марианна, дорогая, ты бы пообщалась с ним.
– Сейчас, мне кажется, ему лучше всего побыть одному.
Слова Джозефины не шли у меня из головы. Поразительно, что послать мне письмо ты решился в тот самый вечер! А ведь и я тоже не раз порывалась написать тебе, продолжить наши с тобой беседы. Но только я бралась за перо, как мне становилось неловко, и я чувствовала, что не в состоянии выразить на бумаге то, что хочется.
Ранним утром мы отправимся домой, в Дорсет. Оставаться дольше мы не могли: я и так уже опаздывала в Швейцарию.
Около часа я прождала тебя внизу, и уже совсем поздно, когда я раздевалась у себя в спальне, на лестнице послышались твои шаги. «Это судьба», – подумалось мне. Я надела ночную рубашку и скользнула в ледяную постель. И тут же расплакалась: будь ты сейчас со мной, я обняла бы тебя, прижала к себе, положила твою голову себе на грудь. Развеяла бы твое горе поцелуями. А ты? Простил бы ты мне мое английское происхождение? Около часа я пролежала в ужасной тоске, а потом встала, взяв с полки керосиновую лампу.
Твою дверь я приоткрыла, даже не постучавшись. Куда только девались благоразумие, страх, добропорядочность? Хотелось одного: чтобы ты знал, что я люблю тебя, – может, хотя бы это станет для тебя утешением. Об остальном я не помышляла. Поставив лампу на туалетный столик, я позвала тебя.
3
– А вот и наша малютка Марианна. Люблю встречать на вокзале знакомых, – признался профессор Гибб-Бэчелор. Ему было за шестьдесят; высокий, тощий, как щепка, седая реденькая бородка и черный как смоль, слегка завивающийся парик. – Ты немного опоздала, деточка, – пожурил он меня.
– Я была на похоронах. Отец дал вам телеграмму.
– Да, да, конечно. Я так и сказал жене перед уходом: «Еду встречать девочку-телеграммочку». – Профессор хитро усмехнулся: – Так и буду теперь тебя называть: «Моя девочка-телеграммочка». Ну, с приездом в Монтре, крошка Марианна.
– Надеюсь, своим опозданием я не доставила вам хлопот?
– О чем ты говоришь! Просто я беспокоился, что из-за похорон ты не сможешь заранее купить билеты и поездка получится утомительной.
– Нет, я нисколько не устала.
– Твой отец, по-моему, пастор? В Дорсете, если мне не изменяет память?
– Да.
– Дорсет – райский уголок. Значит, ездила на похороны? Надеюсь, не близкий родственник?
– Тетя в Ирландии.
– А, в Ирландии.
Когда он говорил, то пристально смотрел на меня, норовил заглянуть в глаза. На губах, над бородкой играла дежурная улыбочка.
– Я не знаю человека, которому бы не понравился Монтре, – сообщил он, когда машина тронулась. – Девочки, которые живут у нас с женой, для нас как дочери. Еще никто не жаловался.
Мы ехали берегом какого-то огромного водоема, который профессор назвал «Lac Leman»[39]39
Озеро Леман (франц.).
[Закрыть]. Вокруг возвышались заснеженные вершины Альп.
– Беспокойная страна эта Ирландия. Все обошлось без происшествий?
– Да, без всяких происшествий.
Через открытые ворота машина подъехала к дому с железными балкончиками и распахнутыми деревянными ставнями на окнах. Веранда с широкими сосновыми дверьми тянулась по всему фасаду.
– Жервеза! – позвал профессор, заглядывая в прихожую, а я осталась стоять на улице с вещами. Привычным жестом он наклонил голову и слегка вытянул шею, прислушиваясь к тому, что говорила ему жена.
– Вам звонили, – сообщила ему какая-то долговязая девица в очках.
– Спасибо, Цинтия.
С улицы казалось, что прихожая разрисована яркими красками, однако, войдя, я увидела, что это развешанные по стенам рисунки многочисленных воспитанниц, собранные четой Гибб-Бэчелор за многие годы; на одной картинке был изображен берег озера, на другой – горная вершина, а на третьей, висевшей над лестницей, – замок с птицами.
– Здравствуй, Марианна. – Передо мной, как из-под земли, выросла миссис Гибб-Бэчелор, полная, живая дамочка, ростом гораздо ниже своего супруга. Одета она была очень изящно, в разные оттенки лилового цвета, черные с проседью волосы завиты. – Пойдем со мной, Марианна.
С этими словами она повернулась и повела меня в комнату, откуда только что вышла.
– Пожалуйста, садись, – сказала она, сама села за стол, а мне указала на стул. Стулья здесь были такие же, как в прихожей и на веранде: жесткие, но в чехлах. Заметила я также, что пол был везде голый, только кое-где положены плетеные циновки. – Рада видеть тебя в Монтре, – затараторила с гнусавым шотландским выговором миссис Гибб-Бэчелор. – Мы с мужем боготворим искусство, а в остальном живем, как здесь принято. Занятия языком проводятся ежедневно нашей приятельницей мадемуазель Флоранс, мой муж будет читать вам курс истории Швейцарии и отдельных кантонов. Режим необременительный, однако хочу предупредить: день у нас начинается рано, и с мадемуазель Флоранс воспитанницы обязаны говорить только по-французски. Спасибо, у меня все.
Я встала и в свою очередь поблагодарила миссис Гибб-Бэчелор.
– Вторая девочка из твоей школы… – Миссис Гибб-Бэчелор стала перебирать лежавшие на столе бумаги.
– Агнес Бронтенби.
– Да-да, Агнес Бронтенби. Совершенно верно. Агнес – прелестное создание. Кроме вас, к нам в этом году приехали Мейвис и Цинтия. – Миссис Гибб-Бэчелор помолчала. – Ты совершенно здорова, Марианна?
– Как будто бы да.
– Ты ужасно маленькая, но пусть это тебя не смущает: лучше быть крошечной, чем большой и нескладной.
Я сказала, что привыкла к своему миниатюрному росту, но миссис Гибб-Бэчелор пропустила мои слова мимо ушей:
– В маленьком росте нет ничего болезненного, Марианна. Скажи, зубки у тебя в порядке? Вот и отлично. Мама, надо думать, говорила тебе, что не подобает иметь искусственные зубы.
– Нет, ничего такого она мне, кажется, не говорила.
– Вот как? – Миссис Гибб-Бэчелор опять помолчала, а затем, склонив голову набок, заметила: – Видишь ли, тут, в Монтре, мы живем по старинке, современные нравы нам не по нутру. Я ясно выражаюсь, Марианна?
– Да, вполне, миссис Гибб-Бэчелор.
– Вот и прекрасно. Жить ты будешь в одной комнате с Мейвис. У нее небольшая сыпь, но она не заразная, уверяю тебя. У нас тебе будет хорошо, Марианна. Еще никто из девочек никогда не жаловался.
– Я знаю, профессор говорил мне.
– Вы, я вижу, с профессором уже нашли общий язык. Вот и отлично.
Следуя за миссис Гибб-Бэчелор, я поднялась со своими вещами наверх. Мы пересекли площадку, также увешанную рисунками, и вошли в маленькую, напоминавшую келью комнатку с двумя кроватями, одна из которых была не застелена. Миссис Гибб-Бэчелор кивнула головой в сторону высокого окна с тюлевыми занавесками, опустила шпингалет и широко распахнула оконные створки; под нами в сумерках лежало Lac Leman, мерцали огни Монтре, а над головой возвышались заснеженные вершины Альп.
– Один из лучших видов Швейцарии, – заявила миссис Гибб-Бэчелор, с чем и удалилась.
Я закрыла окно и, даже не раскрыв чемоданы, присела на кровать. После отъезда из Ирландии я старалась избегать людей. На обратном пути в Дорсет и дома мне хотелось быть одной, не слышать, как волнуется за тебя мать и что-то ласково бормочет про тебя отец. «Мы должны просить Бога, чтобы на него снизошел покой», – то и дело повторял он, упираясь подбородком в молитвенно сложенные на груди руки и закрывая глаза. Когда же наконец я отправилась в новое путешествие, то, к своему стыду, испытала облегчение.
– Привет, – раздался голос. – Ты Марианна? А меня зовут Мейвис.
– Да, я Марианна. – Я подняла голову и увидела перед собой веснушчатое лицо. Некоторое время мы приглядывались друг к другу. Я спросила Мейвис, куда здесь приносят письма, и тут же спустилась в прихожую, однако полка для писем пустовала. Сама не знаю, почему я обратилась к ней с этим вопросом, зачем спускалась вниз – письмо ведь еще не могло прийти.
Грудь Агнес Бронтенби стала полнее, чем была когда-то под физкультурной формой, а красивые голубые глаза – еще более водянистыми. В столовой она сидела рядом с Цинтией, напротив меня, а Мейвис – рядом со мной. Профессор с женой обедали отдельно от нас, в другое время.
Столовая (единственное место в доме, где не было рисунков) выходила на теневую сторону. Ее голые стены, равно как и непроницаемые бархатные занавески, были какого-то бурого цвета. Сосновые доски пола были натерты мастикой.
– Кормят всякой отравой, – предупредила меня Цинтия, а Мейвис заметила, что в прошлом году одна девочка отсюда сбежала. Не унывала, как всегда, только Агнес Бронтенби; я сразу заметила, что она изо всех сил старалась не сплетничать и не теряла оптимизма. Она хлебала бесцветный суп с вермишелью и приговаривала, какой он вкусный. Только сегодня миссис Гибб-Бэчелор сообщила ей, что в прошлом году девочка сбежала по чистому недоразумению.
– Какие вы злые, – возмутилась она, когда Цинтия сказала, что миссис Гибб-Бэчелор за всю свою жизнь не сказала ни Одного слова правды.
– А он – вообще кошмар! – сказала Мейвис.
– И псих к тому же, – подхватила Цинтия, добавив, что миссис Гибб-Бэчелор заверила ее родителей, будто у каждой воспитанницы отдельная комната, а мадемуазель Флоранс преподает не только французский, но и немецкий. – Почему же, спрашивается, мы спим по двое? Комнат, что ли, недосчитались? И как это, интересно знать, мадемуазель Флоранс ухитряется преподавать немецкий, если сама говорит, что на этом языке не может произнести ни слова?
– Ты тоже скажешь! – воскликнула Агнес. – Комнат недосчитались!
Она захихикала, а потом с серьезным видом предположила, что и это тоже какое-то дурацкое недоразумение. Она не могла припомнить, что написала миссис Гибб-Бэчелор ее родителям, но унывать в любом случае не стоит.
Начался спор, в котором мы с Мейвис участия не принимали: в столовой были установлены дежурства, и в этот вечер убирать посуду должна была я, а Мейвис – раздать по порции ломтиков яблока с сыром на десерт.
– И потом, – сказала Цинтия, – нам пообещали, что в доме будет прислуга.
– Перестань, Гибб-Бэчелоры и так делают все возможное. Если уж на то пошло, мне лично курс кулинарного дела очень нравится, Миссис Гибб-Бэчелор обещала научить меня готовить жаркое в тесте.
– А по-моему, эта мерзкая парочка очень ловко устроилась: и картинки им рисуй, и еду готовь, убирай за них, мой, да еще ни свет ни заря чай им в постель подавай. Я уж не говорю о том, что профессор руки распускает.
– Смешная ты, Цинтия! Просто, наверно, ты соскучилась по дому. Признавайся, соскучилась? Ничего, со временем тебе здесь понравится.
– Очень сомневаюсь.
В прихожей нас ожидала миссис Гибб-Бэчелор.
– Девочки, – объявила она, – в девять у вас лекция профессора с диапозитивами. – Она придирчиво и как-то брезгливо осмотрела каждую из нас. – Моя дорогая, – сказала она Цинтии, смерив ее строгим взглядом, – к твоему сведению, салфетку следует расстелить на коленях, а не засовывать за воротник. Кроме того, считается дурным тоном ставить локти на стол, когда пьешь чай или любой другой напиток.
– Простите, миссис Гибб-Бэчелор.
– Это лишь те мелочи, на которые я обратила внимание сегодня, Цинтия. Тебя это тоже касается, Марианна.
– Да, миссис Гибб-Бэчелор.
– Вот и отлично.
И с этими словами, обдав нас терпким запахом духов, она бодрой походочкой удалилась.
– Кошка драная! – сказала Цинтия.
На лекции профессор показывал нам диапозитивы с видами Англии, которые он пытался привязать к литературе: цитировал стихи Джеймса Томсона и одновременно показывал слайды Хэгли-парка[40]40
Строки, посвященные Хэгли-парку в Херефордшире, были включены Джеймсом Томсоном (1700–1784) в переработанное им издание «Времен года» (1744).
[Закрыть], цитировал и Джордж Элиот, и миссис Гаскелл, и – главным образом – Вордсворта.
– Вот он гуляет с Дороти в окрестностях Незер-Стоуи, а вот его дом в Райдл-Маунт[41]41
Незер-Стоуи – деревушка в Соммерсетшире, где в 1796–1797 гг. жил С. Т. Кольридж. Вордсворт и его сестра Дороти, не раз навещая его, гостили в Незер-Стоуи. Райдл-Маунт – дом в деревушке Райдл (Камбрия), где Вордсворт жил с 1813 г. до самой смерти (1850).
[Закрыть], «Присутствие, палящее восторгом…»[42]42
У. Вордсворт. «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства…» Перевод В. Рогова.
[Закрыть] – Он показал нам Лайм-Риджис и храм Аполлона в Стаурхеде[43]43
Парк Стаурхед (Уилтшир) одним из первых в начале XVIII века был реконструирован в регулярный французский парк с прудами и псевдоклассическими декоративными храмами.
[Закрыть]. – «Скрывался я в тени садов, – прочувствованно декламировал он, – средь пышной радуги цветов»[44]44
У. Вордсворт. «Ода. Признаки бессмертия» (1803–1806).
[Закрыть].
Звучный лекторский голос то затихал, то вновь разрывал тишину, на слайдах поля сменялись лугами, луга – аллеями и клумбами роз. А я неотвязно думала о тебе. «Среди деревьев есть одно, – продолжал профессор, – на поле том стоит оно…»[45]45
У. Вордсворт. «Питер Белл» (1819).
[Закрыть] На простыне, которую Мейвис велели натянуть на стене вместо экрана, возникали поля и деревья: дубы и буки, сосны, ольха, ясень, яблони. Поля демонстрировались в разное время года, что-то говорилось про урожай и спелые фрукты.
– Кончит этот гнусный тип когда-нибудь или нет?! – прошипела сидевшая рядом со мной Цинтия.
В ту ночь ты снился мне среди этих самых полей, под этими самыми деревьями. Твое теплое тело грело мое, а губы были такими же жаркими, как тогда.
– Non, non[46]46
Нет, нет (франц.).
[Закрыть], Марианна, – вскричала мадемуазель Флоранс. – Ты совсем не стараешься.
Я же старалась как могла. Извинялась и улыбалась изо всех сил.
«…очень занят, – писал отец, – подготовкой к благодарственному молебну в честь Праздника урожая. После всех ирландских переживаний, твоих сборов и отъезда в Монтре у мамы сдали нервы, и она два дня пролежала в постели. О тебе все мои молитвы, любимое дитя мое».
В знаменитом замке у озера[47]47
Имеется в виду Шильонский замок.
[Закрыть] профессор стоял, прислонившись к колонне, на которой когда-то расписался лорд Байрон.
– Ты чем-то огорчена, малышка Марианна? – участливо спросил он, пока остальные с любопытством рассматривали размашистую подпись.
– Нет, – соврала я. – Вовсе нет.
– Если что, всегда приходи ко мне. Мне можешь рассказывать все что угодно.
Он подошел ближе, положил мне руку на плечо и сказал, что он – мой друг.
В тот день я опять пошла посмотреть, нет ли письма. Тогда, рано утром, я записала адрес Гибб-Бэчелоров и положила бумажку с адресом на твой туалетный столик. А потом на цыпочках вышла из комнаты – ты ведь еще спал.
– Визитные карточки, – поучала нас миссис Гибб-Бэчелор, – следует класть в холле, на поднос или на какой-нибудь подходящий столик. И шрифт, разумеется, должен быть гравированным, а не типографским. Замужняя женщина оставляет три визитные карточки – одну свою и две мужа; если же хозяйка дома не замужем или вдова, на столике в передней достаточно положить только одну карточку мужа.
Она говорила, а я молилась. Я просила у Бога прощения, Я обещала, что не буду пытаться оправдать свой грех, что буду жить с ним и страдать за него, если бы только Господь отнесся сейчас ко мне с милосердием. «Милый Бог, – молила я, – Милый, добрый Бог, пожалуйста, услышь меня».
Миссис Гибб-Бэчелор улыбнулась каждой из нас по очереди:
– И не чурайтесь нитки с иголкой. Дурнушка, которую приучили следить за собой, имеет преимущество перед смазливой неряхой.
В тот день я опять заглянула на полку с письмами, хотя дала себе слово больше этого не делать.
– Малютка Марианна, – сказал мне профессор, – ты не слышала ни слова из того, что я рассказывал на лекции про чувство рифмы у Вордсворта.
– Что вы, профессор, я вас внимательно слушала.
– Неправда, крошка.
С этими словами он приложил к моим губам свой тощий палец и убирать его явно не собирался. При этом он покачал головой, и его парик чуть съехал в сторону. В библиотеке мы были одни.
– К тебе у меня особое отношение, Марианна. Поэтому твое дурное настроение мне тем более огорчительно.
И опять холодный, как лед, палец коснулся моих губ. А его губы раздвинулись в наглой улыбочке, обнажив ряд крупных зубов, выступавших вперед и напоминавших побелевшие от времени надгробия. Мы с ним стояли в нише, я – спиной к окну.
– Многое из того, что я говорю про Вордсворта, предназначается тебе одной, малютка Марианна.
– Прошу вас, профессор…
– Ты учишься из-под палки, девочка.
Он снова вплотную придвинулся ко мне, прижав меня к подоконнику. От него пахло чесноком. Его губы коснулись моей левой щеки, чуть ниже глаза, а рука в это время с легкостью бабочки скользнула по моему бедру. Содрогнувшись и ощутив подступившую к горлу тошноту, я оттолкнула его. Как я могла ему объяснить? «Мы могли бы съездить в Килни, – сказал ты. – Мне бы хотелось показать тебе Килни». Как я могла объяснить ему, что за всю жизнь у меня не было счастливее дня. На мельнице рабочие пожимали мне руку. В Лохе ты показал мне магазин Дрисколла и храм Богоматери Царицы Небесной, а в Фермое – скобяную и мануфактурную лавки, куда вы заходили по пятницам. И ты, и я стеснялись признаться друг другу в наших чувствах, но это почему-то не имело значения.
– Вот какое дело, милочка, – беззаботным голосом обратилась ко мне миссис Гибб-Бэчелор, вызвав меня к себе в кабинет. – Одна маленькая птичка прилетела и рассказала, что ты, оказывается, влюблена.
– Если Агнес…
– Я же не говорю, что это Агнес, милочка. Когда подруга влюбляется, это же сразу видно, согласись? Сердце сердцу, говорят, знак дает…
– Это мое личное дело, миссис Гибб-Бэчелор.
– Несомненно. Но сама посуди, не могу же я допустить, чтобы мои воспитанницы страдали. Как у нас обстоит дело с месячными? Все как часы, надеюсь? Ну-ну, только не надувайся. Мне ли не знать, что творится с молоденькими девочками от любви? Все сроки сбиваются.
– Мне бы не хотелось говорить на эту тему, миссис Гибб-Бэчелор.
– А я верю этой маленькой птичке. Она врать не станет. – Миссис Гибб-Бэчелор наклонила голову и улыбнулась – в этот момент она тоже очень походила на птичку. – Между нами не должно быть секретов, Марианна. Не ты первая, радость моя, влюбляешься в профессора.
При одной мысли об этом я испытала такое отвращение, такое бешенство, что с трудом могла говорить:
– Я и не думала влюбляться в вашего мужа, миссис Гибб-Бэчелор! – сказала я как можно тверже.
Но миссис Гибб-Бэчелор мягко разъяснила мне, что любимых не выбирают и что нет ничего удивительного, что воспитанницы влюбляются в ее мужа: профессор определенно хорош собой, многие девушки находят его весьма привлекательным.
– Уверяю вас, это не так, миссис Гибб-Бэчелор. Все, что вы говорите, совершенно не соответствует действительности.
– Мой муж прекрасный человек, тонкая натура. В такого не зазорно влюбиться. Скажу больше, я часто думаю, что надо быть неординарной особой, чтобы…
– Но я не люблю его.
– Кого это «его»?! Некрасиво, дорогая, говорить о профессоре в третьем лице. И перебивать тоже нехорошо.
– Миссис Гибб-Бэчелор…
– А повышать голос и вовсе никуда не годится. Никто тебя не винит, моя дорогая, если же наши месячные наступают с опозданием, ничего страшного. Любовь есть любовь, Марианна.
Я пожала плечами, что также, как выяснилось, было дурным тоном. Я попыталась снова возражать, а потом раздумала. В конце концов, не все ли равно?
– Это пройдет, – обнадежила меня миссис Гибб-Бэчелор, – Охватившее тебя чувство со временем остынет, Марианна. Время, моя дорогая, – лучшее лекарство.
Эта сентенция означала, что наша беседа подошла к концу, и я ничего не ответила.
– Слушай, давай пойдем погуляем, – предложила мне Агнес Бронтенби, которая ждала меня у дверей кабинета миссис Гибб-Бэчелор.
Я отрицательно покачала головой и попыталась пройти мимо, однако она удержала меня за руку:
– Дорогая Марианна, будь благоразумной. Мы ведь знакомы столько лет. В школе ты мне всегда нравилась, Марианна, и я уверена, будешь нравиться и впредь.
– Пожалуйста, оставь меня, Агнес.
– Профессор…
– Черт возьми, да при чем тут этот несчастный профессор!
Я ушла, оставив ее в полном недоумении: такой грубости она от меня не ожидала. Потом, правда, она мне за это выговорила, но я даже не извинилась.
Шли дни, недели. Сыпь Мейвис не проходила. Цинтия сказала, что из-за невкусной пищи она похудела на целых четырнадцать фунтов. Официант в кафе «Добро пожаловать» смотрел на Агнес Бронтенби с нескрываемым удовольствием. «Dans l’immense salle regnait une ambiance joyeuse»[48]48
В огромном зале царила веселая атмосфера (франц.).
[Закрыть], – диктовала мадемуазель Флоранс, но я не понимала, что это значит, да и не хотела понимать. «Vous etes tres stupide[49]49
Вы ужасно глупы (франц.).
[Закрыть], – визгливо кричала она на меня. – Более stupide[50]50
Глупая (франц.).
[Закрыть] девушка не был когда-нибудь в Монтре».








