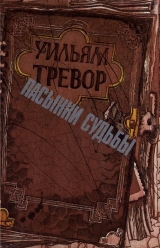
Текст книги "Пасынки судьбы"
Автор книги: Уильям Тревор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
– Нет уж, выслушайте меня, Марианна. – Отец Килгаррифф говорил тихо, но голос у него был недовольный.
Мать Имельды не ответила. Они сидели в гостиной, балконная дверь была открыта. Спрятавшись в саду, Имельда подслушивала их разговор. С недавнего времени это вошло у нее в привычку.
– В конце концов, это моя дочь, отец.
– В ваших рассказах есть какая-то ожесточенность.
– Как же ей не быть, отец? Не все же такие добрые, как вы. Это вы всем все прощаете: простили епископу, который лишил вас сана; простили этому человеку, который вместе со своими бандитами пришел сюда с канистрами с бензином.
– Сейчас этот человек мертв. Я не прощал ему, пока он был жив.
– А Вилли вы прощаете?
– Это самая большая трагедия в моей жизни.
– А известно ли вам, что мои родители за все это время ни разу не написали мне ни строчки. Они порвали со мной, не желают меня знать.
– Что ж вы хотите? Вы ведь поломали им жизнь, Марианна.
– Я любила своих родителей, отец.
– Я знаю, Марианна. Но ведь в этом доме, да и во всей округе не было ни одного человека, который бы не уговаривал вас вернуться с ними в Англию.
– Чтобы отдать моего ребенка на воспитание чужим людям? Чтобы забыть о его существовании? Чтобы сидеть взаперти и ждать, пока не подвернется какой-нибудь вдовец, которому нужна не жена, а экономка? Нет, уж лучше в работный дом!
– Имельде здесь и так нелегко. Но раз уж выбор сделан, не усложняйте ей жизнь еще больше. Это все, о чем я прошу вас.
В гостиной наступила тишина. Затем мать сказала:
– Смерть и разрушение отбрасывают тени, которые остаются на всю жизнь. Неужели вы этого не понимаете, отец? От той тени, что легла на Килни, нам не избавиться никогда.
– Я только хочу, чтобы вы иногда выводили Имельду из этой тени на солнечный свет.
Мать что-то ответила, но так тихо, что Имельда не расслышала. А потом она рассердилась и закричала:
– Господи! Разве ж это жизнь! Мыкается с места на место как неприкаянный!
– Человеку, который совершил убийство, немногое остается в жизни. Ничего не поделаешь, такова божья воля.
Мать успокоилась и опять заговорила так тихо, что Имельда услышала только самую последнюю фразу:
– С той ночи у вас у самого сильные боли. Вы могли погибнуть, когда бежали за этим воздушным змеем.
Она сказала еще что-то, но больше Имельда ничего не слышала и вскоре потихоньку ушла. Она забралась в самый дальний угол сада и села на солнце, облокотившись спиной о ствол дерева. На гнилую ягоду опустилась пчела, посидела и, деловито зажужжав, полетела дальше. У Имельды никак не укладывалось в голове, почему отец Килгаррифф мог погибнуть, когда бежал за ее змеем. Ей вновь представился мальчик на фотографии, который мыкается с места на место как неприкаянный.
– Пишу письмо, – ответила тетя Фицюстас. Она сидела за своим бюро. Была зима. Прежде чем пробить полчаса, захрипели и что-то затараторили старинные часы. У насупившегося Гладстона был какой-то нездоровый вид.
– А я написала письмо своему возлюбленному, – сказала Имельда.
Тетя Фицюстас засмеялась:
– А вот у меня нет возлюбленного.
– Но раньше ведь был. Филомена говорит…
– Ты ее больше слушай.
– …Филомена говорит, что когда-то вы были замужем.
– Верно, я была замужем, только очень недолго.
– И у отца Килгарриффа тоже была возлюбленная.
– Это тебе тоже Филомена рассказала?
– Нет, Тереза Ши.
– Вечно она сует нос куда не надо.
– Вот было б здорово, если б мистер Дерензи женился на тете Пэнси, правда?
– Многим так кажется.
– Почему же он тогда не женится?
– Мистер Дерензи считает себя не вправе нарушать заведенный порядок вещей.
Тетя Фицюстас встала и вышла из гостиной с заклеенным конвертом в руке, чтобы мистер О’Мара забрал письмо, когда утром принесет газеты. Имельда подошла к бюро и замерла, прислушиваясь к удаляющимся шагам тети Фицюстас. Слышно было, как она что-то сказала тете Пэнси, а затем хлопнула кухонная дверь. Тогда Имельда выдвинула две маленькие подпорки, которые только что вложила тетя Фицюстас, и опустила на них тяжелую откидную доску красного дерева. В бюро было множество всевозможных ящичков, горизонтальных и вертикальных, миниатюрных резных колонн и створчатых чернильниц. Были и потайные ящики: Имельда сама слышала, как тетя Фицюстас просила тетю Пэнси открыть ей ключом тот, что справа. Имельда стояла рядом, но подсмотреть, как открывается замок, ей не удалось.
Один ящик был забит счетами, в другом лежали образцы ткацких орнаментов. Она прочла несколько писем: одно из магазина в Корке, где говорилось, что пальто получены; другое от мистера Лэнигана – благодарность за гостеприимство и за варенье, доставившее всей его семье огромное удовольствие. Однако больше всего ее заинтересовало письмо, отправленное много лет назад и подписанное «А. М. Халлиуэлл» – Имельда знала, кто это, потому что мать часто упоминала это имя. «То, что я узнала всего неделю назад, – неслыханно, – говорилось в письме. – Мое имя Вам ничего не скажет, но я надеюсь, вы подтвердите, что все это вымысел. Если же это правда, мой долг сказать Вам, что этому ребенку нельзя появляться на свет. Своим существованием он лишь продлит трагедию, сделавшую его отца таким, какой он есть. В жизни своей не слыхала ничего более чудовищного».
3
Тетя Пэнси вязала шерстяные шлемы и отсылала их в Красный Крест. Тетя Фицюстас рассказывала, что мистер Лэниган выдал полиции немецких шпионов, неких Винкельманов, владельцев перчаточной фабрики. Отец Килгаррифф читал вслух «Айриш таймс» о капитуляции Франции. А Имельда продолжала подслушивать.
– Я им просто восхищаюсь, – говорила мать. – Каждый вздох дается ему с трудом, но он никогда не жалуется.
– Такой уж он человек, – сказала тетя Фицюстас. – Я его давно знаю. Прежде чем он поселился здесь, кто-то написал мне, что его лишили духовного сана, и, по правде сказать, я нисколько не удивилась. Навлечь на себя гнев влиятельного человека, подружившись с его дочерью, – вполне в его духе. Я ведь помню его еще мальчишкой: он часто приходил сюда из Лоха подработать в саду. Он не мог видеть чужие страдания, даже страдания животного. Вполне естественно, что после всего, что с ним стряслось, он вернулся в Килни.
– Но почему он считает, что мне следовало возвратиться в Англию? Впрочем, по-моему, ему кажется, что это и сейчас еще сделать не поздно.
– Он думает, что в Англии вам жилось бы лучше.
– А что думаете вы?
Чиркнула о коробок спичка, а затем послышался глубокий вздох. Имельда представила себе, как, затянувшись, тетка с наслаждением выпустила дым изо рта и ноздрей и жилистой рукой погладила по голове собаку – скорее всего, слепого сеттера, своего любимца.
– Я не могу с ним не согласиться, дорогая, – раздался наконец голос старухи. – После того несчастья, которое на нас обрушилось, вы с Имельдой – единственное светлое пятно в нашей жизни, но, скажу откровенно, я того же мнения, что и отец Килгаррифф.
– Но ведь он же вернется, как вы не понимаете. Когда-нибудь Вилли обязательно вернется.
Услышав эти слова, Имельда вновь вообразила, как к магазину Дрисколла подъезжает автобус и из него выходит отец, на этот раз в светлом – под стать волосам – костюме. «В тропических странах, – рассказывала на уроке географии сестра Малкахи, – монахини ходят в белом». «Пунтаренас – приморский город в Коста-Рике, – вычитала Имельда в дневнике матери. – Ирландский банк переводит ему туда деньги, а он уже куда-то уехал». Имельда представляла себе приморскую аллею, как в Йоле, и художника, рисовавшего на песке. «Джейз, по смотри-ка на Квинтон!» – хихикала на уроках Тереза Ши всякий раз, когда Имельда отвлекалась. Однако Имельда ничего не могла с собой поделать: все чаще и чаще – будь то в классе или на прогулке, воскресными вечерами, когда по радио передавали гимны, или же в постели – она погружалась в мир грез. Предаваться фантазиям стало для нее такой же привычкой, как читать дневники матери или подслушивать.
– Что ты здесь делаешь, Имельда? – удивилась, обнаружив ее в кустах, – тетя Пэнси, которая шла с мистером Дерензи по аллее, отправляясь на традиционную воскресную прогулку. В это время мистер Дерензи рассказывал ей про мельницу. Что-то совершенно неинтересное.
Дневники матери хранились в шкафу у нее в спальне – кипа блокнотов, точно таких же, какими пользовалась в качестве черновиков сама Имельда. Записи карандашом на грубой линованной бумаге от времени стерлись, и разобрать их было почти невозможно: «Если бы не отец Килгаррифф, я никогда бы не узнала про битву при Йеллоу-Форде. Теперь, правда, он об этом жалеет. Распорядившись продолжать войну в Ирландии до тех пор, пока это будет выгодно Англии, жестокая дальновидная Елизавета превратила поражение сэра Генри Бейджнела в победу. Об этом же в красной гостиной, за столом, заваленным учебниками, рассказывал в свое время отец Килгаррифф и тебе. «Очередная ирландская небылица» – наверное, казалось тебе тогда, а возможно, если ты вообще помнишь, о чем идет речь, кажется и теперь. Я же все, что происходит вокруг меня, в том числе и твое изгнание, воспринимаю как вечный бой. Но и будь ты со мной, разве могли бы мы сделать вид, что ничего не произошло? Даже если бы мы отстроили Килни, на наших детях все равно лежала бы тень смерти и разрушения, правда? Эта битва не прекратится никогда».
Имельда аккуратно положила блокнот на место. Почему-то сейчас ей вспомнилась строка из ее любимого стихотворения, и, повторяя ее, она побежала через поле к реке. «Слышу, как шепчется берег с тихой озерной волною…» Она уже помнила наизусть все стихотворение. Мисс Гарви сказала, что стихи Имельда читает лучше всех, а когда Тереза Ши захихикала, учительница выгнала ее из класса. «…Этот шепот со мною»[59]59
У. Б. Йейтс. «Остров Иннисфри». Перевод А. Сергеева.
[Закрыть], – произнесла вслух Имельда, опустившись среди маргариток на землю, у самой воды. Интересно, что испытала святая Имельда, когда к ней во время молитвы спустился с небес ангел? Как-то она спросила об этом сестру Роуан, но та ответила, что простому смертному знать этого не дано. Но Имельде все равно было любопытно.
Перепрыгивая с камня на камень, она перебралась на другой берег, некоторое время шла вдоль реки, а потом вернулась на мощенный булыжником дворик, зажатый между руинами с одной стороны и садовым крылом – с другой. По направлению к разрушенному особняку шли, переваливаясь, два гуся, и Имельда последовала за ними. Предупредив их, что среди камней и сорняков поживиться будет нечем, и загнав их обратно, во двор, она побежала на кухню.
Мать сердилась:
– Это ужасно, Имельда. Подслушивать стыдно. Как ты могла?
– Я подслушиваю от нечего делать.
– Если тебе нечего делать, погуляй с собаками. Ты же часто ходишь гулять.
– Я хожу на мельницу. Или к реке.
– Вот и прекрасно.
– Иногда мне это надоедает.
– Обещай мне, Имельда, что ты никогда, слышишь, никогда не станешь больше подслушивать.
Имельда обещала – обещать ведь легко. Разговор происходил в столовой, за закрытой дверью, потому что на кухне была Филомена, а в гостиной – тетя Пэнси и тетя Фицюстас.
– Тебе хорошо в школе? Скажи мне, Имельда. С Терезы Ши спрос невелик, но ведь все остальные с тобой ласковы, правда? Ты же монахиням нравишься?
Имельда не ответила. Она не сводила глаз с сидевшей на искусственных фруктах мухи. Как она, бедная, будет разочарована, обнаружив, что в этих фруктах нет сока. Да, подтвердила она, в школе с ней ласковы.
– И в Килни тоже. Тетя Пэнси души в тебе не чает. И тетя Фицюстас, и Филомена, и отец Килгаррифф. И мистер Дерензи, когда он приходит.
Муха взлетела над вазой с фруктами и, покружившись над стоявшей на комоде лампой, опустилась на пробку графина, где уже сидела другая муха. На цветном стекле пробки белела глубокая уродливая трещина.
– Да, – сказала Имельда.
– Скажи, ты бы уехала из Килни, Имельда?
Обе мухи потеряли к графину интерес. Одна исчезла под потолком, а другая поползла по дверце комода. Имельде вдруг показалось, что зеленая гондола едва заметно вздрогнула, словно вот-вот отплывет. Однако на другой картине люди, стоявшие у входа в церковь, оставались неподвижными. Стараясь не смотреть матери в глаза, Имельда спросила:
– Он действительно вернется?
– Да, когда-нибудь вернется.
– Иногда мне кажется, что всего этого не было. Что тут какая-то ошибка.
– Ошибка?
– Может, и Кухулин не гнал в стан врагов колесницу с мертвецами? Может, не было ни мучеников из Митчелстауна, ни священника из Йола?
– Нет, нет, Имельда, – мягко сказала мать, – все это правда. И не надо делать вид, будто этого не было.
И опять Имельде почудилось, что гондола качнулась на воде; на этот раз поднял руку и кто-то из стоявших у церкви – она это ясно видела.
– Эта женщина считает, что я не должна была появляться на свет.
– Какая женщина? О ком ты говоришь, Имельда?
– Мисс Халлиуэлл, ты же сама мне про нее рассказывала.
– Да, но я ничего такого тебе не…
– В бюро тети Фицюстас спрятано ее письмо.
– Ты что же, влезла в бюро? Имельда, какой стыд! Неужели ты сама не понимаешь, как это нехорошо? Ведь это все равно что подслушивать. Позор! Читать чужие письма – что может быть хуже!
– Я знаю.
Во дворе раздался голос Филомены и кудахтанье кур, и Имельда вспомнила, что, когда мать рассказывала ей о том, как в Килни приезжали родители уговаривать ее вернуться в Англию, она представила себе, что под окнами в накинутом на голову плаще прошла Филомена. Сейчас, чтобы задобрить мать, которая все еще сердилась, Имельда решила сообщить ей об этом, однако та посмотрела на нее с удивлением, сказав, что, насколько она помнит, во время разговора с родителями Филомена под окнами не проходила.
– А по-моему, проходила, – стала спорить Имельда. – Я в этом уверена.
Мать с еще большим недоумением посмотрела на девочку. В это же время, продолжала Имельда, тетя Фицюстас и тетя Пэнси привели с прогулки собак, тетя Фицюстас несла на блюде бисквитный торт, вошел в гостиную и отец Килгаррифф. Он подбросил торфа в камин, раздул кузнечными мехами пламя и сказал, что в такой день сырость до самых костей пробирает.
Имельда улыбнулась матери, давая понять, что разговор у них самый обыкновенный и будет лучше, если они помирятся и забудут о размолвке. Но мать, нахмурившись, думала о чем-то своем. Помолчав с минуту, она вернулась к началу разговора, и Имельде пришлось опять давать обещание, что она не будет больше подслушивать и лезть в бюро тети Фицюстас. Хорошо еще, с радостью подумала она, что не пришлось признаваться, что она читала не только письма тети Фицюстас, но и дневники матери.
В тот вечер, лежа в постели, Имельда вспомнила этот разговор. Получилось неудачно. Впрочем, она и сама толком не знала, мог ли он кончиться по-другому. Жаль только, что вышла какая-то путаница. Потом она стала думать о красной гостиной, разбросанных по столу учебниках и о светловолосом мальчике ее возраста, которому никак не давалась латынь. С улицы доносится запах душистого горошка, а вот и она сама выходит из гостиной в сад посмотреть, как Тим Пэдди ровняет граблями дорожку.
«По мнению экспертов, убийство, вероятнее всего, было совершено ножом мясника».
Имельда вложила аккуратно вырезанную из газеты заметку обратно в потайной ящик и задвинула его. Собственно говоря, никакой особенной тайны в нем не было – просто надо было провести пальцами по резной колонне.
Она бесшумно подняла крышку бюро и убрала подпорки. «Голова была частично отделена от шеи, на теле обнаружено семнадцать ножевых ранений».
– Голова, – произнесла вслух Имельда, повернувшись к бюро спиной и облокотившись на него. Она представила себе, как свисает с шеи полуотрубленная голова; представила глаза, рот и подергивающееся тело: точно так же, еще целую минуту после смерти, бился индюк – она сама видела.
4
– Привет, Имельда, – сказал мистер Дерензи.
– Привет, Имельда, – сказал Джонни Лейси.
Нравится ли ей мельница? Нравятся ли ей зеленый циферблат мельничных часов, шум воды и по-осеннему красные виноградные побеги на камне? Вроде бы нет, не нравятся. «Некрасиво все это», – внезапно подумалось ей.
– Сегодня у нас много дел, Имельда, – сказал Джонни Лейси, – а то бы я обязательно что-нибудь рассказал тебе.
– Поторапливайся, Джонни! – крикнул ему мистер Дерензи.
Вытянув свои длинные, худые ноги, она села прямо на булыжник, которым был вымощен мельничный двор. «Ноги у тебя как спички», – говорила ей Тереза Ши. «С возрастом еще похудеют», – предсказала она, но тетя Пэнси сказала, что все это ерунда. «Ты будешь красавицей, Имельда, – пообещала она. – Вот увидишь».
Странно все-таки, что мать все время твердит ей: он обязательно приедет, надо только набраться терпения. Странно, что она что-то записывает в старом своем блокноте – разобрать ведь все равно ничего нельзя. Имельда поднялась с булыжника и пошла к мистеру Дерензи в контору.
– Вам нравится мельница? – спросила она его. – По-вашему, здесь хорошо?
– Не знаю, что и сказать: я ведь здесь не первый день работаю.
– А эта мельница всегда тут будет, мистер Дерензи?
– Куда ж она денется?
Сначала Имельда шла березовой рощей, потом полем. Какое удовольствие подойти к этому дереву и прижаться к нему – как позавчера. Обвить руками его ствол: оно же ни в чем не виновато; чудовищно обвинять бедный старый дуб, глупо его бояться. «Имельда – глупельда», – бывало, дразнила ее Тереза Ши, но это было давно, больше она ее так не дразнит.
Имельда села, закрыла глаза, и, когда он сошел с автобуса у магазина Дрисколла, она испытала такое же чувство, будто прижалась к дереву. «Имельда, – сказал он. – Какое чудесное имя!» И тогда она рассказала ему про святую Имельду и про то, как ей явился ангел. А он улыбнулся и погладил ее по голове.
Она вскочила и побежала по краю поля. Иной раз, когда она бежала, ее фантазии не удерживались в голове, словно бы рассыпаясь на мелкие части. Теперь же этого не произошло. Гладя ее по голове, он рассказал, как вошел в магазин, маленький пыльный магазинчик, похожий на лавку старьевщика, ту самую, у подножия крутой горы, в Корке. Какая-то подслеповатая старуха сняла с витрины три висевших на связке ножа, и он сам развязал бечевку. Другого выхода не было, пришлось пойти именно в такую лавку, пояснил он, ведь подслеповатая старуха никогда бы его не опознала.
Имельда перелезла через каменную стену и, выбившись из сил, упала на траву. На палубе веселилась большая компания, ехавшая со свадьбы. Люди пели, обсыпали друг друга конфетти. Двое плясали и пили прямо из горлышка, а у маленькой девочки в белом атласном платьице все личико было измазано шоколадом. Он же всю дорогу ощупывал лезвие ножа в кармане.
«А вечер, – нашептывала себе Имельда, опять кинувшись бежать по полю, – сплошные вьюрковые крылья». Иногда читать стихи помогало. Нырнув в крапиву, она забилась в угол разрушенного особняка. «Полдень жарко-багрян», – шептала она.
Рядом с ней на камни и штукатурку стекала вода. Она начала было читать стихи, но сбилась, закрыла глаза, и в комнате над овощной лавкой, забрызгав рваные, свисавшие клочьями обои, неудержимым потоком хлынула кровь. Кровь была липкая, она текла по ее ладоням, обрызгала волосы. От крови намокло платье, теплая струйка побежала по телу.
Имельда опустила в крапиву голову, но ожогов не почувствовала. Она заткнула уши и крепко зажмурилась.
Но картинка не исчезла.
Опять раздались истошные крики детей, языки пламени лизали их кожу. Во дворе лежали трупы собак, а на лестнице – обгоревшее тело мужчины в байковом халате. По ее рукам продолжала течь кровь, от крови слиплись волосы.
Урок подходил к концу, и мисс Гарви уже начала застегивать юбку.
– В четверг мы поговорим с вами о «Балладе про отца Гиллигана»[60]60
Стихотворение У. Б. Йейтса из сборника «Роза» (1893).
[Закрыть], – сказала она.
Мисс Гарви велела стереть с доски, но тут произошло нечто совершенно необъяснимое: Имельда Квинтон, вытянув вперед руки, встала из-за парты, где она сидела с Лотти Райлли, и медленно, будто во сне, пошла по проходу. Неуверенным шагом, спотыкаясь, девочка направилась в угол класса, рухнула на пол, вся сжалась и ткнулась головой в стену. И, всхлипнув, затихла.
Вилли
1
В телеграмме было всего несколько слов: «Джозефина умирает. Больница святой Бернардетты». Монахиня, которая дала эту телеграмму, по-видимому, догадывалась, что я пойму, о ком идет речь. Она оказалась права: я попытался припомнить фамилию Джозефины, но не смог.
Я тут же отправился в путь. Уложив маленький белый чемоданчик, я выехал автобусом из Сансеполькро, где тогда жил, в Ареппо, не удосужившись даже заглянуть в расписание поездов Ареппо – Пиза. «А вот и Джозефина», – сказала мать, спускаясь через застекленную дверь на лужайку.
Автобус медленно ехал по залитой весенним солнцем, нежно-зеленой Умбрии. На протянувшихся по обеим сторонам дороги виноградниках появились молодые побеги. Казалось безумием, что я, с головой ушедший в Беллини и Гирландайо[61]61
Джованни Беллини (ок. 1430–1516), Доменико Гирландайо (наст, имя ди Томмазо Бигорди, 1449–1494), итальянские живописцы эпохи Раннего Возрождения.
[Закрыть], бросаю свои чайные розы, ирисы и глицинии. Однако о том, чтобы вернуться назад, не могло быть и речи.
В Пизанском аэропорту была забастовка, и я поехал в Париж «Римским экспрессом». В поезде я ел pasta in brodo[62]62
Разновидность макарон (итал.).
[Закрыть] и scalopine[63]63
Эскалопы (итал.).
[Закрыть] и смотрел в окно на крытые оранжевой черепицей крыши и крашенные охрой стены. Я выпил литр «Бролио» и рюмку виноградной водки с кофе. К старости Джозефина, наверно, смирилась с судьбой, подумал я, и мне стало стыдно, что я даже не знаю ее фамилии. С тех пор как я уехал, я ничего не слышал о ней – что она делала все эти годы, где жила. Ведь я тогда с ней даже не попрощался – поэтому-то, возможно, и пустился без промедления в такое далекое путешествие.
В самолете хорошенькая стюардесса, которой очень шла зеленая форма, была необычайно предупредительна. Ее голос напомнил мне Ирландию.
– Можно вас на минутку? – позвал я. – Да, пожалуйста, немного виски.
Она улыбнулась мне своей ослепительной фирменной улыбкой и, шепнув «Джеймсон»[64]64
Марка ирландского виски.
[Закрыть], словно приласкала меня этим знакомым словом.
В Корке пришлось долго ждать такси, и я выпил еще виски – не приезжать же трезвым в какую-то неизвестную больницу, тем более в городе, где не был столько лет?
– Машин нынче – не проедешь, – пожаловался таксист. – Сплошные пробки.
Я попросил его ехать как можно быстрее.
– Понимаю, – сказал он, и я почувствовал, что он догадывается, в чем дело – ведь ехали мы в больницу. Он машинально перекрестился.
– Я не был в Корке сорок лет, – сказал я.
– Увидите, как он переменился, сэр.
– Когда-то я жил здесь.
– Да ну? По вашему произношению не скажешь. Я принял вас за иностранца.
– Я стал иностранцем.
– Небось сорок лет назад городок-то был совсем маленький?
– Да нет, он и тогда был оживленным городом. Сколько судов стояло у причала!
– Судов и сейчас хватает. Янки Корк любят.
– Надо думать.
– Некоторых, правда, события на севере[65]65
То есть в Северной Ирландии.
[Закрыть] отпугнули. Там сейчас такая заварушка началась, что, глядишь, и до нас дойдет.
– Я знаю про беспорядки из газет.
– А где вы сейчас живете, сэр?
– В Сансеполькро. В Италии.
– Никогда не был в Италии.
Мы подъехали к серому больничному зданию с большим белым крестом. Во дворе перед стоянкой машин возвышалась статуя Богоматери; у ее ног, на выступе, в стеклянных банках из-под варенья стояли цветы. Перед статуей молилась на коленях какая-то старуха.
– Что ж, желаю удачи, сэр, – сказал таксист.
Я расплатился и с чемоданчиком в руке вошел через вращающиеся двери в вестибюль, где за конторкой сидела монахиня. Ноги скользили по сверкающему, до блеска отполированному паркету, которым был выложен и огромный вестибюль, и коридор за такими же вращающимися дверьми напротив. Вдоль светлых стен стояли стулья, а над головой у монахини висел крест.
– Пожалуйста, подождите, – сказала она с заученной улыбкой – в зависимости от обстоятельств эта по-больничному трогательная улыбка должна была утешать одних и радовать других. – Да, вы присядьте.
Я сел. На стульях молча сидели люди: мужчины и женщины разного возраста, двое маленьких детей. Монахиня что-то сказала в телефонную трубку. Сидевший рядом со мной мужчина достал было из кармана пачку сигарет, но вспомнил, что в вестибюле курить не разрешается.
– Пожалуйста, следуйте за мной, – сказала мне другая монахиня, и я пошел за ней по длинному коридору, который тянулся за вращающейся дверью.
– Я не опоздал, сестра?
– Нет, вы не опоздали.
Мы вошли в темную комнату. Джозефина высоко лежала на подушках с закрытыми глазами; рядом, на тумбочке, были четки, на стене у нее над головой – распятие. У кровати сидела молодая монахиня.
– Я оставлю вас с сестрой Пауэр, – шепнула монахиня, которая привела меня сюда. Сестра Пауэр встала со стула, неслышными шагами, шурша платьем, направилась ко мне и опять вывела меня в коридор. Мы остановились за дверью и заговорили шепотом.
– Ее привезли сюда неделю назад, – сообщила она. – В приюте святой Фины сочли, что у нее воспаление легких и ей понадобится больничный уход.
– Так и оказалось?
– Нет, она всего лишь простудилась. Но с каждым часом ей становится все хуже. Простите, – добавила она, – у меня к вам просьба. Если, проснувшись, она почувствует, что от вас пахнет спиртным, то очень расстроится. Пожалуйста, прополощите рот.
Она вернулась к постели больной, а я, в сопровождении другой монахини, вошел в маленькую комнатку, где хранились лекарства.
– Пожалуйста, – сказала монахиня таким голосом, будто полоскать рот перед посещением больных было в порядке вещей.
Я сполоснул рот и выпил воды. Когда в Килни Джозефина входила в столовую забрать грязную посуду, беседа за столом продолжалась, что бы в этот момент ни говорилось. Каждое утро она первым делом разжигала плиту, следом – камин в гостиной и только потом – камин в столовой.
– Спасибо, – сказала монахиня и отвела меня обратно в палату Джозефины. Я сел у ее кровати и первый раз внимательно посмотрел на нее. От былой красоты не осталось и следа: лицо худое – еще более худое и морщинистое, чем у меня, – к тому же из-за закрытых глаз совершенно безжизненное. Редкие седые волосы, на лбу – коричневые пятна. Однако больше всего изменились лежавшие поверх белого вышитого одеяла руки: от старости они тоже сморщились, зато потрескавшаяся от физического труда кожа разгладилась.
– Да, – сказала она, внезапно открыв глаза. – Да.
В них под пеленой усталости скрывалась прежняя нежность. Ее пальцы шевельнулись, губы слегка вздрогнули.
– К вам посетитель, Джозефина.
Глаза закрылись и через мгновение открылись снова. Она смотрела прямо перед собой, между мной и монахиней, на пустую стену напротив.
– Посетитель, – повторила сестра Пауэр, по-монашески плавным жестом указывая в мою сторону.
– Килни, – сказала Джозефина, и у нее из глаз покатились слезы. – Пресвятая Дева Мария, утешь их, – прошептала она.
Сестра Пауэр вложила четки в ее сжатые пальцы, но Джозефина этого не заметила.
– Утешь их, где бы они ни были, – Сказала она. – Утешь их.
Глаза ее снова закрылись.
– Она уснула, – сказала сестра Пауэр.
С этими словами она нажала на кнопку звонка у кровати, и через минуту в палату вошла еще одна монахиня. Попросив ее посидеть у постели умирающей, сестра Пауэр кивком головы позвала меня следовать за собой. Пройдя по коридору, мы вошли в комнату с еще одним распятием, на этот раз маленьким и черным, висевшим в простенке между окон. Помимо распятия на стене висели Сердце Христово и Божья Матерь.
– Сварю-ка я кофе, – сказала сестра Пауэр, включая в розетку электрический чайник. – Полагаю, мы правильно поступили, что дали вам знать?
– Да, конечно.
– Кофе хотите?
– Да, если можно.
Она открыла буфет, достала коробку с печеньем и расставила на своем письменном столе, среди бумаг, синие чашки и блюдца. Порывшись в буфете, она извлекла оттуда сахар и банку сгущенного молока.
– Мы не знали, посылать за вами или нет. В какой-то день она все время, не переставая, твердила ваше имя, и пришлось разыскивать вас через вашего поверенного. В Италии, должно быть, чудесно?
– Я люблю Италию.
– В приюте святой Фины, думаю, ей жилось неплохо. Там о ней отзываются с большой теплотой. Сюда они звонят каждый день.
– Приют святой Фины?
– Да, она там работала. Это приют для престарелых монахинь.
Закипел чайник. Сестра Пауэр молча заварила кофе – вообще, длинные паузы в разговоре ее нисколько не смущали.
– Пока у нее были силы, она все время молилась. Просила у Бога одного: чтобы оставшиеся в живых утешились в своем горе. И чтобы Ирландия вняла Божьему слову.
Я промолчал. Сестра Пауэр предложила мне еще печенья, но я отказался. Затем монахиня встала, и мы вернулись в палату.
– Джозефина, – тихо позвал я.
– «Вынеси этим людям по бутылке портера», – велел мне твой отец. Он ведь никогда ни о ком не забывал.
– Да, он был добрый.
– «Хочется одного, – говорила твоя мать, – Закрыть глаза и ничего не видеть». Какие только образцы обоев я ей не предлагала! А ей все было безразлично. Дом в Корке для нее не существовал.
Джозефина опять закрыла глаза и тут же их снова открыла.
– Имельда, – сказала она. – Святая Имельда.
И с этими словами умерла. Четки безжизненно повисли на ее пальцах.
Дородный седовласый священник не без чувства произнес слова заупокойной молитвы, и я подумал, что он, наверно, знал Джозефину и уважал ее за смирение и набожность. Сбившись в кучку, монахини из приюта святой Фины шептали, когда это требовалось, слова молитвы. Как только наша небольшая толпа начала расходиться, появились двое могильщиков с лопатами.
– Простите, – услышал я за спиной голос священника, повернулся и подождал, пока он со мной поравняется. – Я знаю, кто вы. Вы ведь приехали из Италии.
– Да.
– На нее снизошел покой.
– Да.
Он зашагал со мной рядом. Ветер трепал его стихарь. Было ужасно холодно.
– Вы могли бы спокойно остаться в Ирландии, сэр. Прошло ведь уже достаточно времени.
– Значит, она поэтому меня вызывала?
– Сейчас уже с вами никто возиться не станет. Уж вы меня простите, мистер Квинтон, что я так говорю.
Я вернулся в Италию – к своему Гирландайо, к своим чайным розам и ирисам. И к святым, которых так чтят итальянцы. К святой Имельде из Болоньи, которую упомянула Джозефина и в один день с которой родилась моя дочь; к святой Кларе, которая спасла Ассизи; к святой Екатерине, которая отрезала себе волосы, чтобы никто не захотел на ней жениться. Святой Криспен был сапожником. Святой Павел делал шатры. В пустыне, где молился святой Эвтимий, из земли забил живой источник. От мертвого тела святого Зенобия расцвело увядшее дерево. В старости я полюбил святых.
На вокзале во Флоренции в огромных керамических вазонах цвели азалии, потрясающие цветы, красные, желтые, кремовые, искусно подобранные по цвету – я специально поехал через Флоренцию, чтобы ими полюбоваться. «Когда изучаешь жизнь святых, – сказала мне монахиня в больнице, после того как Джозефина упомянула святую Имельду, – то убеждаешься, что без ужасов и несчастий они не стали бы святыми. Вспомните жизнь Господа Нашего». Джозефина всегда была посредницей, служанкой – даже при смерти. В Килни жила моя душевнобольная дочь, и все же Джозефина хотела, чтобы я вернулся: в Ирландии иногда бывает, что безумных принимают за святых. В Ирландии ведь вообще любят легенды.








