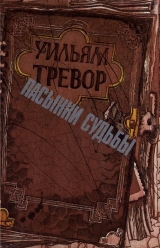
Текст книги "Пасынки судьбы"
Автор книги: Уильям Тревор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Пасынки судьбы

Вилли
1
1983 год. В Дорсете, в огромном особняке Вудком-парк кипит жизнь. В Ирландии, в небольшой усадьбе Килни тихо, как в могиле.
За то, чтобы полюбоваться роскошным парком Вудком, пройтись по его тенистым аллеям, со взрослых взимается пятьдесят пенсов, с детей – двадцать пять. В особняке, построенном в конце шестнадцатого века, и по сей день живут потомки старинного рода, которые полны решимости удержать его за собой. Их раздражают гуляющий в парке народ, автомобильные стоянки, которые им же самим пришлось сделать, мусор на дорожках. Но вида они, разумеется, не подают.
Раскинувшийся невдалеке городок, которому Вудкомы обязаны своим именем и в котором издавна изготовляются военные нашивки и краги, известен своими изящными резными оконными переплетами. После осмотра старинного поместья туристы любят побродить здесь, посидеть в «Медном чайнике» или в «Погребке Деборы» и полакомиться лепешками и коржиками – еще одной достопримечательностью Вудкома. Им и невдомек, что без малого сто шестьдесят лет назад некая Анна Вудком, тогда еще семнадцатилетняя девушка, вышла замуж за ирландца Уильяма Квинтона, который увез ее с собой в графство Корк, в усадьбу Килни, что находится неподалеку от деревеньки Лох, от которой в свою очередь рукой подать до городка Фермой. Им невдомек, что еще полвека спустя некий полковник, дальний родственник Вудкомов из Вудком-парка, квартировал со своим полком в Фермое. Его старшая дочь тоже полюбила молодого человека из рода Квинтонов и обосновалась в Килни. А младшая вышла замуж за молодого английского викария, дав ему тем самым возможность получить приход. Их единственная дочь воспитывалась в Вудкомском приходе, а потом, как это часто бывает у англичан и ирландцев, история повторилась: она влюбилась в своего ирландского кузена Квинтона и стала третьей англичанкой, переехавшей в Ирландию.
Они-то и живут сейчас в Килни. В 1983 году за осмотр усадьбы и прогулку по саду никто пятидесяти пенсов не платит. Никто не рассказывает туристам, что тутовые деревья в память о Вудкоме посадила в Килни еще в прошлом веке та самая Анна Вудком. Никто не объясняет, что усадьба, вполне возможно, называется Килни[2]2
Kiln (ирл.) – церквушка, часовенка. – Здесь и далее примечания переводчиков.
[Закрыть] потому, что здесь когда-то находилась церковь, заложенная, быть может, еще святым Фиахом. Никто не высказывает предположения, что фамилия Квинтон восходит к святому Квентену, имени нормандского происхождения.
Находящаяся в полутора милях от усадьбы деревенька Лох ничем не примечательна: на единственной улице возвышается каменное здание монастырской школы, а по соседству – ангар с сельскохозяйственным оборудованием. Кафе здесь нет, есть только пивная Суини, где можно выпить чаю, да лавка промышленных и продовольственных товаров Дрисколла, где туристам делать нечего. Прошлое, так хорошо сохранившееся в огромном дорсетском особняке и в близлежащем городе, в Килни отдается далеким эхом лишь в голосах двоюродных брата и сестры.
2
Как жаль, что мы с тобой росли не вместе; жаль, что тебя не было в красной гостиной, где летом стоял нежный аромат роз, а зимой уютно пылал камин, который топил Тим Пэдди. Каждое утро на овальный стол выкладывались задачники и учебники, в одну чернильницу стеклянного письменного прибора подливали красные чернила, в другую – черные. В то далекое время я даже не подозревал о твоем существовании.
– Agricola[3]3
Земледелец (лат.).
[Закрыть], – сказал отец Килгаррифф в тот день, когда мы впервые взялись за латынь. – Поговорим об этом слове.
На обшитом медью ящике для поленьев были выбиты жанровые сценки. Больше всего мне нравилось изображение сельской трапезы. За столом сидели мужчины, женщина подавала им еду, и один из сидевших пытался за спиной схватить женщину за руку. По тому, как он вывернул свою руку, чувствовалось, что делает он это потихоньку от всех. Эта женщина была женой другого фермера? Мужчина только домогался ее или она уже изменяла с ним мужу? Из-за грубой чеканки лица выбитых на меди фигурок разобрать было почти невозможно. Странно только, что они сидели за столом, не сняв своих старомодных шляп.
– В латинском языке существительное склоняется, Вилли. Есть шесть падежей: именительный, звательный, винительный, родительный, дательный и творительный. Agricola, agricola, agricolam, agricolae, agricolae, agricola. Понятно, Вилли?
Я отрицательно покачал головой.
– Земледелец, – перевел отец Килгаррифф. – О, земледелец, нет земледельца, к земледельцу, вижу земледельца, с земледельцем… Теперь сообразил, Вилли?
– Боюсь, что нет, отец.
– Ох, Вилли, Вилли…
Слова эти отец Килгаррифф всегда произносил со смехом. Он был лишен духовного сана, но в нашем протестантском доме продолжал ходить в черном и носить белый воротник, выдававший в нем священника. Такой наряд шел ему: он был смуглый, как испанец, и сам говорил, что у него, по-видимому, есть испанская кровь. По его мягкому смеху и веселым глазам на бледном красивом лице никогда нельзя было бы сказать, что этот человек на всю жизнь запятнал себя позором. Жил он в садовом крыле вместе с тетей Фицюстас и тетей Пэнси, которые приютили его после происшедшего с ним несчастья. По словам Джонни Лейси, работавшего у нас на мельнице, отец Килгаррифф так мало платил за пропитание, что вынужден был присматривать за коровами и давать мне уроки. Родом он был из нашей деревни, но сана лишился где-то в графстве Лимерик. Если верить Джонни Лейси, не приюти его в Килни мои тетушки, ему пришлось бы прозябать в какой-нибудь лимерикской ночлежке. Мне он казался стариком, но в то время, как я теперь понимаю, ему было никак не больше тридцати. Более доброго человека встречать мне не доводилось.
– Agricola значит «земледелец», отец?
– Ну вот, кажется, ты начинаешь что-то понимать.
На белой мраморной каминной доске были выбиты узоры из листьев, всего сто восемьдесят листьев, по шесть в каждом пучке. Стеклянные плафоны на четырех медных лампах по форме напоминали луковицы, а китайский ковер был вышит семью разными оттенками синего цвета. Из золоченой рамки над камином выглядывал мой прадед, своей прической сильно смахивающий на спаниеля. Ровесник Французской революции, он был самым необыкновенным человеком из всех моих предков по отцовской линии. В ознаменование победы при Ватерлоо он высадил перед домом целую буковую аллею, а спустя тридцать лет, похоронив жену, чей портрет также висел над камином, еще раз потряс соседей совсем уж невероятной выходкой. Во время Великого голода 1846 года[4]4
Имеется в виду так называемый Картофельный (или Великий) голод, охвативший колониальную Ирландию в 1845–1847 гг., в результате чего погибло более 1 млн. человек, а эмиграция составила с 1846 по 1851 г. 1,5 млн. человек.
[Закрыть] Анна Квинтон разъезжала по окрестностям, помогая чем могла больным и умирающим. Экипаж ее был так тяжело гружен зерном и мукой, что однажды даже переломилась пополам ось. «Мясо портится от жары, – писала она, – но даже тухлятину у меня вырывают из рук». Так вот, когда она умерла от сыпного тифа, ее похожий на спаниеля муж заперся в Килни на долгих одиннадцать лет, не желая никого видеть. Говорили, что дух покойной жены являлся ему. Как-то утром, выглянув из окна своей спальни, он увидел ее, словно Богоматерь, вдали на холме, и она велела ему отдать большую часть земли тем, кто пострадал от голода, что он, из любви к ней, и сделал. Его сын, мой дед, которому тогда было двадцать пять лет и который должен был эту землю унаследовать, отнесся к отцовской затее без большого энтузиазма. По словам Джонни Лейси, к той земле, что осталась, он потерял всякий интерес, и только мой отец привел дела в порядок.
– Существительное склоняется, Вилли. А глагол спрягается.
– Понятно.
Была весна 1918 года, отцу не терпелось отправить меня в пансион, но мать считала, что я еще слишком мал. «И не заметишь, как время пролетит», – любила говорить она, и от этих слов становилось не по себе: покидать Килни мне совсем не хотелось. В 1918 году я был восьмилетним светловолосым мальчиком с синими квинтоновскими глазами и болезненным – на первый взгляд – личиком.
– А теперь давай займемся историей, – предложил отец Килгаррифф, откладывая зеленую латинскую грамматику. На исторические темы он всегда говорил с увлечением, однако к победоносным сражениям, к войне как к средству достижения цели относился скептически. Его героем был Даниел О’Коннел[5]5
Даниел О’Коннел (1775–1847), лидер либерального крыла ирландского национального движения.
[Закрыть], который дал свободу ирландским и английским католикам и который, как и отец Килгаррифф, не терпел насилия. Отец Килгаррифф часто говорил о нем, но не только о нем: он рассказывал мне о многих замечательных мужчинах и женщинах, обогативших историю мятежного острова: о королеве Мэб[6]6
Персонаж кельтского фольклора.
[Закрыть], и о королях Манстера[7]7
Манстер – одна из четырех исторических провинций Ирландии; возможно, имеются в виду манстерские графы Десмонды, поднимавшие восстание против англичан в 1569–1583 гг.
[Закрыть], о Уолфе Тоне и лорде Эдварде Фицджералде[8]8
Тиоболд Уолф Тон (1763–1798), Эдвард Фицджералд (1763–1798), ирландские революционеры, основатели и руководители патриотического общества «Объединенные ирландцы»; погибли во время восстания 1798 г., подавленного англичанами.
[Закрыть], о Роберте Эммете[9]9
Роберт Эммет (1778–1803), деятель ирландского национального движения, в 1798 г. примкнул к «Объединенным ирландцам», казнен при попытке поднять восстание; был влюблен в Сару Каррен, дочь ирландского общественного деятеля, литератора, юриста, поборника католической эмансипации Джона Филпота Каррена (1750–1817).
[Закрыть], который любил Сару Каррен, и о Томасе Дэвисе[10]10
Томас Дэвис (1814–1845), ирландский поэт, публицист, видный участник национально-освободительного движения.
[Закрыть], который писал стихи. Англия всегда была врагом, в великих битвах кровь соперников лилась одной рекой, а решающая битва произошла при Йеллоу-Форде[11]11
Имеется в виду битва 1598 г. на реке Блэкуотер в графстве Корк между английскими войсками королевы Елизаветы под командованием маршала Генри Бейджнела (1556–1598) и ирландскими повстанцами, возглавляемыми вождями Ольстера графом Тирконнеллом (Хью О’Доннеллом, 1571–1602) и графом Тайроном (Хью О’Ниллом, 1540–1616), в которой ирландцы одержали победу (см. ниже).
[Закрыть].
– В этом сражении мы должны были навсегда покончить с завоевателями, – заявил отец Килгаррифф. – Должна была начаться новая история единой, независимой Ирландии, но, разумеется, этого не произошло. Сражения ведь ничего не решают.
Я не вполне понимал, что он имеет в виду, хотя и знал, что победа 1598 года почему-то обернулась поражением, ведь иначе бы ирландские солдаты не сражались сейчас на стороне Англии в Германской войне. Ни в деревне, ни в Фермое, где находились казармы, не осталось ни одного мужчины. Все солдаты, откуда бы они ни были – из Лоха или из Шеффилда, распевали хором «Долог путь до Типперэри»[12]12
«Долог путь до Типперэри» – первые слова известной солдатской песни, написанной в 1912 г., особенно популярной во время первой мировой войны; Типперэри – город в Ирландии.
[Закрыть]. Эту песню не раз пел мне и Джонни Лейси, который говорил, что не попал на фронт только потому, что у него одна нога короче другой.
О’Нилл, наш садовник, был слишком стар, чтобы воевать, а Тим Пэдди, его сын, наоборот, слишком молод. Но я хорошо помню, как несколько рабочих с мельницы расхаживали в гимнастерках и демонстрировали всем бритые лбы. Они ужасно собой гордились, а потом вместе со всем полком манстерских стрелков полегли под Седдэл-Баром. А еще раньше – вероятно, в первые дни войны – во Франции был убит муж тети Фицюстас, англичанин, с которым она прожила всего месяц. Вскоре после его смерти тетя вернулась в Килни, хотя сам я этого не помню.
Каждый день в половине первого отец Килгаррифф покидал гостиную и возвращался к себе, в садовое крыло, прозванное так из-за находившегося за ним сада с тутовыми деревьями. Усадьба была построена в 1770 году, парк разбит в это же время, а вот тутовые деревья появились позднее. Десять окон белыми рамами выходили на каменный фасад с колоннами, вазонами и такой же, как окна и двери, белой парадной лестницей. По замыслу архитектора, трубы устанавливались на шиферной крыше таким образом, что снизу их было не видно. Сам дом имел форму буквы Е с отсутствующим центральным зубцом, а между вытянутыми назад крыльями находился мощенный булыжником дворик. В кухонном крыле были главная кухня и длинная прохладная молочная ферма, выходившая окнами на задний двор, а наверху – целая анфилада жилых комнат, большинство из которых пустовали За кухней находился огород О’Нилла. В садовом крыле тоже имелась своя небольшая кухня, чтобы мои тетушки вместе со служанкой Филоменой и отцом Килгарриффом могли вести отдельное хозяйство. Это были родные сестры отца: тетя Фицюстас – крупная, мужеподобная, с тяжелой челюстью, носившая твидовые шляпки и булавки для галстука; тетя Пэнси – тихая, с розовыми щечками. Большую часть времени они проводили в саду: тетя Пэнси собирала цветы, из которых потом делала гербарий, а тетя Фицюстас косила траву либо удобряла кусты, хотя старый О’Нилл ворчал, что ни того, ни другого делать не следует. Были у них свой пони и двуколка, в которой они ездили в Лох и в Фермой, а также целая свора бездомных собак, которых мой отец не любил, но и не запрещал.
– Ну-с, как наши успехи? – осведомился он за обедом в первый день моих занятий латынью. Однако стоило мне пуститься в объяснения, как меняется по падежам слово agricola, и отец тут же сменил тему. Он прикоснулся ко лбу кончиками пальцев – жест страдающего клаустрофобией, усугублявшейся всякий раз от многословия или же быстрой речи собеседника. Отец вообще был человеком основательным и не терпел спешки. В сопровождении двух черных ньюфаундлендов, шедших за ним по пятам, он любил пройтись по аллее, под сенью столетних буков, молча празднующих поражение Наполеона. Ветви деревьев сплетались над головой, закрывали небо; весной и летом в аллее было тихо, как в пещере, отчего отцу и нравилось в одиночестве гулять по дорожкам. Он готов был часами слушать О’Нилла или отца Килгарриффа при условии, что они не будут говорить слишком быстро, чему они со временем научились. Приноровилась к его привычкам и мать, а вот Пэдди по молодости часто об этом забывал, да и я с сестрами – тоже. За столом мать делала нам знаки рукой, чтобы мы не шумели, а в кухне миссис Флинн, кухарка, предупреждала новую служанку, что отца раздражают шум и громкие голоса. Касаясь лба кончиками пальцев, он всегда улыбался, словно считал эту болезнь немного глупой. Ставить же свою уравновешенность в пример другим ему никогда бы и в голову не пришло – это было, как сказала бы моя мать, не в его духе. На вид он был настоящим ирландским помещиком: неуклюж, медлителен, лицо загорелое, обветренное, неизменный твидовый костюм. Отец сам говорил, что, как и всякий выходец из Корка, он ужасно несамостоятелен, не способен принимать решения. «Что бы мне сегодня надеть?» – бывало, спрашивал он утром у матери, сидя за завтраком в байковом халате, наброшенном поверх пижамы.
Мать была высокого роста, с изящным овальным лицом и глазами, напоминавшими мне каштаны. У нее были черные волосы с пробором посередине, прямой, тонкий нос и губы, как темно-розовый бутон. У всех членов семьи: у отца, у меня и у моих сестер, семилетней Джеральдины и шестилетней Дейрдре, – она пользовалась непререкаемым авторитетом. Родители отца жили вместе с нами в центральной части дома, но год назад и дед, и бабушка умерли, причем в одном и том же месяце. Помимо кухарки миссис Флинн и единственной живущей служанки, в Килни по понедельникам и четвергам приходила из Лоха Ханна, которая мыла полы и стирала. О’Нилл и Тим Пэдди жили у ворот в сторожке с уютным маленьким садиком, где рос розовый алтей. Поскольку миссис О’Нилл уже не было в живых, столовались они у нас на кухне и по вечерам засиживались там допоздна. Оба были низкорослые, О’Нилл – абсолютно лысый, а Тим Пэдди – нахохлившийся, как хорек.
– Что делаем после обеда? – спросил отец в тот день за столом, и мать ответила, что она с девочками собиралась покататься верхом. – А у тебя какие планы, Вилли? На мельницу пойдем?
– Не забудь про уроки, Вилли.
– Сделает после ужина, – сказал отец.
Новую служанку ждали во второй половине дня, а поскольку старая уже ушла, миссис Флинн сама принесла из кухни тапиоковый пудинг. Джеральдина и Дейрдре уплетали его с малиновым джемом, а родители – со сливками, и я последовал примеру взрослых, хотя с гораздо большим удовольствием съел бы джема. За обедом отец рассказал, что утром на мельницу забрел старик лудильщик и стал причитать, что умирает. Улучив момент, когда все отвернулись, он прикарманил унцию нюхательного табака мистера Дерензи и какие-то никому не нужные бумаги.
– Бедный старичок! – воскликнула Джеральдина.
– Ты хочешь сказать, бедный мистер Дерензи, – поправила ее Дейрдре. – Милый мистер Дерензи.
Набив полный рот, они захихикали, и матери пришлось сделать им замечание. Любая, даже самая несмешная история вызывала у моих сестер приступ хохота. Теперь до самого вечера только и будет разговоров что об одиноком старике: ночует небось бедняга прямо под дождем, как и все бездомные лудильщики. По дороге на мельницу я спросил отца, не выдумал ли он всю эту историю, чтобы повеселить девчонок. Отец молча улыбнулся, и я понял, что он пошутил.
Всю оставшуюся дорогу мы шли молча, а ньюфаундленды послушно следовали за нами. Дорожка вначале шла между высокими рододендронами и тянулась от дома к калитке, которую мы с отцом никогда не открывали, предпочитая через нее перелезать. За забором, на холмистом лугу, паслись коровы, оттуда видны были одновременно и мельница, и дом, и далекий Духов холм, прозванный так, потому что там обитало привидение моей прабабки. С пастбища тропинка круто спускалась вниз, шла березняком, а потом краем поля: в марте его пахали, в июне оно давало всходы, а в августе колосилось пшеницей.
– Тебе там понравится, Вилли. Очень понравится, вот увидишь, – сказал отец, когда мы подходили к мельнице.
Он имел в виду школу под Дублином, куда собирался отправить меня и где в свое время учился сам. Иногда его охватывало беспокойство, что отец Килгаррифф плохо меня учит; из-за этого, собственно, он и хотел послать меня в приготовительную школу.
– Будешь играть в регби, Вилли, а может, и в крикет. В Лохе о таких играх и не слыхали.
Отец не мог без смеха смотреть, с какой натугой играют в крикет у нас в деревне. Сам же я ни разу не видел тех игр, про которые он говорил, но по дороге на мельницу и обратно он не раз объяснял мне правила регби и крикета, и я делал вид, что понимаю, о чем идет речь.
– Там отличные учителя, Вилли. Пакнем-Мур, к твоему сведению, стал окружным судьей.
Я закивал с наигранным воодушевлением. Рассказывал он мне и про то, как в школе играют «в лошадки»: один ученик залезает на спину другому и дубасит кулаками третьего, тоже сидящего «верхом». В школе младшие были на побегушках у старших, а в столовой мальчики любили швырять куски масла в деревянный потолок, за что староста мог побить тростью.
Мы пришли на мельницу, и я вместе с отцом отправился в контору, где мистер Дерензи переписывал цифры в гроссбух. За каминной решеткой пылал огонь, очаг был прочищен, в камин недавно засыпан свежий уголь. Каждый день мистер Дерензи приносил с собой бутерброды и ел их прямо за столом во время обеденного перерыва. А после работы, если погода располагала, этот человек, всей душой преданный мельнице и моему отцу, а также, хотя и совсем по-другому, тете Пэнси, отправлялся на прогулку и часто подолгу стоял, глядя на воду в канаве. Куполообразный череп мистера Дерензи с огромной, как у скелета, челюстью осеняла огненно-рыжая шевелюра, а видавший виды синий шерстяной костюм вытерся на локтях и коленях. Из нагрудного кармана пиджака этого неисправимого аккуратиста торчало несколько ручек и карандашей. Он не любил дождь и жару и предупреждал тетю Пэнси, чтобы та не пила из треснувших чашек. Он никогда не расставался с нюхательным табаком, который носил в жестяной коробочке, где раньше хранились пастилки от кашля. Красными буквами по синему полю на ней значилось: «Средство Поттера».
Из всех, кто работал на мельнице, мистер Дерензи был единственным протестантом, что позволяло ему претендовать на руку моей тети. Однако, считая себя ниже ее в социальном отношении, он даже не помышлял о том, чтобы сделать ей предложение. «Послушайте, – не раз уговаривал его отец, – переговорите с ней наконец, и покончим с этим». В такие минуты мистер Дерензи не знал, куда деваться от смущения. Каждое воскресенье после обеда он заходил в садовое крыло за тетей Пэнси и уводил ее на прогулку, после чего возвращался в Лох, где снимал комнату у Суини, владельца пивной. Джонни Лейси, который почему-то был в курсе всего, что происходило у Суини, уверял, что по воскресеньям мистер Дерензи целый вечер пьет жидкий чай и ругает себя за самонадеянность.
– Записываю накладные расходы за февраль, мистер Квинтон, – отчитался он, когда мы вошли. – Добрый день, Вилли.
– Добрый день, мистер Дерензи.
– Нас кормили печенкой и тапиоковым пудингом, – сообщил ему отец. – А как бутерброды миссис Суини? Как всегда, превосходны?
– Не то слово, мистер Квинтон.
Я знал, что наступит день, когда хозяином мельницы стану я. Мне доставляло удовольствие думать о том, как я буду каждый день ходить туда на работу, как постепенно начну разбираться в зерне и в помоле – во всем, чему в свое время пришлось точно так же учиться отцу. Мне нравились наша мельница, ее грубый серый камень, увитый побегами дикого винограда; двери на чердак и на склад, выкрашенные в красновато-коричневый цвет – с годами краска поблекла от солнца; часы с зеленым циферблатом на центральном фронтоне, которые всегда спешили на одну минуту. Я любил мельничный запах, уютный, сухой запах пшеницы, запах чистоты и пыли одновременно. Мне нравилось смотреть, как под напором падающей воды тяжело поворачивается мельничное колесо, как вращаются, цепляя друг друга, шестерни. Деревянные скаты стали гладкими от времени, кожухи вздымались и опадали, а затем опять вздымались. На каждом мешке стояло наше имя – «Квинтон».
Сейчас я уже не могу припомнить всех, кто работал на мельнице, в памяти сохранились лишь мистер Дерензи и Джонни Лейси. Однако вместо забытых имен живо вспоминаются лица и разговоры о революции, которая началась в Ирландии в 1916 году[13]13
Имеется в виду так называемое Пасхальное восстание в Дублине (с 24 по 30 апреля 1916 г.), подавленное англичанами.
[Закрыть] и тогда еще продолжалась. «Бутылки пива с Де Валера[14]14
Имон Де Валера (1882–1975), один из руководителей Пасхального восстания 1916 года, в дальнейшем – президент и глава правительства Ирландии.
[Закрыть]не выпью, – злобно бросал один. – На улице к нему не подойду!» «Станет он распивать пиво с кем попало», – хладнокровно парировал другой.
Один работник был худым и высоким, другой носил пышные усы, скрывавшие нижнюю часть лица, третий же запомнился тем, что никогда не снимал своей черной шляпы. Джонни Лейси был всеобщим любимцем, он никогда не унывал, лицо его покрывалось мелкими морщинками, когда, радостно хихикая, он рассказывал свои бесконечные истории. В историях этих большей частью действовали либо члены нашей семьи, либо работавшие на мельнице, однако с тем же успехом он мог рассказать и про карлицу из Фермой, что ела гвозди, или про солдата из фермойских казарм, который на пари въехал верхом на лошади прямо в витрину магазина. Кого только не было среди героев его небылиц: и сумасшедший из Митчелстауна, который провозгласил себя королем Ирландии, и какая-то старуха, что разводила блох – уж очень они ей нравились. Вдобавок Джонни Лейси пользовался успехом у женщин, да и в танцах, несмотря на хромоту, ему не было равных. Больше всего он любил фокстрот и часто демонстрировал мне этот танец, сжимая в объятиях воображаемую партнершу. Качая своей маленькой, смазанной бриолином и пахнущей гвоздикой головкой, он уверял меня, что покатый, с острой вершиной Духов холм издали похож на женскую грудь. Отец называл его прохвостом.
В тот весенний день я, как всегда, отправился побродить по той части мельницы, где шла работа. Дважды туда врывался мистер Дерензи, выкрикивая какие-то цифры своим тоненьким чиновничьим голоском, перекрывавшим шум воды и машины. Работы в такое время года было немного: настилы ремонтировались, мешки сортировались. Джонни Лейси и работник с густыми, точно изгородь, усами чинили весы, и я целых полчаса переставлял гири. А затем, не дожидаясь отца, который освобождался гораздо позже, я двинулся в обратный путь. Ему еще надо было проверить расчеты мистера Дерензи, а потом ответить на письма. Он будет писать, а в ногах у него, перед пылающим камином, растянутся ньюфаундленды. Перед уходом он еще раз пройдется по мельнице, перекинется словом с работниками. Все это занимало много времени, поэтому возвращаться домой я предпочитал без него. Я сбегал с холма к калитке, утопавшей в зарослях рододендрона, еще минута – и под ногами начинал скрипеть гравий, рассыпанный полукругом перед домом. Я до сих пор вспоминаю, как я возвращался в Килни этой дорогой. Отца можно понять: буковая аллея, ведущая к высокой, выкрашенной белой краской железной ограде, была необыкновенно красива, но в детстве мне больше нравилась дорога полем, через березняк.
Я вернулся домой, а школа под Дублином по-прежнему не шла у меня из головы. Все попытки отца заранее подготовить меня к школьной жизни последнее время вызывали у меня немалый ужас, и по ночам я часто лежал без сна, воображая, как меня будут колотить бамбуковой тростью. Я представлял себе, как доктор Хоуган из Фермой стал бы отговаривать отца. «Что вы, мистер Квинтон, – сказал бы он. – Нет, нет, боюсь, Вилли слишком слаб для такого заведения». Но я-то прекрасно знал, что моя болезненная внешность обманчива. «Здоров, как бык», – не раз говорил обо мне доктор Хоуган.
– Мы лудильщика не видели, – сказала Дейрдре за ужином. – А ты, Вилли? Видел несчастного старичка?
В ответ я только угрюмо покачал головой. На этот раз с приходом домой настроение у меня почему-то не поднялось. Снимут с чердака отцовский чемодан, с которым когда-то отправляли в школу его, – чемодан этот, по словам отца, до сих пор еще цел. Инициалы наши совпадают, и останется только подновить их белой краской да начистить медный замок.
– Нет, не видел, – ответил я.
Мы просторно сидели за большим обеденным столом красного дерева, который к ужину всегда накрывали белой льняной скатертью, и ели бутерброды с яйцом, черный хлеб, сухое печенье и булочки с изюмом. К чаю были еще горячие пшеничные лепешки и ореховый торт. Мать спросила, все ли в порядке на мельнице. Я ответил, что на мельнице все хорошо, а она рассказала, как они катались верхом в рощице неподалеку от Духова холма (земля эта когда-то принадлежала Квинтонам) и вернулись домой мимо старой каменоломни. Иногда и я ездил кататься этой дорогой верхом на Мальчике, пони Джеральдины.
– Нашу новую служанку зовут Джозефина, – сообщила мать, нарезая торт. – За ней в Фермой поехал Тим Пэдди.
– А Китти выгнали за то, что она разбила вазу с хризантемами? – поинтересовалась Джеральдина.
– Вовсе нет. Просто Китти выходит замуж.
– Я же говорила! – воскликнула Дейрдре, драматически закатывая глаза. То же самое в минуты торжества делала и ее сестра.
– А, знаю, она выходит замуж за этого пьяницу, от него еще всегда пивом пахнет, – презрительно фыркнула Джеральдина. – Очень зря.
– Давайте не будем называть его пьяницей, – возразила мать. – Если у человека красное лицо, это еще не значит, что он выпивает.
– А миссис Флинн говорит, что он пьет как сапожник и Китти с ним намучается. Чтобы я когда-нибудь вышла замуж? Да никогда в жизни!
– А у Китти с этим пьяницей будет медовый месяц? – спросила Дейрдре, и Джеральдина ответила, что они будут сидеть где-нибудь на пляже и хлестать пиво. Тут, прижимая кулачки ко рту, обе стали давиться от смеха, пока мать не велела им прекратить.
Когда они угомонились и мы съели по одному полагающемуся нам куску торта, Джеральдина спросила, что мне сказал при встрече мистер Дерензи: все, что говорил счетовод, вызывало огромный интерес у сестер.
– Он сказал «Добрый день».
– А про тетю Пэнси спрашивал?
– Он никогда про нее не спрашивает.
– А щепотку табаку тебе предложил?
– Нет, сегодня не предложил.
– Вот было б здорово, если б он женился на тете Пэнси и переехал к нам жить. Представляешь, он гулял бы по нашему саду!
– Если уж выходить замуж, то только за мистера Дерензи.
– Это точно.
Вскоре сестры ушли на конюшню, а мать вызвалась помочь мне сделать уроки. Я согласился, потому что любил по вечерам сидеть с ней за овальным столом в гостиной, подсчитывая стоимость пяти дюжин вешалок по три фартинга за штуку или читая про континентальный шельф.
В тот вечер я узнал о событии, которому отец Килгаррифф придавал такое большое значение, – победе ирландцев, которую хитрые англичане впоследствии обратили в поражение. «15 августа 1598 года, – прочел я вслух, – сэр Генри Бейджнел, который двигался со своим войском из Ньюри, был разбит на реке Блэкуотер Хью О’Ниллом и Рыжим Хью О’Доннеллом. Победа была безоговорочной, и вся страна взялась за оружие».
Тут мы отложили учебник истории, и мать стала рассказывать мне про долгие годы английской оккупации, которые последовали за этой великой битвой, и про то, что сейчас, как и в прошлом, Англия использует войны на континенте в своих интересах, хотя ирландские солдаты сражаются за победу бок о бок с английскими.
– Как жаль, что Пасхальное восстание потерпело неудачу, – сказала она. – Сейчас все бы уже было в порядке.
В какой-то момент я отвлекся и опять стал думать про школу под Дублином. Я знал, что, если сказать об этом матери, она будет на моей стороне. Как человек более практичный, чем отец, решения в семье принимала она. Мать говорила по-французски и по-немецки, разбиралась в премудростях математики; уж она бы поняла, что отец Килгаррифф учит меня на совесть и ехать в закрытую школу совершенно необязательно.
– Ну, скоро уже приедет Джозефина, – весело сказала она, вставая из-за стола и желая подбодрить нас обоих: по моему мрачному виду она, вероятно, заключила, что разговорами о войне и революции она испортила настроение не только себе, но и мне. – Ждать осталось недолго.
Она ушла, а я принялся за алгебраические уравнения и за длинный, растянувшийся на много страниц перечень полезных ископаемых Ланкашира. Выучив напоследок отрывок из «Покинутой деревни»[15]15
Поэма Оливера Голдсмита (1730–1774).
[Закрыть] я собрал с овального стола все учебники, чернильницы, ручки, карандаши и промокательную бумагу и сложил все это в ящик большого стенного шкафа. Отец требовал, чтобы к вечеру в гостиной никаких следов моих занятий не оставалось.
Я вышел на мощенный булыжником задний дворик, который Тим Пэдди драил мокрой щеткой. Он курил крепкую дешевую сигарету и, как обычно, приветствовал меня небрежным кивком головы. В это время дня постоять во дворе большой старой молочной фермы было одно удовольствие: коров уже подоили, все опять чисто, вдоль стены стоят перевернутые ведра, а куры и утки ждут в дверях, когда Тим Пэдди кончит мыть двор. Иногда он облокачивался на свою швабру и, нахохлившись, точно хорек, с волнением в голосе сообщал мне, что вступит в полк мансгерских стрелков, как только достигнет призывного возраста. В деревне он наслушался историй о заморских приключениях и мужской дружбе, о чужеземных городах, где вино льется рекой, а от женщин пахнет духами. «Большего дурака, чем ты, во всем Корке не сыщешь, – ворчал его старик отец. – И куда тебя несет? Сидел бы дома, так нет – в самое пекло угодить норовит!» «Что ж мне теперь, всю жизнь мостовую мыть?» – в свою очередь возмущался Тим Пэдди.
В тот вечер, увидев меня, он почему-то не вынул изо рта сигаретку, чтобы, как водится, перекинуться со мной словом.
– А новая служанка красивее, чем Китти! – крикнула мне Джеральдина, проходя по двору вместе с Дейрдре, которая добавила, что у новой служанки потрясающие волосы.
Я сделал вид, что меня это не интересует, хотя на самом деле интересовало, и даже очень, и стал смотреть, как Тим Пэдди домывает мостовую. Наконец он кончил, швырнул окурок на землю и сказал:
– Сходил бы, посмотрел на нее. Она и впрямь прехорошенькая.
Помню, как мать, когда появилась Китти, водила ее в огород О’Нилла, но, когда я пошел следом, кроме садовника в огороде уже никого не было. О’Нилл сидел на корточках и сажал картошку. Я заговорил с ним, но он мне не ответил: с сестрами и со мной он вообще разговаривал редко.








