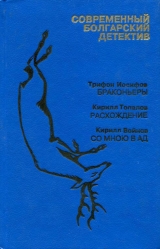
Текст книги "Современный болгарский детектив. Выпуск 3"
Автор книги: Трифон Иосифов
Соавторы: Кирилл Войнов,Кирилл Топалов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
– Да ничего там нет, джаным, место голое, как противень! Наш дом – самый крайний в селе…
– А место ровное?
– Я же говорю тебе – как противень!
Мы рванулись вниз по лестнице – и бегом к джипу. По дороге я успел объяснить отцу задачу:
– Соберешь мужиков, много-много – с лопатами! Место должно быть очищено от снега до голой земли, ясно? Остальные – и бабы в том числе – пусть тащат вес, что ярко горит, – бензин, керосин, спирт, даже ракию!!!
Толпа все еще вертелась возле дома. Надо сказать, люди очень быстро сообразили, в чем дело, – буквально нескольких секунд хватило, чтобы они тут же бросились к соседям будить и поднимать их с постели; советчики, которых набралось не меньше десятка, правильно решили зажечь все электричество в селе – чтобы летчик сверху увидел огни. Через несколько минут и мужчины и женщины уже бежали с лопатами и граблями к поляне за домом бригадира, тащили чурки и щепки. В доме остались одни старые бабки, которые подняли такой вой, будто роженица уже умерла.
– Дайте им ракии побольше, пусть выпьют и заткнутся! – заорал кто-то и пронесся мимо меня, таща на себе тяжелый бачок с бензином. Я бросился следом за ним. Отовсюду звучали крики, ругань, команды. На площадку стекалось все больше и больше людей.
Через полчаса на расстоянии пятидесяти метров друг от друга (местный землемер постарался!) запылали четыре ярких огня. За незримой линией на границе «летного поля», совершенно очищенного от снега, столпилось едва ли не все село. А люди все прибывали. Пламя вздымалось вверх метра на три, не меньше, но сельчане не успокаивались, все время подбрасывали в огонь стружки, куски досок, щепки, обломанные сухие ветки. Вереница людей тянулась до самого дома, где роженица ждала своей участи. С ней неотлучно была акушерка, которая готовила ее к перелету, одевала и укутывала, чтобы ослабевшая женщина не простыла на этом жестоком декабрьском ветру и морозе.
Вдруг кто-то громко заорал, требуя тишины. Над селом, даже еще выше – от самого Предела, донеслось равномерное рокочущее гудение. И вот уже где-то с севера, едва заметные в ночной темноте, стали стремительно приближаться три разноцветных мерцающих огонька.
– Вертолет летит! Летит сюда, к нам!.. – закричала хором толпа, и буквально через считанные минуты на площадку медленно и осторожно опустилась освещенная огнями металлическая птица. Бешено вертящиеся пропеллеры постепенно стихли, отворилась дверка в железном «животе» птицы, и оттуда выскочили двое мужчин в белых халатах с поразительно, до смешного, маленькими носилками.
Часть людей бросилась в дом, чтобы взять роженицу и перенести ее в вертолет, другие потянулись к летчику с вином и ракией. Летчик отчаянно отмахивался и пытался объяснить, что он «за рулем», но люди не слушали его и все совали ему бутылки и кувшины, и так продолжалось, пока из дома не вынесли на носилках завернутую в одеяла и шкуры роженицу. Ее бережно внесли в вертолет. Следом шла акушерка, прижимая к груди маленький «пакетик», тоже увитый в толстое одеяло. Я понял – это новорожденный. Она увидела меня, что-то прокричала, но я не расслышал, ей помогли войти в кабину, дверцы вертолета закрылись, моторы взревели, пропеллеры завертелись что есть силы, близко стоявших людей отнесло назад – и металлический жук поднялся в ночь.
Мне здесь больше нечего было делать, и я влез в джип. Холодно, до дрожи. А в нескольких метрах от меня люди забираются в свои дома и ложатся в теплые, еще не остывшие постели… До рассвета оставалось часов пять, мне достаточно, чтобы отдохнуть. По дороге к дому бабушки Элены и Дяко я заметил, что окна здравпункта все еще светятся, дверь открыта настежь. Я остановил джип и взбежал наверх – надо хоть свет потушить! Тут уже не так пахло больницей – ветром выдуло запах. Телефонный аппарат – вот что мне сразу попалось на глаза. Попробовать еще раз? Я набрал Надин номер, ждал долго-долго, и снова молчание. Я погасил свет, спустился вниз, освободил секрет замка и захлопнул за собой дверь.
Как мне вдруг захотелось спать, ох как захотелось!..
Я тихо подъехал к бабушкиному дому, заглушил мотор, стараясь не поднимать шума, тихо поднялся на второй этаж, в свою комнату, и, не раздеваясь, плюхнулся на широкую пружинную кровать с высокими железными спинками. На спинках нарисованы длинноволосые красавицы, сидящие на берегу синего озера. Когда-то мой отец умирал от смеха, глядя на эти рисунки. Он давал мне возможность разлечься на широченной (по моим давним понятиям) кровати, а сам уходил спать на узкий деревянный топчан, стоявший во-он там, в противоположном углу.
Меня не ждали, в комнате холодно, как на улице. Я осторожно встал, разделся, разулся, укрылся двумя толстыми шерстяными одеялами – и потонул в сонном мареве. Последней мыслью было, пока сон не сморил меня окончательно, что воздух вокруг меня напоен запахом спелой айвы…
Мне снилась пантера, она глухо рычала и шла прямо на меня, а я лежал в тростниковых зарослях под холодным фиолетовым небом и терпеливо целился из итальянского карабина прямо ей в голову, в самую точку меж сверкающих изумрудом глаз, потом я хотел нажать на спуск, но что-то внутри меня сопротивлялось изо всей силы, и чем больше усилий я прикладывал, тем острее чувствовал, что никогда, нигде, ни за что на свете я не смогу выстрелить в нее, мою черную пантеру… Она смотрела на меня с насмешкой и вдруг – совершенно по-человечески – подмигнула…
Я проснулся с замерзшим носом. В комнате стало как будто еще холоднее, молочно-белый свет нового дня проникал сквозь ледяные узоры на окнах. Болела правая рука. Я стал разминать ее – может быть, из-за этой боли меня уже который раз мучает все тот же сон? Летом я просил бабушку Элену растолковать мне, что он значит. Она разводила руками и говорила: если бы там была собака, кошка, коза, даже вурдалак – оборотень, она бы попыталась, а что такое пантера – не знает, это совсем другое дело, она вообще отродясь никогда не видела такого зверя. Потом вспомнила, что в Зеленицах была одна ясновидящая, мастерица разгадывать сны, она даже предсказала точно день и час своей смерти, но с тех пор никто не разгадывает сны, потому что если делать это основательно, то это не пустяковое дело и не бабушкины сказки, как выражаются ученые, а великий талант, данный от Бога.
Я не помню эту гадалку – когда меня отправили в детский дом, мне было всего семь лет. А за год до этого моего отца пригласили на свадьбу в Зеленицы. Он взял с собой и меня, взметнул в седло, посадил перед собой, и мы двинулись прямо через красно-желтый лес. Жесткая грива и чуткие уши коня ритмично подскакивали перед глазами, ноздри заполнил запах конского пота и тлеющих листьев. А когда мы выехали из леса, отец велел крепко схватиться за гриву коня – я до сих пор еле-еле касался ее, мне казалось, что коньку больно, если дергать его за волосы… Отец рассмеялся, закричал что-то, и мы пулей понеслись к Зеленицам, и это был такой опьяняющий галоп, какой только мог представиться моей детской фантазии.
Мы спешились у какого-то большого грязного двора с полуразрушенной оградой, отец привязал коня, и мы вошли. Двор был уставлен грубо сколоченными, не застланными ничем столами, за которыми шумно ели и пили краснолицые мужчины и женщины. Кругом трещали традиционные свадебные выстрелы, пищала волынка, в воздухе густо и тяжело пахло жирной жареной бараниной. Отец сказал мне еще задолго до нашей поездки, что я «увижу свадьбу», и я вертелся во все стороны, ерзал на скамейке, пока наконец увидел среди полупьяных гостей невесту – невероятно бледную и как будто совершенно отрешенную от всех вокруг. Я смотрел на нее с восхищением, и она казалась мне княгиней из сказок, которые рассказывала мне бабушка Элена. Я только никак не мог понять – почему она плачет, а все вокруг нее, наоборот, громко кричат и хохочут? Не помню, как это случилось, но я вдруг оказался в ее маленькой комнатке с низким потолком и земляным полом. Невеста прижала меня к себе, что-то прошептала в ухо и улыбнулась. В ее больших испуганных глазах по-прежнему стояли слезы…
Чего же она хотела тогда от меня? А-а, да-да, она просила позвать отца, и, когда я потянул его за рукав и передал просьбу невесты, лицо у него стало серьезное и строгое. А потом случилось что-то очень, очень плохое, и я непременно должен вспомнить, как это было… Да, я еще повертелся во дворе, глядя на орущее застолье, вернулся в ее комнатку и увидел отца и ее: они стояли, обнявшись, и целовались. Я никогда не видел отца, целующего кого-то, кроме меня, поэтому мне стало ужасно обидно, и я уже готов был разреветься и убежать вон, но в этот момент на пороге появился рыжий и костлявый как скелет человек, тот самый, который за столом все время сидел рядом с невестой, он был очень страшный, она увидела его и закричала от ужаса, а отец обернулся, побледнел и тихо сказал скелету: «Не здесь, при ребенке, выйдем наружу…»
Какие же дураки были тогда следователи и друзья отца! Неужто они не знали, что между ним и этой женщиной из Зелениц была любовь… Куда же они смотрели двадцать один год назад, когда вели следствие? Сюда прибыли специалисты из самой Софии, торчали тут целый год, были задержаны десятки людей, допрашивали каждого десятки раз, съели полстада овец и все-таки до истины не добрались, поэтому решили, что убийство отца – это дело рук шайки браконьеров, которые в то время шатались по горам и лесам.
Единственное, что все-таки поняли раздобревшие от вкусной еды и дубравецкого вина криминалисты, – это то, что отца застрелили из итальянского карабина…
Уже около восьми. Идет снег, кругом белым-бело. Я спускаюсь вниз по лесенке, открываю дверь и вижу – Дяко во дворе очищает дорожки от сугробов. Он не спрашивает меня, когда я приехал, только говорит, что вчера вечером здесь в Дубравце был большой шум – за какой-то роженицей прибыл вертолет. Потом он снова нагибается – так, чтобы я не видел его лица, – и говорит, что бабушке Элене очень плохо.
Она, бедная, уже в дороге, и неизвестно – протянет ли еще неделю-другую или нет. Ей все-таки уже восемьдесят, это не шутка.
Что же мне-то делать? Успокаивать его? Смешно – Дяко крепкий человек, твердый как камень, вот только душа у него скукожилась от горя и тоски по ушедшим близким. Сорок лет назад не было вертолетов и жена его умерла родами. У него осталась дочь, но живет она далеко, видятся они редко, всего лишь разок за несколько лет. Отец его – самый странный чудак из всех, кого я знаю, – тоже покинул этот мир лет пять назад. Я тогда в армии служил. Он был учитель, из тех крестьян-интеллигентов, которые сами пахали, косили, ходили за животными, разводили пчел и учили детей грамоте и разным наукам. Я успел поучиться у него в первом классе, прежде чем меня отдали в детский дом. Старый учитель Митков показывал, как писать крючочки и палочки в тетрадках, ужасался моей небрежности и никак не мог понять, почему я все время верчусь за партой и нюхаю воздух. А все тем не менее было очень просто – мне ужасно хотелось понять, где лежат яблоки… Переполненный учениками класс в Дубравце пах зрелыми яблоками, а в этом проклятом сиротском доме воняло хлоркой и плохо прогоревшим углем…
Я стоял рядом с Дяко на расчищенной дорожке, ловил губами крупные снежинки и думал о том, что в этом доме, в сущности, ничего не переменилось, все осталось таким же, каким я помню его с самого раннего детства, – большое ореховое дерево, старый колодец и уложенное плитками подножие самшитового кустарника. Только нет больше старого учителя, а теперь там, в маленькой комнатке на первом этаже, таяла бабушка Элена. Она умирала тихо и скромно, так, как жила всю свою жизнь – без претензий, без криков и стенаний, с единственным желанием никого не огорчать, не затруднять. Каждый раз, когда я приезжал в Дубравец из лесничества и мы с Дяко садились пить ракию, забывая обо всем в жарких разговорах, бабушка Элена никогда не обижалась, если мы были больше заняты собой, а на нее не обращали внимания. Она, бывало, и согреет остывающую еду, и сядет рядом, и слушает, и смотрит на нас с радостью, а в глазах свет – то ли от слез, то ли от яркого солнца, и не поймешь – то ли смеется она, то ли плачет. Утрет тайком слезы кончиком фартука и снова улыбнется – наши женщины в Дубравце так уж привыкли, и в радости и в печали пускают слезу…
Мы с Дяко вошли в комнатку бабушки Элены, она увидела меня, заволновалась, сделала попытку приподняться. Как же она похудела!.. Я осторожно заставил ее снова опуститься на подушку, взял ее хрупкие пальцы и едва-едва сжал, пальцы были холоднее льда. Ни о чем меня не спрашивая и не дожидаясь моих вопросов, она тихо промолвила, что у нее все в порядке, все хорошо. Я знал, что обмануть ее пустой болтовней невозможно, и все-таки стал городить что-то – вид ее, дескать, мне нравится, она даже помолодела, и вдруг не удержался и выпалил: но, может быть, ей бы стало получше, если бы мы отвезли ее в больницу? Вижу – она испугалась, погрустнела, отрицательно покачала головой: куда вы меня отвезете, такую старую, тут по крайней мере доктор смотрит меня почти каждый день, да и что могут сделать в больнице – вернуть мне молодость, дать новое сердце? Да я с этим моим сердцем, а оно у меня все время так и норовит выпрыгнуть, уже восемьдесят лет по горам лазаю, и ничего – жива!
Она помолчала, закрыв глаза и отдыхая, потом снова оживилась и сказала, что Дяко сегодня вспоминал о Наденьке. Она как-то звонила и сказала, что приедет в Дубравец поближе к весне. Очень хотелось бы увидеть ее еще хоть раз… Бабушка Элена вдруг строго спросила меня, часто ли я езжу в город повидаться с Надей. И я солгал, что езжу часто, каждую неделю… Она снова покачала головой: да-да, конечно, муж и жена должны жить только вместе, так Господь велел. А разве в театре нет каникул на Рождество? Вот бы приехала наша красавица, а то уж очень долго ждать весны…
Старушка повернулась к комоду, стоящему у самой кровати, но почувствовала, что ей не выдвинуть тяжелый, окованный медными гвоздями ящик, и попросила сына вынуть оттуда «то, что завернуто в пестрый платочек». Дяко открыл ящик и подал ей узелок, она медленно развязала его, и на ее худой сморщенной ладони матово блеснул тонкий серебряный браслет, украшенный нежной инкрустацией. «Все приглашала Наденьку, приглашала, хотела сама подарить ей, а теперь не знаю, смогу ли… Вот приедет она, и подарю ей, пусть останется на память…»
Я не возражаю. Да и зачем возражать, я даже соглашаюсь вслух, что так будет лучше, хотя мне абсолютно ясно – они никогда не увидятся друг с другом. Великая душа у бабушки Элены, и не стоит лгать себе, вряд ли она переживет эту зиму…
В комнату вошли со смущенными улыбками две пожилые сельчанки. Они помогут бабушке Элене умыться, переоденут ее, накормят, оправят постель. Потом сядут у изголовья, пойдут воспоминания о былых временах, и старушка не будет чувствовать себя одинокой. Так принято в Дубравце. И пока в селе есть старики и старушки, так будут поступать все.
Мы с Дяко выходим из комнатки его матери. Он спешит приготовить завтрак, грохочет в кухне кастрюлями и тарелками, а я выхожу к джипу и беру из машины узел. Когда я возвращаюсь обратно, еда уже на столе – горячее молоко со свежим пахучим хлебом, миска с нарезанной и густо посыпанной черным перцем капустой, две маленькие рюмки для ракии. Мы давно привыкли так завтракать.
– Погляди, что я нашел в Чистило!
Развязываю узел и кладу на стол огромный нож, патроны и железную коробку. Дяко сразу понял, в чем дело, – молчит, смотрит на патроны, не решаясь даже прикоснуться к ним.
– Ну? Что будем делать? – спрашивает он в конце концов.
– Молчать, вот что будем делать. И чтобы никому ни одного слова! – Я наливаю себе ракию и опрокидываю ее в рот, обжигающую, терпкую. – Возьми в руки патроны, Дяко, погляди повнимательнее! Что ты об этом думаешь?
Дяко берет осторожно один патрон, долго вертит его во все стороны.
– Старый. Производство тридцать шестого года.
– И к тому же – итальянский. Там написано – ты можешь прочесть?
– Где там… Нет у меня твоего ума и образования, чтобы читать чужие слова…
– Тогда просто подумай: патроны-то старые и т а л ь я н с к и е! – Я подчеркнул это слово, глядя ему прямо в глаза.
– Погоди, парень, погоди немного…
Дяко подошел к старому кухонному шкафу, порылся в каком-то ящике, что-то вынул оттуда и положил передо мной на стол. Отстрелянная гильза. Потом снова взял патрон, сравнил с гильзой, ощупал и пальцами, и рысьими глазами каждую выемку и бугорок.
– Да, то же самое. И номера, и место удара совпадают.
– Я в этом не сомневался. И речь идет не о муфлонах. Ты вдумайся, я еще раз повторю: это патроны от итальянского карабина! – Я опять нажал и сделал паузу. Нет, он не понял, к чему я клоню. Тогда я сказал: – Ты помнишь, как был убит мой отец?
Дяко дернулся назад, как от удара.
– Ты хочешь сказать, что… Да ты соображаешь, парень, что говоришь?!
– Наверно, соображаю, ведь, по-твоему, я умный и образованный!..
Дяко облокотился о стол и посмотрел на меня растерянно, видно было, что он расстроен.
– Я скажу тебе кое-что, только ты не сердись – обещаешь?
Я кивнул головой, и он продолжил:
– На тебя какая-то злоба напала, малыш. Я знаю, что у тебя неприятности, что тебе плохо без Нади, но все равно так нельзя!.. Смотришь на всех с подозрением, сторонишься людей, чуждаешься их… Отец твой, Герасим, был не такой, совсем другой человек был…
– При чем тут это?! Каким был отец и какой я? Какое это имеет отношение к делу?! – закричал я, раздраженный нотациями Дяко.
– Вот видишь – какой кипяток стал, сразу в драку лезешь… Хочешь быть похожим на отца, а совсем не знаешь, каким человеком был Герасим Боров.
– Я понял, Дяко, – Герасим был другой, большой человек был, и по этому случаю вы даже не могли его уберечь!..
Дяко вздрогнул и сжал ладонями край стола так, что пальцы побелели. А я готов был прикусить собственный язык за то, что сказал такую обидную глупость, но слово, увы, не воробей, а упрямство мое уже схватило меня за шиворот и не собиралось отпускать.
– Да, верно, мы его не уберегли, но ты не должен корить меня через столько лет!
– Я не упрекаю тебя, Дяко, я только хочу, чтобы ты ответил мне на несколько вопросов – в последнее время они не дают мне ни минуты покоя… Когда вы нашли его, неужто он не сказал тебе, кто в него стрелял?
– Да если бы он сказал, давно бы этот негодяй не пачкал нашу землю! Опять ты задаешь глупые вопросы. Может, Герасим и хотел что-то сказать, он был тогда еще жив и собрался с духом, но, как увидел, что я плачу, вместо этого спросил: «Ты что ревешь, Дяко? Забыл, что ли, что мы с тобой еще худшее переживали?» Он так и сказал, но это неправда, потому что хуже этого ничего никогда не бывало с нами…
– А ты?
– Что – я?
– Так и смирился со всем этим?
– Но ты ведь знаешь – следствие…
– Да брось ты это трухлявое следствие! Я спрашиваю тебя – ты никого не подозреваешь?
– М-м, что до подозрения – подозреваю, но по одному лишь подозрению нельзя человека вздернуть на виселицу…
Я нагнулся над ним, схватил за плечо:
– Не сердись на меня за то, что стал таким. Это правда, нервы малость разгулялись, поэтому и прошу тебя помочь. Я верю только тебе одному, поэтому и рассказываю тебе все, а ты извини, если обидел тебя чем-то. Но вот со вчерашнего дня меня не оставляет одна мысль, мне все кажется, что это тот же карабин, из которого убили моего отца, понимаешь?! Если я сумею обнаружить тех, кто бьет муфлонов в заповеднике, мне станет ясно, кто убил отца. Или наоборот…
– Чепуха какая! Одно может не иметь ничего общего с другим.
Я гляжу в его усталые глаза и вижу – он все-таки явно смущен.
– Ладно, пусть так, пусть чепуха! Тогда вспомни, кто женился в Зеленицах той осенью в сентябре, за два-три дня до того, как убили Герасима Борова!
– В Зеленицах? – Дяко крепко наморщил лоб, напрягая память. – Да где там вспомнить? Это же сколько воды утекло с тех пор… В те годы люди часто женились и выходили замуж, потому что в селах было полно молодежи…
– Жених был такой рыжий, сухопарый – неужто не помнишь его? Двор их стоял на краю села, отец взял меня тогда с собой, наверняка и ты был там. Лесничии были в те времена люди уважаемые, а вы оба ходили всюду вместе, и это я тоже помню. Ну что, не припоминаешь?.. А может, случайно вспомнишь, что у отца были шуры-муры с девушкой, которая выходила замуж в Зеленицах, а?
– Откуда ты взял это? Где слышал эти глупости? Герасим никогда не был бабником, понятно?!
Я замолчал, но никак не мог преодолеть ощущения, что Дяко что-то скрывает и между нами не все сказано. И вообще неправда, что я не похож на отца, я только стал каким-то чересчур нервным, но это все оттого, что мне просто необходимо добраться до истины. Я ведь уже не раз пытался это сделать, всех обошел в Дубравце, со всеми поговорил, но, когда дело доходило до самого важного, люди замолкали и пожимали плечами. Известный человек был Герасим Боров, во всех селах вокруг его любили и уважали, и вот кто-то взял да и убил его. И потом, как только я начну расспрашивать чуть поподробнее о его жизни – ну, например, чем он интересовался, какие у него были привычки, – так передо мной возникает стена молчания, недоверия и даже, я чувствую, меня в чем-то подозревают. И я начинаю злиться и думать о том, что жизнь моя складывается каким-то идиотским образом – ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, не стал я по-настоящему горожанином и перестал быть сельским жителем, вот почему люди здесь неоткровенны со мной.
– Как ни вертись, Дяко, а истина рано или поздно все-таки проявится – попомни мое слово!
– О чем ты, Боян? О какой истине говоришь? Меня просто пугают твои слова…
– О той истине, которую никто не сможет оспорить.
– Вот оно что? Уж не думаешь ли ты, что я что-то скрываю? – Глаза его наливаются гневом, и мне кажется, что еще минута – и он может меня ударить. – Ты что, мне не веришь?!
– Глупости! – Я обнимаю его за шею с набухшими синими венами и наклоняю его голову к своей. – Что это ты придумал?
– Тогда хотелось бы мне знать, кто тебе выскажет эту истину!
– Тот, кто над всем!
– Э-э, да ты просто готовый поп!
В конце концов мы оба рассмеялись и я рассказал ему все о тайнике – подробно о том, как «прижал» Марину (конечно же, я придал этому слову переносный, а не прямой смысл…) и как она передала мне разговор Митьо с кем-то из бывшей школы в Зеленицах. Он знал о моих давнишних подозрениях – я был почти уверен в том, что кто-то из наших помогает «им», то есть браконьерам.
Услышав мой рассказ, Дяко вскочил из-за стола, возбужденный, красный, и закричал, что сейчас же выведет этого гада Митьо на чистую воду! Я, как мог, успокоил Дяко и все повторял ему, что сейчас самое важное хранить полное молчание, никакой спешки, ни одного рискованного шага, иначе мы вспугнем «птенчиков», иди потом лови их. Да, может быть, и Марина по каким-то причинам возвела напраслину на Митьо, кто ее знает…
Был уже десятый час, когда мы добрались до базы. Чуть раньше к дому подъехал мотоцикл. С него слез – весь в снегу – Митьо. Пока я припарковывал джип, Митьо отволок машину под навес, к нему вышла Марина, и они о чем-то заговорили. При этом она обернулась в мою сторону и указала рукой на меня. В маленьких прищуренных глазах Митьо я увидел откровенный вызов, а Марина зыркнула с тем же презрением, с каким ночью окрестила меня замечательным словом «евнух». Лопнуть от смеха можно, глядя на эту женщину и слушая ее!
Если бы я был чуть более прозорлив, я мог бы догадаться, о чем у них идет речь, но я, дурак, вообразил, что она демонстративно мстит мне…
В коридоре на первом этаже я встретил Васила. От него несло ракией за версту, и вид у него был такой, будто он только что оторвал голову от смятой подушки. Он, очевидно, наблюдал из окна за своей женой и Митьо, потому что, увидев меня, кинулся тут же, размахивая руками и крича во всю глотку:
– Ну?! Ты видел их? Бесстыжие твари! Насмехаются надо мной, я знаю! Ну, ничего, ничего! Я так посмеюсь над ними, что они меня всю жизнь помнить будут!
– Не понимаю – ты о чем? – Я изобразил из себя придурка и поспешил в кухню. Обычного моего утреннего кофе не было. Впрочем, я так и знал – «оне», видите ли, сердиты за ночное. Васил шел за мной по пятам и ныл:
– Слушай, Боров, будь человеком! Вышвырни этого типа с базы! У меня душа горит, подлец этакий!
Все остальные из охраны, сидевшие за столом, подняли головы и навострили уши.
– Кого я должен вышвырнуть? – с наивным видом спросил я и налил в турчик воды из крана.
– Митьо, подлеца, кого же еще!
– А за что?
– Ты что, не видишь, как он вертится около моей жены!
– Вот оно что! Значит, он вертится около твоей жены, а ты… – я перешел почти на шепот и крепко схватил его за лацканы пиджака, – ты в это время валяешься с уборщицей! Поэтому я, пожалуй, вышвырну прежде всего тебя!.. И, конечно же, не только из-за уборщицы, но и потому, что осточертело мне твое проклятое пьянство и нытье. И вообще – всякий стыд потеряли на этой базе, черт бы вас побрал! Эй, Митьо! – закричал я из коридора. – Прекрати шушукаться с Мариной и иди сюда!
Я вовсе не собирался читать им мораль, но эти ежедневные скандалы меня просто угнетают. Выходит, Генчев прав – у меня, может быть, и вправду чего-то не хватает, чтобы стать хорошим руководителем. Эти трое действуют мне на нервы и портят и без того нелегкую жизнь – пьют, ругаются, занимаются любовью, превратили заповедник в коммуналку, а я в это время как псих мотаюсь по Чистило.
– Чего тебе надо? – Митьо стал передо мной, раздвинув крепкие ноги и насупив брови.
– И ты еще спрашиваешь?! – заорал Васил и кинулся на него с кулаками. Митьо ловко увернулся, подставил Василу ножку, и тот плюхнулся вперед, опрокинув стул и едва не перевернув обеденный стол. Охранники захохотали, но я чувствовал, что дело идет к большой драке.
– Немедленно прекратите! – Я поднял лежавший на столе половник и готов был треснуть любого, кто двинется. – Обещаю вам, что через несколько дней вы все втроем вылетите из базы! Идите ко всем чертям с вашими вечными историями!
Митьо ухмыльнулся и закурил сигарету. Марина отступила к дверям и делает мне из-за его спины какие-то знаки, а Васил шмыгает носом и пытается вырваться из цепких рук надзирателей.
– А нас-то за что? – снова захныкал Васил. – Я же тебе про этого борова говорил, а я-то в чем виноват? У меня ни порицаний, ни выговоров… И если так, то я могу… могу и в профсоюз, значит… вопрос поставить в профсоюз…
– Ставь где хочешь! Я сказал – и точка! И запомните – повторять не буду!
– Ты, однако, большая шишка на ровном месте, Боров! Ну а если я возьму да и расскажу шефу кое о чем, а? – наступает на меня Митьо и выпускает мне в лицо струйку дыма.
– Ты? Ты расскажешь шефу? О чем это, интересно знать?
– А о том, что ты выгоняешь нас потому, что Марина не дала тебе…
– Митьо! – Марина испуганно рванулась и встала между нами. – Ты что несешь?!
– А ты молчи! – И он с такой силой грохнул кулаком об стол, что турчик опрокинулся и мой несчастный, так и не сваренный кофе темным пятном разлился по скатерти.
– Этот паршивец растормошил кобылу, а я должен скакать на ней, так, что ли?
Да, насчет «паршивца» – это уж чересчур, но времени дать ему в зубы не оказалось, потому что в ту же секунду в канцелярии зазвонил телефон – и звонил, звонил, будто разрывался. Делать нечего – служба прежде всего. Пришлось ограничиться только тем, что я подошел вплотную к «герою» и четко произнес:
– Значит, так. Говорю тебе перед всеми этими людьми, – и я указал на притихших вокруг стола мужчин. – Прежде чем я тебя выгоню, я сделаю из тебя отбивную котлету… Через два-три дня ты лично убедишься в том, какой и вправду мерзкий паршивец Боян Боров!
Он смотрит на меня зверем, просто убивает взглядом. Я медленно поворачиваюсь спиной, иду в канцелярию, чтобы влипнуть в самую идиотскую историю, какую только можно себе представить.








