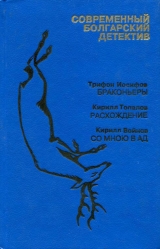
Текст книги "Современный болгарский детектив. Выпуск 3"
Автор книги: Трифон Иосифов
Соавторы: Кирилл Войнов,Кирилл Топалов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
– Если меня арестуют, тебя, как жену, немедленно схватят и начнут мучить. А так все же есть надежда, что ты уцелеешь. Наша свадьба будет после другой свадьбы – большой…
– Не хочу я уцелеть без тебя! – Я прижималась к нему что есть силы и колотила кулаком по его атлетической груди. – Если с тобой… – я не могла произнести самое страшное слово, – я жить не останусь, ты это знаешь! Я возьму одну из наших гранат, приду в полицию, выберу самую большую толпу этих собак и сорву колпачок…
– Я знаю, ты можешь сделать так, и за это я люблю тебя еще больше. – Он гладил меня по голове, по плечам и продолжал строго: – Но если ты меня любишь, ты никогда не сделаешь этого. То дело, которое мы делаем, важнее, чем убить нескольких гадов. Если захочешь, можешь потом попросить, чтобы тебя отправили в горы – ты ведь уже хорошо стреляешь. А если ты доживешь до свободы, я буду смотреть на нее твоими глазами и радоваться. Твоими и твоих детей…
– Хватит!! – Я закрыла ему рот рукой и «выдала» мой мальчишечий плач, который скорее был похож на скулеж обиженного щенка. – Если мне суждено будет рожать, я буду рожать только твоих детей… Другого мужа и других детей у меня никогда не будет – запомни это! И береги себя – потому что без тебя я и вправду пойду с гранатой в псарню…
– Ладно, чем разговаривать об этих собаках, куда тебя так тянет, лучше пойдем постреляем к твоей «родственнице», – что и говорить, среди прочего умел Георгий, когда ему хотелось, все превратить в шутку. И мы отправились в тир.
Это словечко – «родственница» – возникло в результате пущенного по городу слуха, что я прихожусь старшей Робевой какой-то родней – то ли племянницей, то ли внучкой – дочерью пропавшего где-то в Америке сына, а может, даже незаконной дочерью, плодом позднего вдовьего греха, выношенной и тайно рожденной в ее загадочном доме, куда никто из города и даже из квартала не имел доступа. А в таком случае я оказывалась «родственницей» и младшей Робевой, нашей Марии, к которой мы стали все чаще ходить. Мария была единственной из всей родни, кто не пришел делить имущество сестры. И она единственная из них пришла на погребенье. Встала поодаль за деревом, чтобы ее никто не видел, а Георгий все-таки обнаружил ее – ну, он привык, где бы мы ни находились, незаметно оглядывать все и вся вокруг и всегда быть начеку, чтобы нас не застигли врасплох при провале. Мария была в темных одеждах, на лице ее не было обычной косметики, и губы не горели, как всегда, яркой розой, а были бледные и подрагивали. Когда мне удалось рассмотреть ее поближе, я увидела покрасневшие, припухшие веки и поняла, что она все время плачет. Скорее всего, между двумя сильными женщинами вспыхнуло какое-то несогласие, недоразумение, которое проклятая гордость помешала обеим преодолеть. Мария не знала матери, умершей родами при ее появлении на свет. Разница между сестрами была в двадцать лет, и старшая стала для младшей матерью. Мария безумно любила свою красивую сестру, всю жизнь она была для девочки и мамой, и куклой, и идолом. Это уж я потом обо всем узнала, а тогда, увидя заплаканную Марию в таких траурных одеждах, я почувствовала, что симпатии к ней у меня еще прибавилось. Думаю, что и у Георгия тоже. Она давно перестала задирать нас, даже больше того – в ее отношении к нам появилась какая-то теплота, и, когда в какой-нибудь ненастный и холодный день в тире не было посетителей, она давала нам пострелять из бельгийки – отличной винтовки с абсолютно точным прицелом, длинным стволом и почти вдвое большими пулями, которые на близком расстоянии поражали как настоящие.
– Эту винтовку подарил мне один бельгийский миллионер, который приехал с ней сюда на охоту, – рассказала нам однажды Мария. – Явился сюда, в тир, и спрашивает – можно ли пострелять из своей винтовки. «Стреляйте, – говорю, – мусье, только без наград. Ради одной славы». Ну, как поднял свою винтовку этот самый миллионер, я и мигнуть не успела, а он уже испотрошил все мишени, что были. Вроде как ты, – обернулась она к Георгию, – когда вы пришли в первый раз.
– Неужто ты нас запомнила? – уставилась я на нее.
– Я всегда запоминаю хороших стрелков, – ответила она с каким-то особым выражением лица. – Просто они отличаются от толпы дураков. А твой друг – такой. А почему больше не является тот, второй?
– Расскажи лучше про миллионера! – настойчиво попросил Георгий, чтобы любым способом уйти от разговора о Свилене.
– Про миллионера… – У Марии появилось на лице мечтательное выражение, она будто сразу помолодела, похорошела и в то же время стала больше похожа на сестру. – Так вот, миллионер поразил все мишени, потом спросил, нет ли еще мишеней в этом тире, тогда я – как делают испанки – открыла декольте слева и сказала: вот! Наутро он подарил мне винтовку и уехал, а я уже несколько раз приставляла дуло ко рту, но все мне не хватало еще капельки злости на себя и на эту паршивую жизнь… Очень красивый был бельгиец. Самый красивый из всех, что стреляли тут, – и вообще по Марии! – закончила она в своем обычном стиле.
– И ты не взяла у него адрес? – Я была достаточно наивна, чтобы задать такой вопрос.
Мария потрепала меня по щеке и закурила.
– Не положено просить адрес у мужчины, девочка. Никогда не падай так низко и не показывай, что хочешь иметь его адрес, – пусть сам даст. Голову могу дать отсечь, но гордость – дудки! Это тебе Мария говорит!
Так мало-помалу Мария приближала меня к себе. А я привязывалась к ней все больше и больше – особенно после того, как узнала, что она отказалась от выгодных дел и даже от предложений, которые ей делали очень богатые и знатные женихи, а ведь она тогда была еще молодой и невероятно красивой, – и все из-за этого бельгийца. Она любила его до безумия и все верила, что он рано или поздно опять приедет в Болгарию на охоту и обязательно найдет ее в тире. Так шло время. А она ждала и надеялась, может, он, как и она, тоже уже немножко постарел, может, он одинок и ему снова захочется в тепло, на юг… Поэтому она и не давала никому винтовку – берегла ее для него или в крайнем случае для себя, если он слишком долго будет медлить.
Она тряхнула своей роскошной гривой:
– Я не могу рассчитывать на такую компаньонку, как была у моей сестры, – и улыбнулась мне, – поэтому сама всажу себе пулю в лоб раньше, чем начну писаться под себя.
Мы вели этот разговор в холодный осенний день, на улице хлестал проливной дождь, Мария размякла – впервые я видела ее такой, и она стала еще больше похожа на сестру. Она протянула руку, спустила и привязала полотнище, которое закрывало тир спереди, и потащила нас в свой «шатер» – так она иногда называла кибитку, служившую ей и жилищем, и средством передвижения, осуществляемого при помощи единственной хилой лошадки. Тут она поставила на стол всевозможные лакомства, которые удавалось достать только на черном рынке, и какое-то замечательное вино. Похоже было, что она давно поняла кое-что о нашем житье-бытье, по крайней мере то, о чем можно было говорить с ней открыто.
– Слушай, парень! – Она посмотрела на Георгия и на меня, дожидаясь, пока мы поедим и выпьем – в последнее время для нас такое угощение было большой редкостью. – Раз уж у вас нет никого близких, оставь у меня девочку, будет мне компания, чтобы она не голодала как собака и не скулила у чужих дверей, а ты немедля исчезай в том же направлении, что и тот стрелок. Потому что меня уже несколько раз спрашивали про тебя, а как начнут спрашивать, так, значит, в скором времени человек пропадает. И если он сам не сделает этого, ему обязательно помогут. И про другого меня тоже спрашивали. Среди этого мусора, который вертится тут каждый день возле тира, всякие попадаются. Или ты думаешь, полиция такая тупая, что не знает, где и зачем вы учитесь стрелять? Они даже отпечатки ваших пальцев сняли.
Я была так ошарашена, что не могла и рта раскрыть. Георгий первый очнулся и еще попробовал обратить все в шутку:
– Да ты, наверно, принимаешь нас за каких-то других, – но от волнения ему изменил голос, он стал хриплым и едва слышным.
– Я принимаю вас за тех, кто вы есть – особенно ты! – бесцеремонно, как всегда, отрезала Мария, но в ее голосе зазвучала глубокая непоказная доброта, и это окончательно убедило нас в ее правоте и преданности. – Хотя, может, вы и вправду не «те», – с горькой усмешкой продолжила Мария, – но как сунут вас в «лечебницу», да пропишут вам соответствующие процедуры… И никто и не подумает спросить вас – те вы или не те. Если не те, станете теми, а заднице вашей достанется крепко… Раз уж взяли отпечатки, дело дрянь, поэтому – надо тебе бечь! Бежанова мать не плачет, Стоянова – волосы на себе рвет.
Если бы мы не были так ошеломлены, мы наверняка посмеялись бы над ее житейским практицизмом и философией самосохранения – вот еще одна черта, общая для обеих сестер и даже выраженная одной и той же поговоркой. Однако и разница между ними тоже была довольно-таки ощутимая: госпожа Робева сумела в смутное время сохранить себя и отцовское богатство, а Мария спасала других людей, притом у нее не могло быть полной уверенности, что мы этого заслуживаем, потому что она еще не узнала нас как следует. Да, великая женщина была Мария…
– Так что собирай манатки и мотай отсюда сегодня же вечером, – завершила она тоном, никак не допускающим возражений, – а малышка останется у меня под охраной.
А мне действительно уже негде было даже переночевать – Дончева жена учуяла, что я несколько недель нелегально живу у них, и предъявила мне ультиматум: «или убирайся ты, или я выгоню и твоего Георгия».
– Хорошо… Мы подумаем и скажем тебе, – нерешительно проговорил Георгий, но она опять резко прервала его:
– Слушай, братишка! Пока умные соображают, дураки глупости делают! Ты же не знаешь, какую шапку тебе уже скроили.
Она, по сути, говорила, только по-другому, то же самое, что мне постоянно твердил Георгий, – что мы должны быть все время начеку.
– Кроме того, у меня плохое предчувствие, а эта скотина интуиция никогда не подводит меня.
– Почему скотина? – спросила я неожиданно для самой себя. Мне показалось уж очень странным определение интуиции.
– Потому, что хотя она есть у всех, но не всем она подчиняется – только сильные владеют ею как надо! – выпалила она давно готовый ответ и снова обернулась к Георгию. – Если хочешь, оставайся и ты сегодня ночевать у меня, но лучше все-таки исчезай немедленно.
– А если и ее будут искать у тебя? – спросил Георгий после короткой паузы. Он явно решил, что уже нечего таиться от Марии, важнее принять какое-то разумное решение.
– У меня надежно, – отсекла Мария. – Она же мне родня. Первое время будет вести себя тихо, выходить редко, только винтовки будет заряжать.
– Но если все-таки…
– Не будет ни если, ни все-таки! Спрашивали про тебя и про того, другого, значит, ее не подозревают. А если спросят и про нее, я скажу им, что я ее… А в общем, это мое дело, что я им скажу! – вдруг вспыхнула она. – Ты подумай о себе!
Георгий вышел и вернулся через час. Дождь перестал. Мария оставила нас одних в кибитке и пошла открывать тир. Никогда я не видела Георгия таким бледным.
– Есть решение – я еду в Софию, к Свилену, – сказал он. Голос у него слегка дрожал, волновался он страшно, и вообще похоже было, что он слегка не в себе. – В комитете считают, что Марии можно верить, несмотря на ее связи с полицией. Наверно, эти связи вынужденные, или она поддерживает их потому, что она… без царя в голове.
– Это ты без царя в голове! – закричала я. – Как ты можешь так говорить? Может, она тебе жизнь спасает!
– Только бы повезло…
В этот момент вошла Мария, и он прервался на полуслове, но она услышала.
– Кому должно повезти, голубок?
– Ты отвечаешь за нее головой, – вдруг с тихой угрозой произнес он. Такой мрачной решительности я тоже до сих пор никогда в нем не замечала.
– Скорее задницей, – улыбнулась она ему на свой прелестно-убийственный манер.
– Что-что? – не понял он.
– Задницей, говорю, – повторила она с той же улыбкой. – Задницей я надеюсь защитить ее гораздо лучше, чем головой. За мою голову околийский не дал бы и гроша ломаного, несмотря на то что она стоит дороже тысячи его голов. А вот задница моя ему кажется бесценной, тогда как, по мне, она не стоит и половины ломаного гроша. Однако всяк по-своему с ума сходит. Человек живет иллюзией. Отними у него иллюзию – что останется?
– Если почувствуешь что-то… – Георгий попытался поучить Марию, но она прервала его и снова пошла к выходу.
– Не учи отца, как детей делать, мальчик, лучше побыстрее целуйтесь, а если дошли до другого, свершите и это, только гляди не оставь ее с ребенком, сейчас для этого не самый подходящий момент.
После такого напутствия она оставила нас одних на полчаса, чтобы у меня, помимо всего, хватило времени нареветься, а у него – дать мне указания, как связываться с организацией (до сих пор эти связи шли только через него) и беречь себя. Я все еще никак не могла осознать всю ответственность, которая ложится теперь на меня, до сих пор я просто слушала и делала то, что мне велел он. А теперь в мозгу билась одна мысль и в сердце одно чувство: я теряю его, теряю, теряю… И никогда больше не увижу его… Хотя теперь, через столько лет, я не могу с уверенностью сказать, было ли тогда у меня это роковое предчувствие, или оно появилось позже, после того, как я миллионы раз вспоминала эту нашу последнюю встречу. Во всяком случае – и в этом я совершенно уверена, – пока с нами была Мария, мне действительно казалось, что он должен немедленно исчезнуть из города и в этом его единственное спасение. Но как только Мария вышла и мы остались одни, меня охватил животный страх, мне казалось, если мы расстанемся сейчас, мы никогда не встретимся больше. Да-да, именно так – это было не предчувствие, а страх, он сковал меня всю с головы до ног, я просто оцепенела и уже ни слова не слышала из той массы советов и наставлений, которые он давал мне по поводу моих связей с организацией и моей дальнейшей работы в ней. Это было что-то вроде веками – да нет, какое там веками! – тысячелетиями выработанного инстинкта страха слабой, беззащитной женщины, брошенной грубым защитником и кормильцем ради другой женщины, или другой пещеры, или просто ради увлекательной охоты на мамонтов. Это был страх маленького человека, который остался один-одинешенек на всем белом свете, как маленький слепой котенок в густом дремучем лесу. Да, это был просто страх, обыкновенный человеческий страх. И не стоит драматизировать, внушать себе, что еще тогда у меня было предчувствие того, что случится потом.
Злая судьба – да, этого у меня было вдоволь. Но от злой судьбы не спасет никто и ничто, даже предчувствия. Хорошие или плохие. Хорошие предчувствия могут только помочь тебе обмануть себя, уверить, что ты перехитрил ее, злую чернавку, которая уже отметила тебя своим зловещим знаком, а теперь и смотрит будто на тебя, но не видит, потому что ты уже списан за борт и тебя уже нет, – а ты все еще продолжаешь верить и надеяться, что ты обманул ее, что она прошла мимо и оставила тебя в покое. Не ты ее обманул – она тебя. Это я, Мария, говорю тебе, а я большой спец по этой части – с большим стажем и тысячелетним опытом. И дело не в том, что я что-то раскисла малость, а так оно и есть…
* * *
После исчезновения Георгия для меня действительно было одно лишь спасение и один выход – кибитка Марии. Я принесла туда скудный багаж, который остался от Свилена и Георгия: несколько книг, одеяла, дорожки, подушки, привезенные ему из села, и пять-шесть перешитых платьев, которые я успела с большим трудом завязать в узел и вынести из дома старшей Робевой, пока родственники не разграбили его окончательно. Мне было стыдно, казалось, что и я, как они, граблю мертвую. Вот видишь, Мария, и ты, как когда-то сама Робева, стараешься убежать от суматохи не с пустыми руками… Но, кроме этих одежек, перешитых из платьев госпожи, мне просто нечего было больше носить, не было и никаких денег, чтобы купить какое-нибудь платье на толкучке.
Мария разрешила мои терзания, категорическим тоном заявив:
– Ты их заработала! Другая на твоем месте запросто обработала бы сестру, и та отписала бы тебе свой дом, старому человеку много ли нужно, вполне могла влезть ей в печенки и разложить душу на составные части! Однако ты этого не сделала. Это большая ошибка с твоей стороны, но из-за нее я, в сущности, люблю тебя еще больше, и эта твоя ошибка убеждает меня, что я не ошиблась, когда решила взять на себя заботу о твоей несчастной особе!
– Боже мой, никогда мне даже в голову не приходило ничего такого насчет дома, если я вру, пусть умрут… – Я хотела произнести детскую клятву: «Пусть умрут мои отец и мать», но вдруг вспомнила, что мне давно уже нечем клясться, – и заплакала. А Мария подумала, что меня чем-то задели ее слова, и рассердилась.
– Слушай, малышка! Если ты собираешься пускать слезу из-за всякой ерунды, давай расстанемся, пока не поздно.
– Нет, нет! – Я всерьез испугалась. – Я вообще никогда не плачу.
– Вижу! – отрезала Мария. – Я просто предупреждаю тебя – на всякий случай. Если хочешь пореветь – реви так, чтобы никто не видел и не слышал, поняла? Это твое личное дело, и ничье больше. Если, конечно, не хочешь, чтобы тебя ославили и затрепали твое имя…
К языку Марии и ее премудростям я привыкла давно – еще с того времени, как мы только начали ходить в тир. Теперь я должна привыкнуть к тому, что это будет сопровождать меня ежедневно. А Мария сыпала свои «словечки» направо и налево, по поводу и без повода, она просто не могла говорить по-другому, каждое второе слово ее – это насмешка над другими и над собой, из любого случая она могла сделать такой «философский» вывод, от которого мои девические уши краснели, как спираль электрической плитки. Сначала я думала, что свои «художества» Мария где-то вычитала или услышала, но постепенно я убедилась в том, что она все это придумывает сама и притом мгновенно, на ходу – как будто у нее в голове сидит какая-то машинка, которая переворачивает весь мир с ног на голову! Но от этого мир становится интереснее, смотришь на него совсем по-новому, он тебя удивляет, изумляет, и в нем открывается такое, о чем ты раньше и не подозревала. Сначала этот новый, непривычный мир пугал меня, потом стал все больше притягивать к себе, и самое удивительное – через какое-то время мне уже казалось, что этот мир и есть самый нормальный и настоящий, а без Марииной «машинки» все вокруг становилось глупым и скучным. Сама не замечая, как это выходит, я старалась невольно подражать Марии, и вроде бы у меня это хорошо получалось, потому что уже через две недели Мария сказала мне:
– С тобой, дьяволенок, мне совсем не скучно. Я и вправду не зря вытащила тебя из твоего болота. Будет из тебя человек, правда! Ну до чего же мне осточертели дураки!
В первый же вечер мы выбросили из кибитки всякий ненужный хлам, чтобы освободить место для еще одной постели. Впрочем, «постель» – это, пожалуй, чересчур сильно сказано: Мария спала прямо на полу на толстом матраце, а мне набили поменьше, и так почти весь пол в нашей цыганской кибитке стал нашей общей постелью.
– Теперь нам будет тепло зимой, – сказала Мария. – Нет ничего хуже пустой холодной постели.
Несмотря на ужасную тесноту в кибитке, Мария сумела найти местечко и для крошечного умывальника с жестяным казанком для воды, и для маленького узкого столика, на котором кроме массы туалетных принадлежностей стояло немного посуды. Один угол у двери был завешен шторкой – это был «гардероб». А на деревянных стенах кибитки висели шкафчики и ящики, которые моя новая благодетельница набила своим нищенским скарбом. Когда я сравнивала жуткую бедность кибитки Марии с обстановкой в доме старшей Робевой, мне казалось, что я из царских палат попала в конуру нищего.
Да, теперь я поняла, что у Марии были все основания не просто сердиться на сестру, но даже смертельно ненавидеть ее. Мария, однако, не питала к ней ненависти – она была глубоко обижена старшей Робевой, ее подозрениями, и предпочла нищету и свободу жизни в роскошном доме сестры, унизившей гордость Марии.
– Запомни, что сказал по такому же поводу один умник, – заявила однажды Мария, когда разговор – в который раз! – зашел о ее сестре. – Лучше быть хозяином собственных обезьянок и попугайчиков – тех, которых ты сам себе воображаешь, чем владеть целым зоопарком бешеных диких зверей, которые не только не подчиняются тебе, но вполне могут в конце концов сожрать тебя. То есть если ты разобрался в себе, значит, тебе все ясно и в этом опсихевшем мире! – так Мария попыталась растолковать мне смысл сказанного «умником». – Если у тебя чистая совесть и никому не удалось сломить твою гордость, сухая корочка покажется тебе слаще баницы[15]15
Слоеный пирог с брынзой.
[Закрыть], которую ты ела у госпожи сестры моей, земля ей пухом… порядочная стерва была она, но и я не лучше.
Я заметила, что при упоминании о сестре Мария неизменно добавляла «земля ей пухом» и при этом голос у нее чуть садился, становился более мягким и тихим, но, чтобы не выдать себя, она всегда тут же добавляла какое-нибудь грубое слово. Я больше не сомневалась – их ссору она переживала очень болезненно и эту боль унесла с собой в могилу.
Она постоянно требовала, чтобы я поподробнее рассказывала ей о житье-бытье в доме старшей Робевой, интересовалась каждой вещицей, которую мы продавали, чтобы жить, и при этом у Марии часто на глаза наворачивались слезы. Особенно разволновалась она из-за маленького иерусалимского крестика из серебра с бусинкой малахита посередине. После смерти матери отец паломничал ко гробу Господню, привез оттуда Марии этот крестик, и она носила его с раннего детства. Значит, старшая Робева действительно успела заграбастать все, что было в доме отца… За этот крестик мы получили литр оливкового масла.
Мария отказалась надевать платья, которые я принесла с собой. Она была крупной женщиной, и платья, конечно, были ей не впору, но я уверена, что, если бы даже она и смогла влезть в них, она все равно не сделала бы этого – из гордости. Однако она любила глядеть на меня, когда я надевала их, и говорила, что я очень похожа на ее сестру в молодости – такая же маленькая, аккуратненькая, хорошенькая… Воспоминания о сестре пробуждали тщательно скрываемую тоску об отцовском доме и давнем радостном детстве. И как бы она ни старалась изобразить из себя перед посторонними языкастую гордячку, от меня ей уже было не скрыть, что на самом деле она просто одинокая, несчастная женщина и жизнь ее течет не только в бедности, но и без всякого смысла. Я быстро поняла, что ее поведение в тире – это месть всем этим слюнтяям и ротозеям за то, что их дома кто-то ждет, заботится о них. Вот и я теперь также бью наотмашь словами юных бездельников, которые целыми днями торчат у меня в тире, вместо того чтобы учиться или работать. Да и зачем им работать, если папа носит, а мама месит.
Во сне Мария порой хрипела и стонала, как раненое животное, ноги и руки у нее дергались в разные стороны. Потом она затихнет, нежно обнимет меня и заснет у меня на плече. Сначала я как-то пугалась, потом поняла, что ей, наверно, снится ее бельгиец, идеальная любовь на всю жизнь. И это при том, что некоторые из ее многочисленных любовников продолжали иногда навещать ее, но только днем. Я вначале подумала, что Мария переменила свой прежний режим из-за меня, но она объяснила это совсем иначе:
– Ночь дана для отдыха, девочка, а любовь, по крайней мере так считает твоя сестра Мария, – это никакой не отдых, а тяжелый, хотя и сладкий, физический труд. Поэтому надо трудиться днем, в рабочее время. Я еще с малолетства была ужасная соня, если не посплю хотя бы часов десять, утром встаю как тряпка. Ты спишь как котенок, с тобой мне приятно баюкаться, а с этими скотами мужиками – тьфу! Я не выношу, если кто-то храпит громче меня.
Так постепенно я стала чувствовать себя совсем как маленькая девочка, а Марии явно доставляло удовольствие заботиться обо мне, в ней проснулись сразу и сестра, и подруга, и даже мать, несмотря на то что она, как и я, никогда не качала колыбель. Только теперь я до конца поняла, почему Мария так любила меня – я помогла ей почувствовать себя женщиной во многих лицах и выполнить, насколько это было возможно в нашем случае, свое предназначение. Она как нахохлившийся ястреб берегла меня от приставаний ее пьяных любовников, среди которых был и шеф околийской полиции.
Она часто с грустной улыбкой говорила мне:
– Ты не провалишь свою жизнь, как я. Когда вы возьмете власть, твой вернется, вы поженитесь, а Мария будет нянчить вашу ребятню. И будет бесплатной прислугой…
– Тогда не будет прислуг! И ты будешь не прислуга, а член семьи! Что-то вроде молодой бабушки или тети, как тебе больше понравится. А лучше всего – будешь нашей мамой, или еще лучше – сестрой.
– Нет, прислуги нужны будут, обязательно нужны, вот увидишь! – не отступала Мария. – Если не будет прислуг, как же вы, женщины, сможете работать и заниматься общественной работой наравне с мужчинами, а? Э-эх, была бы я помоложе…
– Ну, и что бы ты сделала?
– Я бы сунулась в самую-самую трудную мужскую профессию и освоила бы ее. И доказала бы этим козявкам – мужикам, чего может добиться такая женщина, как Мария! И прославилась бы на весь мир!.. И все газеты написали бы про меня большими буквами, и мой бельгиец прочел бы. И приехал, и упал бы в ноги, и раскаялся, и… – В общем, она очень далеко унеслась в мечтах, но я своим любопытством вернула ее на землю.
– И все-таки – какую профессию ты выбрала бы?
– Ну… например, пожарника. Или совершила бы путешествие на Северный полюс. Или…
– Или стала бы министром!
Мария резко махнула рукой.
– Я говорю тебе о мужских профессиях.
– А разве политика – это не…
– Политика – это проститучье дело! – отрезала она. – Сегодня вертишь задницей в одну сторону, завтра – в другую. А народ голодает.
– В новой жизни не будет этого, – попыталась я объяснить ей. – Политика будет служить народу, и не будет ни голода, ни жажды, и вообще не будет несчастных!
– Посмотрим, посмотрим… – она с сомнением покачала головой. – Голода и жажды, может, и не будет, хотя кто знает… А вот как вы справитесь с несчастьем? Тут мало одних добрых намерений.
– А мы будем бороться!
– Ну что ж, боритесь, – в ее голосе вдруг послышались усталость и тоска. Потом она, видимо, вспомнила о чем-то и тихо добавила: – Только смотрите в оба – эти канальи не прощают…
Тут я осмелела – впервые за все время:
– Скажи мне, Мария, почему ты помогаешь нам? Ведь ты не разделяешь наших взглядов?
– Потому что я ненавижу фашистов.
– За что?
– За то, что они захватили Бельгию и, может быть, убили или сожгли в камере моего человека. По-моему, он был еврей…
– Только за это?
– Тебе кажется, этого мало?
– Ну, нет, но…
– Тогда прибавь еще: не знаю, какими будете вы, но они – скоты. Грязные псы с ненасытной утробой. А я, может, и родилась в богатом доме, но я пролетарий и я – за народ!
– Ты – мелкая буржуазия, – повторила я слова Георгия, которые он так давно произнес. Чтобы Мария не обижалась, я смягчила их улыбкой. Но остановиться уже не могла: – У тебя есть маленькое дельце, ради которого ты готова три раза на дню продавать душу…
– Кому, например? – полюбопытствовала с иронией Мария, видимо очарованная моей блестящей характеристикой ее классовой принадлежности.
– Например, полиции…
– Полиции я в данный момент продаю только свою задницу, чтобы сохранить и себя, и тебя, – я уже объясняла тебе все это однажды, да и ты сама, думаю, не слепая, видишь, наверно, кто ко мне наведывается время от времени. И чтобы ты знала, голубка, полиция еще не доросла до моей души и никогда не дорастет до нее. В данный момент она, то есть полиция, остается пониже моего поясочка. Твоя сестра Мария не продаст свою душу и достоинство за дворец твоей госпожи Робевой, не продаст она их и за какой-то паршивый тир… Ваша теория ко мне не относится!
– Ну, к тебе, может, и не относится, но к другим…
– А что другие, что другие? – вдруг рассердилась Мария. – Моим тиром, моей душой и моей задницей владею я одна, и отвечаю за них тоже одна я! А другие – пусть каждый отвечает за себя!
Так же бесславно заканчивалась любая моя попытка образовать Марию политически, она упорно придерживалась своего принципа – «каждый сам себе голова». Но вместе с тем никогда не мешала мне делать свое «дело». На следующий вечер после исчезновения Георгия пришли с обыском в подвал бай Дончо – хорошо, что мы успели все оттуда вынести. Спрашивали про Георгия и Свилена, бай Дончо и его жена говорили о них только самое хорошее – никогда, дескать, не замечали за ними ничего сомнительного, больше того – иногда вечерами мальчики пели немецкие песни. Тут они явно пересолили, потому что полицаи хорошо знали, чьи дети Георгий и Свилен, и агент ехидно спросил Дончовицу, не спутала ли она немецкие песни с русскими. Дончовица испугалась и стала даже напевать те песни, которые пели ее «благонадежные» квартиранты. Как бы там ни было, бай Дончо подписал бумагу с обязательством сообщить полиции, если парни заявятся к нему. Спрашивали и про девчонку, которая часто появлялась у них, но на это Дончовица решительно ответила, что никакие девчонки порога ее дома не переступали. На этом, к счастью, дело и кончилось. Обо всем об этом Мария узнала от околийского начальника, которого она сумела убедить в том, что мы с ней родня и, если она заметит в моей голове какую-нибудь политическую муть, она выжжет оттуда ее каленым железом… Благодаря Марии и моим обязанностям в тире мы составили список полицейских осведомителей – предполагаемых и тех, кто наверняка работал на них. Зимой наши ребята обезвредили трех самых опасных стукачей…
Хуже всего было то, что я не получала никаких известий о Георгии. Да и Свилен не сообщал о себе ничего, может, он и бывал в городе, но разве кто-нибудь мог сказать мне об этом? Я постоянно надоедала человеку, с которым теперь была связана, расспрашивала его, но и он ничего не знал о Георгии – или просто не имел права говорить об этом. Однажды мне стало так невмоготу, что я решила занять у Марии денег и отправиться в Софию – может быть, там я где-нибудь встречу его, – но комитет не разрешил отлучаться из города, и мне ничего другого не оставалось, как ждать.
Мария ждала бельгийца, а я – Георгия. Помимо всего прочего, нас с ней объединяло и это – страх за наших любимых. Мария возвращала ленту своих воспоминаний на двадцать лет назад и находила все новые и новые доказательства того, что ее бельгиец был наверняка еврей и, значит, Гитлер готовится убить его или уже убил. Я все старалась успокоить ее и доказывала, что Гитлер не может убить всех евреев даже в самой Германии, не говоря уже о других странах, что миллионеры – это такие люди, которые могут найти выход из любого положения, я даже выдумала, что есть-де какой-то международный закон, согласно которому миллионеры не подлежат уничтожению, даже если они военнопленные или политические противники. Но Мария сказала, что Гитлер – это явление особое, вне всяких законов и закономерностей, и от него всего можно ожидать. Кончился этот разговор тем, что мы разревелись обе – Мария плакала о бельгийце и о Георгии, я – о Георгии и о бельгийце. Но тут мы вспомнили, что обе были против рева и нам, обеим Мариям, негоже быть смешными, даже в собственных глазах, и вот мы выпили по рюмке домашней вишневой настойки, взбодрились, воинственно настроились и стали петь во весь голос «Тих белый Дунай», героически размахивать сжатыми кулаками и «маршировать», сидя на полу в тесной кибитке. Если бы кто-то со стороны увидел нас и услышал, наверняка подумал бы, что мы сошли с ума, а мы просто готовы были взять штурмом «Радецкого»[16]16
Герой национально-освободительной борьбы Христо Ботев и двести его соратников захватили в апреле 1876 года австрийский пароход «Радецкий» и двинулись против османов-завоевателей.
[Закрыть].








