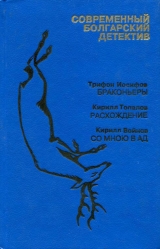
Текст книги "Современный болгарский детектив. Выпуск 3"
Автор книги: Трифон Иосифов
Соавторы: Кирилл Войнов,Кирилл Топалов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
– Что за убийство? Кого надо было выдавать?!
Лицо у Георгия стало совсем непроницаемым.
– Она боялась, что та выдаст ее связи с полицией. Валялась там в кибитке с ними и под шумок небось называла имена наших товарищей, а может, и еще что-нибудь… В общем, назначено расследование.
– Ты что, рехнулся?! Ты о чем это? – Я был просто вне себя. – Мы же о Марии говорим с тобой! О нашей Ма-ри-и! Какое еще расследование?!
Георгий поглядел на меня как-то отчужденно, стиснул зубы и медленно проговорил:
– Свилен, не заставляй меня жалеть о том, что я рассказал тебе больше, чем следовало. Потому что мне бы не хотелось, чтобы и ты потом пожалел об этом.
Я все ждал, что он добавит: «Мы же друзья». Но – не добавил. Мне впервые стало страшно, я понял, что боюсь его, Георгия, своего старого друга.
Я постарался успокоиться и начал тихо и «миролюбиво»:
– Послушай, я бы хотел подключиться к этому проклятому расследованию, я думаю – если ты и я вместе…
– Состав комиссии утвержден, и я не советую тебе вмешиваться. После расследования я расскажу тебе, о чем можно будет рассказать. О чем можно, – подчеркнул он, снова стиснул зубы и холодно взглянул на меня.
Так окончилась наша встреча после столь долгой разлуки и взаимной (до сих пор я не сомневался в этом) тоски. Еще через несколько лет, когда прошло время, все встало на место. А тогда смешение имен, путаница, возникшая по этой причине, и страшное поветрие тех лет, и шустрые мальчики, готовые во всем видеть происки врагов, и судить, судить, карать… Больше всего я думал о том, какая у меня трудная профессия, сколько знаний и опыта нужно следователю, чтобы не совершить роковой ошибки, не заблудиться в джунглях фактов, доказательств, аргументов, соображений, предположений, противоречий. А мальчикам было невдомек, они верили и «разоблачали», совершая одну ошибку за другой, один роковой шаг за другим.
И бедная наша Мария попала под это колесо. И вправду – святым предписано жестоко страдать за простых смертных.
* * *
По доброте душевной доктор написал в моих документах, что я заболела в результате тяжких условий во времена подполья. Я запротестовала, но он задумчиво поглядел на меня сквозь сильные очки и совсем домашним голосом стал уговаривать:
– Болезнь твоя тяжелая, а, насколько я понял, у тебя никого близких нет. С этой формулировкой ты получишь более высокую пенсию, которую ты вполне заслужила. Мне совсем не улыбается, чтобы такие смелые девушки, как ты, завтра протянули руку за милостыней или чувствовали себя нахлебниками. Нам предстоят трудные времена. Дай Бог тебе выздороветь, и ты сама, я знаю, откажешься от пенсии. Такие, как ты, не сидят сложа руки, если у них есть силы работать.
С этим я смирилась. Но больше всего мне было обидно то, что меня совсем отстранили от общественной работы – не давали дежурить, чтобы не утомлять ноги, перестали посылать в села, а я так любила беседовать с людьми. Зато, когда болезнь сваливала меня в постель, ребята и девочки приносили мне чего-нибудь поесть и даже кое-какие теплые вещички – шерстяные чулки, толстую жилетку или шаль. Я ругалась с ними, отказывалась от даров и все больше и чаще чувствовала себя совсем беспомощной и несчастной. И чем больше заботились обо мне, тем больше я чувствовала свое несчастье. Пенсию я должна была получить только через несколько месяцев, от денег Марии давно ничего не осталось, да и было-то их горсточка. Но я все чаще стала отвергать собранные для меня гостинцы – не только из гордости, а и потому, что время было трудное, еще ведь война не кончилась, и друзья сами еле концы с концами сводили, да еще отрывали от себя последнее для меня, а мне все равно все время хотелось есть – что делать, девятнадцать лет, да еще сохранившийся вопреки всему сельский аппетит… И вправду, две голых души не могут накормить третью – все останутся голодными. Так пусть хоть здоровые и работающие иногда поедят досыта.
В общем, думала я, думала и в конце концов решила попросить городской комитет позволить мне открыть тир. Из опыта прежних лет я знала – как бы ни был беден народ, он всегда найдет медный грош на развлечение. А в комитете я сказала, что это только на время, что я найду родных, которые смогут позаботиться обо мне, а потом и пенсия пойдет, да и я вскоре, надеюсь, выздоровею и тогда… В общем, разрешили мне немедленно, а один из новых товарищей, я его до той поры ни разу не видела, приехал ко мне в санаторий и сказал, что с моей справкой об инвалидности я могу зарабатывать свой хлеб чем и как угодно, а если мне нужна будет помощь, он окажет ее в любое время.
Вот так я снова прибила вывеску, и в первые же дни все наши повалили ко мне в тир. Одни – чтобы «вспомнить молодость» (это мы тогда любили выражаться так, хотя нам всем было от двадцати до тридцати и никто еще понятия не имел, что такое старость), другие – просто чтобы составить мне компанию и помочь в моем маленьком, но все же деле. Постепенно тир и кибитка превратились в нечто вроде нашего клуба, где мы собирались почти каждый день, вспоминали Марию и ее «уроки», обсуждали дела нашего городка и мировую политику. А когда передавали известия с фронта, включали на полную мощность старенький Мариин «Лоренц», собиралась целая толпа слушателей, и кто-нибудь из наших комментировал передачу. Так я снова ожила, почувствовала себя нужной, среди своих, тут же забыла, что я больная пенсионерка. Только Георгия все не было и не было.
В апреле, перед самым концом войны, я не выдержала и снова отправилась искать его. Я уже знала дорогу, да и в Софии неплохо ориентировалась. Собрала немного денег и решила двигаться своим «поездом», чтобы и в столице иметь и заработок, и крышу над головой. Наши ребята-мастеровые поставили кибитку на колеса от телеги, впрягли в нее купленного по дешевке тощенького немолодого коня, помогли мне собрать тир и сложить его в кибитку, и вот однажды я двинулась поутру из города. Провожали меня торжественно, с цветами, желали успеха. В детстве на селе я много раз управлялась с лошадью, так что здесь никаких проблем не было, проблемой было другое – найти подходящее место в Софии, а я хотела непременно расположиться не где-нибудь, а именно в центре, где бы Георгий и Свилен меня обязательно увидели, если пройдут мимо. Наши ребята, которые поставили на колеса кибитку, подновили и красочную дугообразную надпись на тире – «У Марии». Так что не заметить ее было невозможно.
В конце концов благодаря моим пенсионным документам, внушающим невероятное уважение к моей очень скромной особе, мне разрешили раскинуть тир на площади Возрождения, в двух шагах от церкви Святого Воскресения – самый что ни на есть центр столицы. А тут стали постепенно возвращаться с фронта наши бойцы, и надежды мои удвоились: если Георгий и Свилен были на войне, они вскоре вернутся и найдут меня. Я не смела и двинуться с места, во-первых, от страха потеряться в этом вавилоне, который тогда представляла собой София, а во-вторых, чтобы не разминуться с моими, если кто-нибудь из них случайно окажется в это время здесь. Поэтому я не ходила, как в ноябре, по разным учреждениям, а при удобном случае расспрашивала заходивших в тир солдат, офицеров, милиционеров и вообще разных людей. Никто ничего о них не знал и сказать не мог.
Только потом стало мне известно, что Георгий в это время лежал в венгерском госпитале, а Свилен был в Софии всего один день и прямо в военной форме был отправлен учиться в Москву – на площадь Возрождения он попал через несколько лет, когда вернулся с дипломом следователя…
Вот и отпраздновали мы победу над фашистской Германией, пробежал-прокатился и весь сорок пятый, а от моих – ни звука, ни строчки, ни следа. Обыкновенный человек что делает в таких случаях? Ну, поплачет-поплачет да и привыкнет к горю. Однако что-то внутри, в душе подсказывало мне, что о настоящем горе еще рано говорить – тем более что я все чаще и чаще терпела сильную физическую боль, которая мучила мое постепенно окостеневающее тело. Санатории давали только временное облегчение. Но стоило мне хоть чуть-чуть собраться с силами, и я впрягала моего старого верного конька, двигалась в следующий окружной городок и поднимала там свой пароль «У Марии» – так я объездила половину Болгарии. В наш город я почти не возвращалась, только после очередного санатория, а так писала письма, но ответы оттуда были все те же – никто, нигде, ничего…
В санаториях мне везде разрешали ставить кибитку в какой-нибудь угол сада или парка, немного травы и сена для моего Пеструшки всегда находилось (тогда еще конский транспорт был в почете), а случалось, я приносила своему верному другу и корочки хлеба, который тогда пекли только вручную, он был очень вкусный, и лошади часто предпочитали его сену.
Так, с больничными перерывами по полгода, добралась я и до пятидесятого, успела обойти всю Южную Болгарию и вот в середине пятьдесят первого попала в Пловдив, а там, разговорившись с одним посетителем тира и, как всегда, уже почти без надежды, задав ему вопрос о своих, вдруг услышала, что Георгий воевал на фронте, был ранен в Венгрии и лежал там в госпитале. Я буквально вцепилась в этого бывшего фронтовика и вытрясла из него все, что он мог рассказать: он воевал в другой части, но попал после ранения в тот же госпиталь, запомнил Георгия потому, что и его зовут Георгий Тасев, и поэтому их часто путали, не знает, в какой части служил мой Георгий, потому что сам был ранен в голову, забинтован как кукла и даже глаза долго не мог открыть. А когда повязки сняли, тезку уже увезли в тыл…
Мы раздобыли вина, немного выпили, и я попросила его побольше рассказать мне о войне, о боях, о товарищах, добывших победу… Теперь я хотя бы знала, откуда начинать поиски. Свернула тир и немедля двинулась в Софию. Решила пойти в Военное министерство, в Красный Крест и еще выше, но на этот раз найти концы во что бы то ни стало!
Как и в прошлый раз, распрягла Пестрого на площади Возрождения и пошла за разрешением. И тут вдруг узнаю от женщины-чиновницы, к которой меня направили, что десять дней назад из нашего городка пришло распоряжение немедля вернуть меня обратно, а позавчера в совет приходили двое мужчин и лично интересовались мной… Голова у меня пошла кругом, я вскочила, схватила чиновницу в объятия, стала ее целовать как сумасшедшая:
– Пришли! Пришли, наконец! Дождалась я! – потому что у меня и тени сомнения не было по поводу того, кто меня искал…
Женщина осторожно высвободилась из моих цепких рук, села за стол, чтобы восстановить и подчеркнуть дистанцию между нами, и промолвила сочувственным тоном:
– На вашем месте я бы не радовалась так. У меня сложилось впечатление, что они искали вас, чтобы… – Она не сказала «арестовать», но ее взгляд и жесты были достаточно красноречивы. – Вам не приходилось иметь дело с черным рынком? Такая молодая, красивая девушка, только тюрьмы вам не хватает! – с укоризной добавила она и вежливо, но твердо дала понять, что занята и мне пора уходить.
Энтузиазма моего поубавилось. Но, возвращаясь на площадь к своему возу, я все-таки продолжала верить, что эти двое были Георгий и Свилен, а этим аккуратным чиновницам только и снятся черные рынки и спекулянты! И потом, если разобраться повнимательнее – зачем она намекнула мне на арест? Наверняка затем, чтобы – если я в чем-то виновна – получить от меня какую-нибудь мзду, знаю я этих чистоплюек, так же, как и раньше, они продолжают применять испытанные методы, чтобы пополнить свои карманы!.. Для них ведь нет нового, нет старого, а есть только деньги, деньги, и они, как комары, впиваются и пьют кровь у кого угодно, лишь бы богатеть и раздуваться… Ну, ничего, погодите, вот мы встанем на ноги, выучим наших ребят всем наукам, посадим их на все стулья и во все кресла, и начнется честная, справедливая, счастливая жизнь!
С такими мыслями, а больше с мечтами о предстоящей встрече я пустилась по ухабам в обратный путь в наш городок, что есть силы погоняя бедного потного Пеструшу, который еле дышал и клочья пены падали с него в дорожную пыль.
Я стегала несчастного коня, одновременно называла его самыми ласковыми именами, уверяла, что он самый красивый, сильный и смелый на земле, что ни в одной сказке нет такого чуда, что царские дочери только мечтать могут о моем Пеструше.
И не заметила я даже, как стала кричать и плакать от счастья и называть его так, как звала когда-то Георгия – «отец», и объяснять ему, как долго я ждала его, любимого, единственного, как прошла все моря и земли, чтобы найти его, как разболелась от долгого ожидания и как вдруг вмиг выздоровела от одной лишь вести о его возвращении, и теперь мы, наконец, сыграем ее, нашу свадьбу, потому что большая свадьба уже была, давно она была, и что вина на ней выпито, что салютов прогремело, что хоро́ сыграно, что крови чистой пролилось, что знамен поразвевалось… И дети от той свободы уже пошли рождаться, только наша свадьба и наши дети все медлят, потому что очень уж долго мы кумовали на большой свадьбе и все не оставалось у нас времени для малой свадьбы, но ведь она, малая, совсем не малая, потому что она наша, а наша – самая большая, верно, Пеструша, верно, отец, верно, Георгий? Дава-ай! Дава-а-ай!! А-а-а-ай!!!
* * *
Я не могла обнять Георгия, потому что между нами все время стоял стол; кроме того, всегда при наших встречах присутствовали другие люди, среди которых наверняка были и те двое, которые искали меня в Софии. Была там и одна женщина, красивая такая, с пышными волосами и родинкой на левой щеке. Вначале я не могла понять, о чем меня спрашивают – учтиво, холодно, сдержанно, потом осознала, что нет ничего ужаснее того, что происходит: это Георгий о чем-то спрашивает меня – учтиво, холодно, сдержанно – и на «вы»… Только в четвертый или пятый раз сообразила наконец, что следы одного из провалов в околийской организации весной сорок четвертого ведут к нашей кибитке. Полиции стали известны пароли и связи, которые знала, вероятно, одна только я, если не считать тех, кто был схвачен ею при провале. Мне понадобилось еще несколько встреч, чтобы я перестала вести себя как дура, теряющая сознание от каждого вопроса, – я наконец-то взяла себя в руки и стала отвечать точно и четко – как на допросе, а это и был допрос и расследование, и, уж коли люди занялись этим, у них, значит, были некоторые основания. А если так, то я своими ответами должна, просто обязана помочь и себе и людям, потому что другого способа выйти из этого идиотского положения нет. Только к одному я никак не могла привыкнуть – обращаться к Георгию на «вы», хотя он каждый раз делал мне замечания. Я рассказала им о Марии, о том, как она помогала нам, как спасла самого Георгия, а потом раскрыла несколько особо опасных полицейских агентов, с которыми мы с ее помощью справились, как всегда заранее предупреждала нас об арестах, облавах и блокадах, которые готовила полиция, а она умела вытянуть из околийского сведения, за которые ему, безусловно, грозил суд, если бы начальство узнало о его «откровенности» с Марией. Кроме всего прочего, Мария никогда и ни о чем не спрашивала меня, чтобы я не заподозрила ее в двойной игре, а если бы даже и спросила, я никогда ничего бы ей не рассказала. Нет, Мария была перед нами чиста как стекло, оттого она и кончила жизнь самоубийством, что не могла вынести, чтобы на нее смотрели как на бывшую полицейскую шлюху. Она, и это я твердо знаю, ненавидела фашистов, и немецких, и наших, и, если бы кто-то раньше привлек ее к нашей работе, мы бы сегодня говорили о ней совсем по-другому…
И еще много чего я им наговорила, но Георгий был все так же суров, обращался ко мне по-прежнему на «вы» и на личную встречу не соглашался. После одного из разговоров, а вернее, допросов я на короткое время осталась в комнате одна, у меня уже не было сил даже плакать, и тут в комнату ворвалась та женщина с родинкой – из комиссии, залепила мне пощечину, схватила за волосы, резко повернула лицом к себе и буквально заорала:
– Говори, сволочь! За что ты продала моего братика?! Я тебя с лица земли сотру, так и знай!
– Если ты уверена в моей вине, сестра, сотри, – тихо ответила я ей, голос уже не подчинялся мне. – На твоем месте я сделала бы то же самое…
Она как-то странно поглядела на меня, отпустила и вышла. Мне стало ясно – она не была уверена в моей вине. Несколько лет спустя она нашла меня в санатории, тогда я узнала и имя ее – Денка. Волосы у нее были все такие же пышные, но их прожигала ранняя седина, и лицо сморщилось, постарело, по всему видно было, что ее терзает какая-то невыносимая мука. Она вошла ко мне в палату, рухнула на колени и стала целовать мои одеревеневшие ноги. Не могу передать, как неловко и больно, мне было, я все пыталась поднять ее, а она все повторяла и повторяла:
– Прости меня, сестра… Ради Бога, прости меня…
Я стала успокаивать ее – вот же, я на свободе, они убедились, что подозревали меня напрасно, слава Богу, не тронули, а ведь сколько людей невинно пострадали, а я хоть и болею, но живу…
– Я простить себе не могу то, что сделала, как поступила с тобой… Я ведь никогда в жизни не поднимала руку на человека, какой мрак опутал нас тогда… И я знала, всегда знала, что судьба за это накажет меня, я верю в возмездие! Сделаешь кому-нибудь зло, поступишь несправедливо – вот все это и обернется и падет на твоих близких… Так и вышло, мне жить не хочется – дочь у меня болеет, хиреет, она под машину попала…
И снова и снова, рыдая, она билась головой о край моей кровати:
– Прости, прости меня, сестра! Если ты простишь меня, простишь искренне, от всей души – дитя мое оживет, я уверена! Но только если ты простишь! Я на все готова для тебя, проси что хочешь – деньги, вещи, только прости!
– Хватит глупости молоть! – разозлилась я. – Вставай с колен и садись рядом! Я простила тебя еще тогда… Правда, тогда простила разумом, а теперь – всей душой и сердцем. Честное слово, поверь мне и беги за хорошими лекарствами, в них дочкино спасение, а все остальное – бабушкины сказки!
Да, бабушкины сказки, может быть, и так, только вот что случилось – дочка-то и вправду ожила и стала выздоравливать… И доктора смотрели на нее во все глаза, как на чудо какое-то, а то ведь они ее совсем списали с корабля. И вот с тех пор и мама и дочка ни одного праздника не пропускают и обязательно или сами приедут ко мне с гостинцами, или пришлют что-нибудь, а то и без всяких праздников примчатся – говорят, соскучились. Ну, выпьем немного вина, поговорим-повспоминаем, мать с дочерью иногда поспорят о чем-то при мне, я всегда беру сторону дочки, потому что пышноволосая красавица мама (она опять помолодела и похорошела, стоило дочке выздороветь) забывает о том, что и сама когда-то была молодая… Они находят меня всюду, где бы я ни была, чаще всего в санаториях – я теперь провожу там бо́льшую часть года, особенно влажные месяцы, сырость сковывает все мое тело, и даже на костылях, с которыми я не расстаюсь последнее время, мне трудно подниматься с места и двигаться. А тир я открываю только летом…
Через месяц после расследования появился и Свилен. Он был ужасно расстроен и собирался ругаться с Георгием. Я очень ему обрадовалась, мне хотелось успокоить его, и я наврала (второй раз в жизни), что Георгий все время защищал меня перед комиссией и только благодаря ему моя невиновность была доказана… Свилен, милый, добрый друг, сделал вид, что поверил мне, стал все чаще приезжать в наш город или в санаторий, где я лечилась, – и сколько вечеров, сколько новогодних ночей мы провели с ним у телевизоров в просторных уютных холлах этих санаториев, а десять лет назад он вообще перешел работать в наше окружное управление, и его тут же сделали главным следователем. Талантливый он человек, работает безошибочно, за эти годы – ни одного нераскрытого преступления, одно его имя наводит трепет на всякую нечисть. А имя-то доброе, прекрасное – Свилен… Скрашиваем друг другу одиночество, поддерживаем друг друга – и не сдаемся.
Ну, а Георгий так и не появлялся. Прошло больше двадцати лет после того злосчастного следствия, мог бы хоть два слова черкнуть – так, мол, и так, произошла ошибка, я поверил в то, что ты предатель, любовь ушла, я женился, у меня двое детей, я директор большого предприятия и у всех на виду, ни о каком разводе и говорить нечего, но я непременно как-нибудь приеду, и мы снова соберемся втроем – ты, я и Свилен, выпьем по рюмке, вспомним юность и постреляем по очереди из бельгийки… Нет, не написал, не вспомнил, не приехал. Как будто меня уже нет на этом свете…
* * *
– Товарищ полковник! – на табло замигала лампочка, и раздался голос дежурного из бюро пропусков. – Тут к вам некий Цачев рвется. С палкой.
– Пусти его! – велел я и выключил табло, чтобы мне никто не помешал «побеседовать» с этим Цачевым. Несколько дней назад Мария рассказала мне, что он пришел к ней в тир и заявил, что он самый натуральный племянник и прямой наследник имущества Марии, следовательно, законный владелец тира. Он даже показывал ей какие-то документы.
В дверях показался низкорослый человечек, опирающийся на трость, в клетчатом костюме, с бабочкой, с тонкими черными усиками, набриллиантиненные волосы были разделены на пробор. Я поглядел на него, и мой профессиональный подсознательный рефлекс позволил мне определить, кстати почти точно, его профессию – мелкий торговец, подвизавшийся в коммерции до 9-го Сентября[19]19
9 Сентября 1944 года – день победы над фашизмом в Болгарии.
[Закрыть].
– Полковник Свиленов? Не так ли, товарищ полковник? – произнес он таким тоном, в котором была и официальность, и раболепие, да и что-то вроде убежденности в собственной правоте.
– Прошу, – я указал ему на диван у стола; таким образом мне удалось пресечь его попытку поздороваться со мной за руку.
– Цачев! – представился он на расстоянии. Не сводя с меня глаз, он улыбался, великодушно прощая выбранный мною грубоватый способ знакомства – через стол. – Благодарю вас, – это в ответ на мое приглашение садиться. После чего он, медленно ковыляя из-за протеза, отправился к дивану, изо всех сил стараясь казаться выше – как, впрочем, большинство людей небольшого роста. Трость в руке и сам будто аршин проглотил, невольно подумал я, но тут же постарался отогнать эту мысль, потому что с самого детства мне внушили, что страшно стыдно смеяться над физическими недугами калеки. И все же я не мог не ощутить нарастающую с каждой секундой неприязнь к этому человеку.
– Слушаю вас! – бросил я ему чуть резче, чем хотелось.
Он не спеша уселся на диван, вытянул вперед свою деревянную ногу и оперся обеими руками на трость. У меня создалось такое впечатление, что он расположился тут на целую вечность, не считаясь с моим временем, а меня это абсолютно не устраивало, и я еще резче произнес:
– Я вас слушаю!
Несколько секунд он продолжал смотреть на меня и улыбаться, подчеркивая этим, что понимает, сколь я невоспитан, груб и даже просто неумен, потом тихо, «мирно» произнес:
– У вас есть время выслушать меня? Или, может быть, мне прийти завтра?
Я понял – этой подчеркнутой интонационно приставкой «вы», этим тихим, вкрадчивым голосом, этим недвусмысленным намеком на чиновничье «приходите завтра» Цачев хотел внушить мне, что его невозможно вывести из равновесия, что он стоически адаптирован по отношению к вышепоименованной бюрократии и скорее он может вывести ее из себя, а не она его. Я подумал, что он действительно способен на это. Честные люди открыто возмущаются, протестуют, а эти, цачевы, с понимающей улыбочкой, с неопределенной туманной жестикуляцией как будто доверительно делятся с тобой само собой разумеющимся соображением – это, дескать, характерная черта системы, и надо уметь извлекать из нее пользу для себя. И что же? Чаще всего такие типы оказываются победителями и добиваются своего, в то время как честные и порядочные, устав бороться с нашей бюрократией, посылают все к чертовой бабушке и сходят с дистанции.
Видно, цачевы со школьных лет хорошо запомнили библейскую максиму: «Стучите, и вам откроется, желайте, и вам воздастся».
Не меняя тона, я ответил ему:
– Слушать и «вы-слушивать» людей – моя профессия. А количество и время встреч с ними диктуется конкретным случаем. И если нужно, люди приходят и завтра, и послезавтра, и тогда, когда потребуется.
Мне было довольно противно ставить его на место таким способом, но он с самого начала должен был понять, что между райсоветом и моим кабинетом есть известная разница, и с этой минуты пусть выбросит из головы самую мысль и желание корчить из себя паяца.
Увы, мне, кажется, не удалось этого достичь – я понял свою ошибку тут же.
– У вас весьма незавидная, но интересная профессия, – покровительственным и слегка небрежным тоном умудренного опытом человека заявил он (ему было, может быть, всего лет на десять больше, чем мне, а разговаривал он со мной так, будто я мало что соображающий недоросль).
Да, я сказал много лишнего – в первый раз позволил себе рассуждать о своей профессии с человеком, который решил вывести меня из равновесия и к которому я почувствовал враждебность в первую же секунду.
– У вас три минуты, – веско, официально заявил я, и это подействовало.
Цачев подобрался и едва заметно задвигался вокруг своей трости.
– Я пришел к вам за содействием. В имущественном вопросе, – он слегка наклонился вперед, – как к частному лицу. Но сначала позвольте мне более подробно представиться: я сын старшей госпожи Робевой, с которой вы, насколько я знаю, были близко знакомы.
– Сгинувший в Америке?! – искренне удивился я.
– Нет, там был мой брат, и он умер. А я ее пасынок, но усыновленный и поэтому пользуюсь всеми правами законного наследника имущества семьи Робевых.
– Я действительно был знаком с госпожой Робевой, но о вас я слышу впервые.
– У нас с ней были разные политические убеждения, и поэтому после ранней смерти отца я вынужден был долгие годы жить в Салониках.
– Кто вы по профессии?
– Мелкий торговец. Кроме того, я занимаюсь политической деятельностью.
На последнем он особенно настаивал и упорно пытался доказать, что он «симпатизировал» и даже «помогал» нашей борьбе. Впрочем, после 9-го развелось довольно много таких «помощников» с их сомнительными документами и свидетелями, и все для того, чтобы урвать где можно хоть толику благ.
– В чем выражалась ваша политическая деятельность? – При всем желании я не мог скрыть сарказма, задавая этот вопрос.
– Я был активным сторонником автономии! – гордо заявил он. – Я боролся против присоединения Македонии к царской Болгарии.
– Тогда зачем вы появились здесь? Езжайте в Македонию!
– В какую Македонию?
– Да в какую хотите! Вы же были торговцем в Салониках, не так ли?
– Да, но, к великому сожалению, Салоники снова не принадлежат Македонии, и к тому же мои заклятые враги сожгли мой магазин вместе с товаром и даже бросили меня в тюрьму за мои прогрессивные убеждения. И так как моя антифашистская деятельность…
– Вашу антифашистскую деятельность в Салониках может подтвердить только дельфийский оракул, так что она меня не интересует! – я решительно пресек его излияния.
С каждой секундой раздражение мое нарастало, а это было вовсе ни к чему. Я потянулся за сигаретами, но бросил эту мысль – зачем обнаруживать нервозность перед этим типом. Более того – я даже попытался улыбнуться:
– Насколько я понял, согласно вашим политическим убеждениям, Болгария вам не родина, и непонятно, зачем вы сюда приехали.
Но язвительность моя и на этот раз не подействовала на Цачева, он тоже улыбнулся – еще шире, чем я:
– Родина у человека там, где ему хорошо, полковник! А хорошо ему там, где у него есть имущество. Мое имущество по ряду причин находится теперь только в Болгарии, вот почему я горжусь тем, что стал ее подданным. И буду защищать свои права как подданного Болгарии.
Меня охватило такое бешенство, что я уже едва сдерживался, – я слишком хорошо помнил ночные похождения подобных «политических деятелей» в нашем краю, этих оборотней, которые служили тем, кто им больше платил, – сколько же несчастных детей они оставили сиротами, гады… И все-таки я снова попытался взять себя в руки:
– Зачем вы обращаетесь ко мне? Какое я имею отношение к защите ваших гражданских прав? Я занимаюсь имущественными делами только тогда, когда они приобретают криминальный характер.
– Я обратился к вам именно потому, что посягательство на мои гражданские права имеет криминальный оттенок. И так как вы являетесь близким другом лица, которое присвоило себе мои имущественные права, вы могли бы повлиять на это лицо, чтобы оно добровольно возместило мне убыток и таким образом избежало лишних неприятностей – и для себя, и для меня, да, вероятно, и для вас, потому что вы наверняка будете защищать это лицо и таким образом наживете себе служебные неприятности…
Как же он был отвратителен!
– То, что будет с нами, не ваша забота и вас не касается! – резанул я с досадой. – Говорите конкретно о своей просьбе.
Он весь подобрался и даже бросил улыбаться.
– Конкретно? Конкретно вот что – убедите Марию Атанасову добровольно вернуть мне тир или заплатить пятнадцать тысяч левов в счет заработанного ею за тридцать пять лет эксплуатации тира. Мой адвокат говорит, что искомая сумма вдвое меньше реальной. Я делаю эту уступку по двум соображениям – гуманным и идеологическим. Гуманным – потому что она, как и я, инвалид, а идеологическим – потому что она участвовала в антифашистской борьбе, а мы, участники этой борьбы, должны уважать друг друга, так как…
Еще минута – и я схвачу его за шиворот и вытолкаю за дверь.
– Вот что, Цачев, – на этот раз мне пришлось закурить сигарету. – Насколько мне известно, перед смертью младшая Робева оставила письмо, в котором писала, что завещает все свое имущество Марии Атанасовой. На основании этого письма Атанасовой было разрешено добывать себе средства на жизнь эксплуатацией тира. Так что все это идет вразрез с вашими претензиями.
В глазах Цачева блеснула и пропала ехидная усмешка.
– Во-первых, неизвестно, написан ли был этот документ именно моей родственницей или кем-то другим и, во-вторых, было ли это действительно самоубийство, или кто-то другой помог ей переселиться в лучший мир… У меня есть свидетели, которые подтвердят, если потребуется, что отношения между моей родственницей и вашей близкой приятельницей были в конце 44-го не такими уж хорошими!
– Мария Атанасова действительно мой друг, а вашим свидетелям напомните, что за лжесвидетельство закон определяет до трех лет тюрьмы! – На этот раз настала моя очередь улыбаться: – К тому же ваши три минуты истекли.








