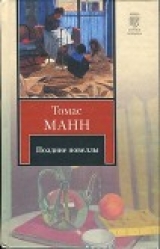
Текст книги "Поздние новеллы"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Голос, воззвавший к тебе, возвестил свою волю. Усердно
Я добивался её и добился согласия девы,
Ввёл её в дом, как желало того полюбившее сердце.
Так что, тебя созерцая, кочую по родинам милым,
Крошка с бровями германских отцов и горбинкой
от мавров.
Родины нет сокровенней, исконней и глубже Востока,
Родины душ человеческих, мудрости древней и нежной.
Разве не там, на Востоке, когда-то могучую книгу
Гений ганзейский создал, представленьем и волей желая
Мир объяснить, сопрягая германскую силу мышленья
С Упанишадами, тайну вселенной хранящими мудро?
Так, замечтавшись, в объятия чувств забираю я нежно
Ту, что дороже всего на планете, тебя, моя детка,
Вместе с тобой обнимаю я крепко и духа наследство,
Что приобрёл и храню, утешение в жизни и смерти,
Так я у нильской корзинки сижу и держу неотрывно
Ручку твою и гляжу на загадку лица дорогого.
Крещение
В будущем чтобы ты знала, тебе расскажу о крещенье
Славном твоём, ты о нём прочитаешь, когда повзрослеешь.
Тщательно ход торжества был продуман, в деталях.
И близко
К сердцу отец его принял, и предусмотрительным духом
Всё охватил он: и пастора выбрал, и крёстных достойных,
Зная, как важно, чтоб каждый отмечен был чем-то особым.
Много пришлось хлопотать и писать всевозможные письма,
Дату торжеств уточняя, чтоб всем подошла эта дата.
Трудно мне было уладить вопрос расписанья, поскольку
Крёстного я пригласил издалёка и пастора тоже.
Пастор в Саксонии служит, он юный пока что викарий,
Но сочетает в себе этот доктор вселенскую мудрость
И поэтический дар; в переписке мы были уж долго;
И предпослал моё имя из дружбы одной он сердечной
Дельной работе своей, что дала ему званье и славу.
Выбрал его я крестителем, ибо кто знает, кого там
Нам лютеранская церковь пришлёт, если дело пустить
самотёком,
Глядь, и прибудет какой-нибудь рохля елейный, который
В фарс превратит торжество. Избежать мне хотелось такого.
С этим уладили дело. О крёстных чуть ниже обмолвлюсь.
Вот и назначенный день наступил, день осенний,
прекрасный.
Комнату мы в возбужденьи счастливом убрали цветами,
Теми, которые осень нам дарит. Купил хризантемы
Я на базаре у ратуши – и белоснежно-лилейных,
И разномастно-цветистых (поскольку в саду нашем только
Зелень осталась да плющ), чтоб дополнить парадность
убранства.
Дальше расставили мы все цветы по стаканам и вазам
В трёх помещеньях, а самый букет благолепный украсил
Стол твой крестильный, стоявший до этого в комнате мамы.
Мы разместили его у окна, твой алтарь предстоящий,
Тонким дамастом льняным застелив, отыскав самый лучший.
Всё засверкало серебряной утварью. В церкви мы взяли
Всё для крещенья: Распятье Святое, кувшин и подсвечья.
Только купель у нас издавна в доме хранится, в которой
Крестятся наши четыре уже поколения кряду.
Ты – из четвёртого. Очень красива она, благородна,
Формы предельно простой, серебро её гладко, изящно.
Ванна стоит на овальной подставке, внутри позолота
Старозаветная где-то поблекла. По верхнему краю -
Ясный орнамент, из роз он и листьев зубчатых, начала
Прошлого века купель и во вкусе исполнена строгом.
Блюдо же, то, что подставкою служит, гораздо древнее.
Это семнадцатый век, а точнее – его середина.
Ровная дата указана в рамке помпезной, гравёром
Сделанной так, как тогда полагалось, с гербом благородным
(Герб в прихотливо-разбухшем витье арабесок, где звёзды
Переплелись в геральдическом танце с цветами). По кругу
На обороте – чреда гравированных шифров семейных.
Тех имена там, кто были владельцами вещи прекрасной,
Предков твоих имена, тех, чьи брови взяла ты, малютка.
В центре стола мы поставили эту купель, от налёта
Всюду отмыв. Над купелью Распятье висело, пред ней же
Мы положили старинную Библию, тоже наследство,
Древнюю, как и подставка, которая также бессменно
Ныне дошла и до нас по могучей цепи поколений.
Из Виттенберга печатни она появилась, поскольку
Разрешена благосклонно саксонско-курфюрстерской волей.
Тяжек её корешок, шириною вершковой, мерцает
Временем не истреблённый обрез с позолотою тусклой.
Убран довольно умело был стол, и на данное время
Сделал отец всё, что мог. Но хозяйке ещё предстояло
Множество разных забот – приготовить гостям угощенье:
Вечером, в пять, в полусумерках ранних осенних явились
Гости в нарядах умеренно-праздничных поочерёдно,
Руки и нам, и друг другу в приветствии жали, беседы
Неторопливо вели и в прихожей, и в комнате тоже,
Дети и взрослые – вместе. Сестрёнки твои и братишки
Тут находились. На них были лучшие платья, жилеты.
Порозовели их щёки. Смышлёные люди стремятся
К необычайному и проживают его вдохновенно,
Каждую мелочь вбирая. Священнослужитель же юный
Раньше других подошел, драгоценный наш гость
и почётный.
К нам он, явившись с визитом вчера, в пиджаке был
коротком,
Нынче ж наряжен в сюртук, что заменит в дальнейшем
служебным
Тем облаченьем, которое служка уже подготовил.
Книжник, в пенсне, такой мирный и ласковый взгляд
его карий.
В тихом своём возбужденьи ходил я по дому в заботах,
Мой это день был – и твой, и, ответственность чувствуя
остро,
Спешно бросаю гостей и к тебе поднимаюсь, где руки
Споро в крестильное платье тебя одевают, и дальше -
К пастору. Тот перед зеркалом брыжи свои закрепляет,
Порозовел, и чуть пальцы дрожат, принимает покорно
Полу священнослужителя добросердечного помощь.
Вместе со служкой, округлобородым и чёрносюртучным,
В кухню мы вместе спускаемся, чтобы наполнить водою
Тёплой кувшин для крещенья, ведь холод тебя испугает;
Снова спешу я к гостям, чтоб твоё, моя дочь, появленье
Не пропустить: не простил бы себе я такого вовеки.
Всё, началось… Раскрываются двери, и все обращают
Взор просветлённый туда, где у няни сидишь на руках ты,
Трогательна и невинна… не то, чтоб крестильное платье,
Сей неизбежно-наследный участник обряда, чудесно
Шло тебе: коротки слишком рукавчики и старомодно,
Сплошь почти чопорными до подола кружевами обшито, —
Словно твою обступило фигурку. Над ним же – головка
Милая, светлая, шаткая чуть, синевою сияют
Глазки, раскрытые в страхе, и ротика пухлая дужка,
И у виска дорогого пылает знакомая метка,
И в беспорядке причудливом светлые волосы. Ручки
Тянешь ты, как исперва, изначально тянуть приучилась:
Вывернув кисти наверх и ладошки наружу, как часто
Изображают на благочестивых картинах Младенца,
Благословляющего все народы земные и землю.
Вот ты и в нашем кругу: беспокойных, и грешных,
и взрослых,
Слышатся тихие возгласы радости, благоговенья.
Нечто подобное чует, сливаясь с бессчётной толпою
Даже и в ересь заблудший, когда по подкуполью плавно
Старец плывёт в паланкине, от святости слабый и белый,
Царь и отец, неустанно рукой восковою рисуя
В тысячеглавом пространстве спасительный знак покаянья.
Головы люди склоняют смиренно до праха земного,
Неудержимые слёзы глаза их в тот миг источают…
Все обступили тебя и здоровались ласковым словом.
Нет, ты не плакала (хоть очевиден испуг был), ведь нежность
Неустрашима, и там, где вульгарная грубость стремится
Вывалить всё поскорее, отважная нежность сжимает
Губы, берет себя в руки и терпит. Покуда восторги звучали,
Я поспешил к дорогому служителю Слова, который
Медлил ещё наверху. Очевидно, готовый, стоял он
В опочивальне и, сад неподвижно в окне созерцая,
Действо неспешно обдумывал то, что ему предстояло.
Вниз попросил я спуститься его, потому что готово
Всё, и немедля вперёд пропустил его, как подобает.
Благожелательно общество встретило пастора, он же
Полон смущения был и не меньше достоинства полон.
Донизу ряса струилась его, под худым подбородком,
Юным и выбритым тщательно, свежие брыжи лежали,
Вид придавая нарядный. И делал он всё, как учили:
Чёрный свой требник с крестом золотым прижимал
осторожно
Левой рукою к плечу. И сопутствовал пастору служка.
Вместе прошли мы в соседнюю комнату. Окна в ней были
Глухо зашторены. И освещались покои свечами.
Вот к алтарю проповедник подходит, становится сбоку,
Сзади становится служка, с другого алтарного края
Няня с тобой на руках, рядом – мать, в глубине помещенья
Прочие заняли место, на креслах внесённых ли сидя,
Стоя ли – как получилось. И вот в тишине благодушной
Юного пастора строгий над нами возносится голос.
Тщательно крёстные выбраны были твои, дорогая,
К радости нашей взаимной. Они, как и пастор наш юный,
Оба мужчинами были ещё молодыми довольно.
Старшему – чуть лишь за тридцать, но имя его уже веско
В мире звучит образованном, каждый почтительно брови
Тут же поднимет, заслышав его, потому что известен
Он как творения славного автор. Стоит, прислонившись
К створке дверной, и внимательно внемлет, мой верный
товарищ.
Он в сюртуке, ладно сшитом, по-бюргерски чист,
благороден.
Детски учтиво его жизнелюбье, но всё же страданье
Знает он близко и духом отмечен, знакомый с болезнью.
С ней он помолвлен пожизненно, часто она истязает
Бедного друга. Исполнен любовью и благоговейным
Страхом, дерзнул изложить он легенду о самом последнем
Из Икаридов, о доле смертельной его, да и сам он
Жребий такой отвоёвывал, Фауста сын и Елены,
Знак Виттенберга несущий и мету страстей Элевсина,
Заповедь смерти храня терпеливо душой раздвоённой,
Той, что опасно парит в равновесии жутком над миром,
Где неизменно прошедшее спорит с грядущим, и воля
С музыкой спорит, и тайна – со словом, и логика галлов —
С духом германским. И ринулась всё же душа без оглядки
В ночь роковую. Но к ясному небу уже воспаряет
Светлый, в лучах ореол, этот образ извечно священный.
Вот написал он о чём, двадцать глав описания длятся,
Или, вернее сказать, изменения, метаморфозы:
Ибо они вариации суть на единую тему,
Тему смертельно застывших весов. Этот труд философский
Облагородил он чувством глубоким и очарованьем
Каждую часть наделил в описаньи тончайшем предметов.
Книгу я эту люблю больше всех из написанных ныне,
Издавна близок её мне ландшафт многогранный, который
Есть часть меня, как и я его часть, и тайком улыбаюсь,
Если услышу, как хвалят её приобщённые к теме.
Вот что скажу про него я. Другой же в течение действа
Прямо стоять был не в силах, сидел он торжественно
в кресле,
Руки бескровные на набалдашник большой поместивши
Трости, похожей на посох. Её наконечник упёрся
Плотно в ковёр. И сей лик двадцатипятилетний
Бледен был слишком и слишком серьёзен. В немом
напряженьи
Спину держал он, как старец, усильем осанку хранящий.
В серо-зелёном был платье. На фронте четыре провёл он
Года, за родину храбро сражаясь. Поэтом, студентом
Был только-только. Но вот раскалённым металлом зубчатым
Ногу ему раздробило. В карман угодивший осколок
В месиво страшное всё раскурочил: ключи и монеты,
Что там ещё… Пролежал в лазарете он долго, и чудом
Ногу спасти удалось. Нет, мы не были раньше знакомы.
Но до ранения страшного с ним завязалась у нас переписка.
Сердцем я всем оценил его чистую смелую душу.
И когда время пришло твоего поручителя выбрать,
Тут же подумал о нём. Глубока, благородна по сути
Мысль, что найдёшь ты опору, рождённая временем
смутным,
В том, кто был времени этого юным борцом беззаветным.
Знал я, что в радость ему это будет. И вот он решился,
Не до конца от болезни оправившись (выйти в отставку
Намеревался он), тут же приехал, собрав свои силы,
Дабы торжественно-клятвенно-благоговейно промолвить
«Да». Это слово так искренне любит горячая юность.
Любит его и кто верою доброй исполнен. То слово
Многие годы назад прошептал он в душе, ещё детской.
С родиной он обручился, кровавою клятвой скрепивши
Право своё ей служить. Это право казалось священным.
Может, его обманула священная вера? Ведь круто
С верой, с любовью судьба поступила. Германия в прахе,
Попрано право её, и бичует себя безутешно
Бедное сердце германца, а страны, стяжавшие лавры,
Жуликоватой своей добродетелью громко бряцая,
Думают, как, сохраняя невинность, продлить наказанье.
Юноша бедный! За то, что отвергнуто, ты поручился,
Было уже опозорено раньше оно, поднималось
В мощи своей безграничной и эхом в тебе вырастая,
Смелости полное, чтобы сдержать ненасытную ярость
Мира безумного, свято уверен ты был в своём сердце:
Видит судьба твоё мужество (а не пустую браваду).
Но неподдельное мужество всё ж обернулось бравадой!
Так показаться могло, ведь суров приговор был судейский
И окончателен: выбрал он сторону вражеской силы.
Может, достойнее враг, раз десницей своею арбитр
Выбрал его как избранника рока, народ же немецкий
Ввергнул в кромешную ночь?.. Но не будем вопрос этот
ставить.
Это не важно, достоин ли наш неприятель победы,
Ибо душа мировая порой, вознеся лицемера,
Трезвость внесёт пораженьем, спасая важнейшие души.
Коль и не лучше был враг, так уж мы были плохи, конечно,
Подлым тогда было время, и слишком народ твой
германский
Времени верно служил. Но, мой юноша бедный, сказавши
«Да», ты другое душой произнёс! В твоём искреннем сердце
Билась иная Германия, подлинный образ отчизны,
Клялся ты родине мудрой, глубинной, которая прочим
Чужда всегда и всегда раздражает, но всё-таки вечно
Манит надеждою тайной и ужасом благоговейным.
«Да» ты не этой отчизне сказал, что себя позабыла и грозно
Силой телесной играла, восставши, чтоб миропорядок
Свой навязать, и теперь поплатилась жестоко за это.
Вот он, исход. Хоть и кажется ясным, решающим, может
Он подвести. Что такое победа и что – пораженье?
Где они? Можно ль о них говорить? Да расставлены ль
точки?
Разве победа в борьбе за владычество над обречённой,
Гаснущей, мертвенной ветхостью – это и вправду победа?
Ведь к завершенью приходит эпоха, и хочет отринуть
Новь человечества вовсе не эту победу, что спорна,
Но вопиющее зло и бесчестие. Взглянем открыто,
В скромной надежде, без шуточек и преждевременных
гимнов -
Что будет дальше. Ведь разве известны народам их судьбы?
Что твою родину ждёт? И какие нас ждут измененья?
Всё в руце Божьей, и верно Германия чувствует сердцем
Волю Его. Мы же все – лишь орудье, так будем смиренно
Этим орудьем и выполним всё, что предложит нам время,
Чтобы дела наши людям на пользу пошли, хоть немного.
Верить нам надо: искусство, хоть кажется делом отдельным,
Объединяет, способно смягчить наши души, свободу
И чистоту нам несёт, никогда не препятствуя людям
В их тяготении к лучшему. Кто же в стремлении стоек,
Целью избрав совершенство, тот делу добра помогает.
Плавною речью вёл юноша службу. Из уст его детских
Евангелических слов изливался поток. И когда проповедник
Речь прерывал, не найдя, что сказать, – всё равно
говорил он.
Слово в словах обретая, и в этом искусство и опыт
Он обнаруживал явные. Но, вне сомнения, всё же
Было ему что сказать. Это лучшее, суть его речи,
Прямо из сердца та речь исходила, она называлась
Словом «л ю б о в ь», и удачнее выбора сделать не мог он.
Слушали мы с одобрением, как, восприимчивый духом,
Юноша славил губами подвижными дар ещё больший.
Вовсе неплохо слагал он слова и использовал умно
Все преимущества той обстановки, всё зримое, чтобы
Дух человечности, нежно-беспомощный пред ритуалом,
Впитывал проповедь. В чёрном своём платоническом
платье
Властно сердца направлял к своему он предмету и чувства
Нежные в душах людских воскрешал, горячо увлекая.
Те же, кто слушал, и так восприимчивы были. Жестокость
Времени страшного сделала их уязвимее, мягче.
Ты, о дитя моё, символом стала тогда драгоценным,
Явленным чувствам людей, устрашённых и опустошённых
Вечным смятеньем. И люди тянулись к тебе благодарно,
Радуясь этой возможности вырваться хоть ненадолго
Из жесткосердного мира и в кратком застыть умиленьи.
* * *
И среди речи крещаемой голос раздался высокий.
Видимо, долгая речь со звучаньем её монотонным
Так напугала её, что малютка забилась, заплакав
И протестуя. В сторонку её отнесли, успокоив.
Но, не смутившись вторжением этим наивным, священник
Всё продолжал говорить то, что важным сказать полагал он,
Голос на плач возвышая, что было, считал он, уместным.
Как подобало по сану, торжественно он обратился
К крёстным с вопросом, клянутся ль они, что поддерживать
будут,
Верной и твёрдой опорою став, обращённого в веру
Маленького человечка, с любовью храня его душу
От всевозможного зла. И промолвили тут же согласно
«Да» дорогие избранники. Голос пристоен, негромок
Был их, серьёзен, в нём было почтенье к достоинству сана
Юного пастора и к торжеству этой краткой минуты.
Первый – чуть глухо, поскольку он долго молчал, это слово
Стоя промолвил, второй же, склонившийся к посоху, -
с кресла.
Слово от них получив, за священное действо немедля
Принялся юноша-пастор, водой окрестил он ребёнка,
Вновь принесённого. Тут ты затихла, позволив охотно
Древнему чину свободно свершиться. К концу ж ритуала
Мама держала тебя, передав после этого бережно в руки
Старшему, мастеру, автору книги той самой. Тебя он
Взял неумело, поэт и мыслитель, на левую руку.
Так же беспомощен был он, как груз его малый, но -
браво!-
Не уронил, удержал и подставил тебя под крещенье.
Пастор его на тебя изливал из горстей, изрекая
Формулы те, что с сим действом союзны, а служка в ладони
Тёплую воду ему перед тем выливал из сосуда,
Крупного, взятого в церкви. Вода же с головки стекала
Милой твоей в золочёное лоно купели, как раньше
Так же стекала она и с моей, и с головок братишек
Славных твоих и сестрёнок. И знаком приветствия свыше
Имя твоё прозвучало впервые торжественно. Так же
Имя твоё прозвучит у могилы как знак отпущенья.
Имя Элизабет дали тебе. И решение было
Это моё, ибо чистое имя такое встречалось
В нашем роду очень часто. Носили его неизменно
Матери наши и тётки. И сердце моё возжелало,
Чтоб ты вошла в вереницу сих путниц старинного рода.
Властно взывали глубины времён к сокровенным истокам,
К дальним корням человеческой сути моей. Ощущал я
Внуком себя. И не подлым, зловольным зову в себе мужа,
Что лишь фанфары грядущего слышит и гибель былого
Не замечает, о нет, сохраняет он верность былому,
Смерти, истории, и непрестанно он мыслью своею.
Духом он к ним возвращается, к связи вещей вековечной.
Так всё свершилось. Когда наконец отзвучала молитва
Благодарения, крёстный и с гордостью, и с облегченьем
Матери маленькую христианку вернул, и сейчас же,
Счастья желая, столпились вкруг вечного символа гости,
Счастья желая и матери, и окрещённой. Я тоже
Выслушал добрых гостей пожеланья. Довольный
свершённым, Уединился священник, чтоб снять облаченье и снова
К нам возвратиться в своём сюртуке. И собрание дружно,
Дети и взрослые, все поднялись, перейдя в помещенье,
Где для торжественной вечери были столы уж накрыты
Снедью, заботливо поданной умной хозяйкой, – насколько
Это позволила сделать блокада бесчувственных англов.
Закон
© Перевод Е. Шукшиной
I
Рождение его было непутевым, а потому он страстно любил все путное, непреложное, завет и запрет.
Убить ему случилось уже в ранней юности, в состоянии пламенеющего гнева, и потому он лучше всякого несведущего знал, что убивать хоть и доставляет наслаждение, но что после того, как убил, становится в высшей степени гадко и что не убий.
У него были горячие чувства, и потому его снедала потребность в Духовном, Чистом и Святом – Незримом, ибо Незримое представлялось ему духовным, святым и чистым.
У мадианитян, подвижного народа пастухов и торговцев, расселившегося в пустыне, куда ему пришлось бежать из Египта, земли его рождения, поскольку он убил (подробности чуть ниже), Моисей свел знакомство с одним богом, видеть которого было нельзя, но он тебя видел, с обитателем горы, который, хоть и невидимый, сидел на переносном сундуке в шатре, где, кидая жребий, раздавал пророчества. Для сынов Мадиама этот нумен по имени Яхве был одним из множества богов, они служили ему не особо ревностно и обихаживали только от греха подальше и на всякий случай. Они додумались до того, что среди богов, может, сыщется и такой, которого не видно, безобразный, и приносили ему жертвы, только чтоб никого не забыть, не обидеть и ни с какой мыслимой стороны не навлечь на себя неприятности.
На Моисея же, в силу его тяги к Чистому и Святому, незримость Яхве произвела сильное впечатление; он решил, что по святости ни один видимый бог не сравнится с невидимым, и поражался, почему сыны Мадиама почти не придают значения свойству, в его представлении преисполненному неизмеримых последствий. В долгих, тяжких и страстных раздумьях, присматривая в пустыне за овцами брата своей мадианитянской жены, потрясаемый вдохновениями и откровениями, которые как-то раз даже, оставив тело, в виде пылающего явления обрушились надушу настойчивым словоизъявлением и неизбежным поручением, он пришел к убеждению, что Яхве не кто иной, как Эль-Эльон, Всевышний, Эль-Рои, «видящий меня Бог», Тот, Кого всегда называли «Эль-Шаддай», «Богом горы», Эль-Олам, Богом мира и вечности[43]43
Авторский перевод имен и топонимов не всегда в точности соответствует общепринятому. – Примеч. пер.
[Закрыть] – одним словом, не кто иной, как Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов, то есть отцов нищих, темных, совсем запутавшихся в своем богопочитании, лишенных корней, порабощенных племен, живших в Египте, кровь которых со стороны отца текла в его, Моисея, жилах.
Посему, преисполнившись этим открытием, с обремененной поручением душой, а еще дрожа от жадного желания исполнить приказание, он прервал многолетнее пребывание у сынов Мадиама, посадил на осла жену свою Сепфору, поистине благородную женщину, ибо была она дочерью Рагуила, царствующего священника Мадиама, и сестрой его сына, владельца отар Иофора, прихватил обоих сыновей Гирсама и Елиезера и за семь дней пути, пролегавшего через многие пустыни, возвратился на Запад, в землю Египетскую, то есть в лежащее под паром Нижнее царство, где разделяется Нил и где в земле, называемой Кос, или Гошем, или Гешем, или Гесем, обреталась и надрывалась кровь его отца.
В земле той он немедля, где бы ни оказался – в хижинах, или там, где пасли, или там, где работали, – как-то по-особому вытягивая руки и потрясая по обе стороны туловища дрожащими кулаками, принялся разъяснять этой крови то огромное, что пережил. Он возвестил им, что вновь обретен Бог отцов; что Он открылся ему, Моше бен-Амраму, на горе Хорив в пустыне Син, в кусте, который горел и не сгорал; что имя Его Яхве, означающее «Я есть Тот, Кто Я есть, от века и до века», но также дуновение воздуха и бурю великую; что Он возжелал их кровь и при благоприятных обстоятельствах готов заключить с ней завет избрания изо всех народов, правда, при условии, что она присягнет только и исключительно Ему и на основе этой присяги объединится в сообщество для прерогативного, безобразного служения Незримому.
Этими словами он сверлил их будто сверлом, потрясая при этом кулаками, закрепленными на необычайно широких запястьях. И все же он был откровенен не до конца, выводил за скобки многое из того, о чем думал, да, собственно, суть, из опасения нагнать на них страху. О последствиях незримости, то есть духовности, чистоты и святости он ничего им не говорил и предпочитал не напирать на то, что в качестве присягнувших служителей Незримого им придется стать обособленным народом духа, чистоты и святости. Он умалчивал об этом, дабы их не напугать; ибо то была столь жалкая, угнетенная, запутавшаяся в своем богопочитании плоть – кровь его отца, что он ей не доверял, хоть и любил. Даже говоря о том, что Яхве, Незримый, возжелал их, он приписывал Богу, влагал в Него то, что, возможно, и было Божиим, но вместе с тем по меньшей мере и его собственным: он сам жаждал крови своего отца, как каменотес жаждет безобразной глыбы, из которой замыслил изваять изящный, возвышенный образ, плод труда рук своих, – отсюда дрожь жадного желания, наряду с огромной душевной тяготой после повеления наполнявшего его душу, когда он покидал Мадиам.
Что он еще пока утаивал, так это вторую половину повеления, ибо оно было двойным. Оно гласило не только, что Моисей должен возвестить племенам о вновь обретенном Боге отцов и что Он возжелал их, но еще и то, что ему через многие пустыни надлежит вывести их на вольные просторы, из египетского дома рабства в землю обетования, землю отцов. Это поручение было завязано на возвещении и неразрывно с ним переплетено. Бог – и освобождение ради возвращения домой; Незримый – и отрясание ига чужбины, для него это была одна и та же мысль. Но народу он пока об этом не говорил, ибо знал, что одно воспоследует из другого, а еще потому, что этого другого сам надеялся добиться у фараона, царя египетского, от которого отстоял совсем недалеко.
Но то ли народу не нравились его речи – ибо говорил Моисей плохо, запинаясь, часто не находя слов, – то ли он, видя, как Моисей потрясает дрожащими кулаками, предчувствовал последствия незримости, а также подобного предложения завета, и смекнул, что человек этот хочет заманить его во что-то утомительное и опасное, – только на такую настырность народ реагировал недоверчиво, жестоковыйно и боязливо, оглядывался на египетских истязателей и цедил сквозь зубы:
– Чего ты там давишься словами? И что это за слова, которыми ты там давишься? Тебя что, кто-то поставил начальником и судьею над нами? Интересно кто?
Это было для него не ново. Он и раньше слышал от них подобное, прежде чем бежал в Мадиам.
II
Отец его не был ему отцом, а мать не была матерью – таким непутевым было его рождение. Вторая дочь Рамессу,[44]44
Один из вариантов имени Рамзес. – Примеч. пер.
[Закрыть] фараона, с прислужницами-подругами по играм и под вооруженной охраной нежилась в царском саду на Ниле. Вдруг она заметила еврейского раба, черпавшего воду, и воспылала к нему желанием. У того были грустные глаза, юношеская бородка и сильные руки, обнажавшиеся, когда он зачерпывал воду. Он трудился в поте лица своего и имел наказание свое, но для дщери фараоновой явился эталоном красоты и желания, и она повелела ввести его к себе в шатер; там она запустила ему изящную ручку во взмокшие от пота волосы, поцеловала мышцу плеча и раздразнила мужественность, так что он овладел ею, чужеземный раб – царским отпрыском. Получив свое, она отпустила его, но он отошел недалеко, через тридцать шагов его умертвили и быстренько зарыли, так что от удовольствия дочери Солнца не осталось ничего.
– Бедный! – сказала она, услыхав об этом. – И всегда-то вы переусердствуете. Он бы и так молчал. Он любил меня.
Но после того она отяжелела и через девять месяцев под покровом тайны родила мальчика; ее женщины положили его в просмоленную корзинку из тростника и спрятали в тростнике у края воды. Там они ее потом нашли и воскликнули:
– О чудо! Найденыш, мальчик из тростника, подкидыш! Точно как в древних сказаниях про Саргона, которого Акки-водочерпий нашел в тростнике и воспитал по доброте сердца. Все та же вечная история! Куда же эту находку? Самое разумное отдать его какой-нибудь кормящей матери из простого сословия, у кого есть лишнее молоко, чтобы он вырос ей и ее добропорядочному мужу сыном.
И они вручили ребенка одной евреянке, которая снесла его в землю Гесем к Иохаведе, жене Амрамовой, из допущенных, мужа семени Левиина. Та кормила сына своего Аарона, и было у нее лишнее молоко; поэтому, а еще потому что на хижину ее иногда сверху тайком нисходило добро, она в доброте сердца вырастила и непонятного ребенка. Так Амрам с Иохаведой в глазах людей стали его родителями, а Аарон – братом. Амрам имел скот и поле, а Иохаведа была дочерью каменотеса. Они, однако, не знали, как назвать данного младенца, и потому дали ему полуегипетское имя, то есть половину египетского имени. Ибо сыны той земли часто звались Птах-Мосе, Амон-Мосе или Ра-Мосе[45]45
Мосе – египетская огласовка еврейского имени Моше. – Примеч. пер.
[Закрыть] – сыновьями своих богов. Правда, имя бога Амрам и Иохаведа на всякий случай выпустили и назвали мальчика без затей – Мосе. Так что был он просто-напросто «сыном». Вопрос только – чьим.
III
Он вырос одним из допущенных и изъяснялся на их наречии. Предки крови с позволения пограничных властей некогда, во время засухи пришли в эту землю «голодающими бедуинами Едома», как назвали их фараоновы писцы, и для возделывания им был определен край Гесем в Нижнем царстве. Кто думает, что они могли пастись там даром, тот плохо знает их пастухов, сынов Египта. Им не просто приходилось платить дань скотом, и весьма ощутимую, но всё среди них, имеющее силу, обязано было отрабатывать трудовую повинность, барщину на всяких стройках, которые в такой земле, как Египет, конца не имеют. Особенно, однако, широко велось строительство с тех пор, как фараоном в Фивах стал Рамессу, второй с этим именем, таково было его желание и царская прихоть. По всей земле он возводил расточительные храмы, а внизу, в устье, не только повелел обновить и существенно улучшить долго остававшийся в небрежении канал, соединяющий самый восточный рукав Нила с Горькими озерами и, таким образом, большое море – с оконечностью Красного, но и возвел вдоль канала два настоящих города-склада, названных Пифом и Раамсес; сюда-то и набрали сынов допущенных, этот ибрим, которые обжигали, таскали кирпичи и вкалывали в поте тела своего под египетской палкой.
Палка являлась скорее лишь приметой фараоновых надсмотрщиков, без надобности их не били. Кроме того, на барщине людей хорошо кормили: много рыбы из рукава Нила, хлеба, пива и вдосталь говядины. Однако, несмотря на это, барщина их не очень устраивала, не совсем приходилась им по вкусу, ибо то была кровь кочевников с традициями свободно-блуждающей жизни, и работа по часам, да еще когда потеть, в душе казалась им непонятной и обидной. Но для того, чтобы достичь по вопросу о своем недовольстве взаимопонимания и единодушия, племена были слишком разобщены и обладали недостаточным самосознанием. Уже несколько поколений они стояли шатрами в промежуточной земле между родиной отцов и собственно Египтом и были безобразной души, шаткого духа и без крепкого учения; много чего забыли, другое восприняли наполовину и по нехватке собственно сердцевины не доверяли своим настроениям, даже таившемуся в этих настроениях ожесточению на барщину; тут их, правда, сбивали с толку рыба, пиво и говядина.
Так вот Мосе, мнимому сыну Амрамову, вышедшему из возраста мальчика, тоже пришлось бы обмазывать кирпичи для фараона, но этого не случилось; юношу отобрали у родителей и поместили в школу в Верхнем Египете, очень приличный интернат, где воспитывались сыновья правителей сирийских городов и местные высокородные отпрыски. Туда его и определили, ибо родная мать, фараоново дитя, выродившая мальчика в тростник, была хоть и похотливой штучкой, но не бездушной; она позаботилась о нем ради его закопанного отца, водочерпия в бородке и с грустными глазами, не желая, чтобы он остался с дикарями, а намереваясь дать ему образование египтянина и добиться для него должности при дворе – в знак тайного полупризнания его божественной полукрови. И так Моисей, облаченный в белый лен, с париком на голове, изучал звезды и земли, каллиграфию и право, но счастлив среди зазнаек элитарного интерната не был, он был среди них одинок и полон отвращения ко всей египетской утонченности, похоть которой его породила. Кровь закопанного, вынужденная этой похоти послужить, оказалась в нем сильнее египетской части, а душой он был с несчастными безобразными, там, дома, в Гесеме, у кого недоставало мужества для ожесточения, душой он вместе с ними противился надменности материнской крови.








