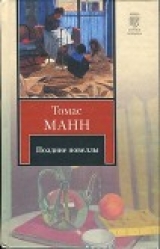
Текст книги "Поздние новеллы"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
Однако как-то раз, в середине августа, во время послеобеденной прогулки, по большой жаре, произошло нечто странное, почудившееся им насмешкой. Между лугом и опушкой леса они вдруг почуяли, как повеяло запахом мускуса, сначала почти неуловимо, затем сильнее. Розалия заметила его первой и возгласом «Ах, откуда бы?» высказала то, что почувствовала; дочери пришлось тотчас с ней согласиться: да, именно этот запах, именно из группы мускусных духов – ошибиться невозможно. Пары шагов хватило, чтобы выявить источник – отвратительный. На обочине обнаружилась кипящая на солнце, густо облепленная навозными мухами груда нечистот, рассматривать которую им не захотелось. Экскременты животных, а может, и человека, на небольшом пространстве сплавились со сгнившими растениями, тут же налип и сильно уже разложившийся труп какого-то мелкого лесного существа. Словом, не могло быть ничего омерзительнее этой медленно вызревающей кучки; однако ее гнусные испарения, сотнями привлекающие мух, в их двусмысленной переходности и амбивалентности уже нельзя было назвать вонью, их волей-неволей приходилось именовать запахом мускуса.
– Пойдем дальше, – одновременно сказали обе дамы, и Анна, сильнее приволакивая ногу, как всегда в начале ходьбы, налегла на мать.
Некоторое время молчали, словно каждой нужно было осмыслить странное впечатление. Потом Розалия сказала;
– Вот видишь, я никогда не любила запах мускуса, да и мускусного секрета, что то же самое, и не понимаю, как этим можно душиться. Цибетин, по-моему, относится сюда же. Так не пахнет ни один цветок, на уроках природоведения у нас было, что его выделяют определенные железы некоторых животных – крыс, кошек, виверовых, кабарги. Помнишь, у Шиллера в «Коварстве и любви» появляется человечек, такой шаркун, крайне бестолковый, о котором говорится, что он взвизгивает и распространяет по партеру запах мускуса. Я всегда так смеялась на этом месте!
И они повеселели. Розалии все еще удавалось смеяться теплым, из сердца поднимающимся смехом, и когда органические трудности возрастного перехода, прерывистое, засыхающее воспроизведение женского естества заставляли ее преодолевать физические и душевные недомогания. В природе она имела к тому времени друга, совсем рядом с домом, в уголке парка (туда вела «Красочная» улица). Это был старый, стоящий в сторонке дуб, уродливо-суковатый, с частично обнажившимися корнями и приземистым стволом, который сразу, невысоко от земли расходился узловатыми ветвями – толстыми и отраставшими от них тонкими. Ствол кое-где зиял пустотами, и его запломбировали цементом – администрация парка постаралась для столетнего старика; некоторые ветви уже засохли и не давали листвы, а голые, искривленные, цеплялись за воздух; других веточек было мало, но зато по весне они с низу и до самого верху еще зеленели испокон веков почитавшимися священными, изрезанными зубчатыми углублениями листьями, из которых извечно плели венки победителям. Розалия не могла оторвать от него глаз, около своего дня рождения она следила за тем, как созревают, лопаются почки, распускается листва на тех больших и маленьких ветвях дерева, куда еще доходила жизнь, и с каждым днем все более участливо. Вместе с Анной она садилась возле дуба на скамейку у поляны и говорила:
– Бравый старичок! Разве можно без волнения смотреть, как он держится и все еще пускает листья? Ты только посмотри на корни, толщиной с руку, окаменевшие, как широко они раскинулись и цепко впились в питательную землю. Он пережил не одну бурю и не одну еще переживет. Не рухнет. Вылупленный, зацементированный, на полную листву бедняги уже не хватает. Но когда приходит его пора, в нем все же поднимаются соки – нет, не везде, но ему удается немножко зеленеть, что вызывает уважение и бережное отношение к его отваге. Видишь, вон там, наверху, на ветру качается тоненький побег с нераспустившимися листочками? Вокруг уже толком ничего не будет, но эта веточка спасает его честь.
– Конечно, мама, ты права, достойно уважения, – отвечала Анна. – Но если не возражаешь, я бы вернулась домой. Болит.
– Болит? Это твои… Ну конечно, родная, как я могла забыть? Зря я тебя вытащила. Уставилась на старика и не обращаю внимания, что ты вся скорчилась. Прости! Бери меня под руку, и пойдем.
Фройляйн фон Тюммлер с незапамятных времен, когда подходили ее дни, страдала сильными болями внизу живота, – в общем, ничего страшного, она давно привыкла к этой неприятной особенности организма, как называли ее врачи, с ней приходилось мириться. И тогда мать во время недолгого пути домой, неторопливо утешая, искренне желая подбодрить, а кроме того – и прежде всего – с завистью говорила страдалице:
– Помнишь, так было уже в самый первый раз, когда это случилось, ты была еще совсем девочка и так испугалась, а я тебе объясняла, что это всего лишь естественно, необходимо и радостно, даже, можно сказать, памятный день, потому что свидетельствует о том, что ты созрела в женщину? У тебя болит перед началом, ладно, это утомительно и совсем необязательно, у меня подобного никогда не было, но такое бывает, кроме тебя, мне известны еще два-три случая, когда болит, и я вот что думаю: боли, a la bonne heure,[5]5
Ну и прекрасно (фр.).
[Закрыть] они у нас, женщин, другие, чем в остальной природе и у мужчин, у тех-то болей нет, только когда заболевают, вот тогда они ужасно пыжатся, и Тюммлер пыжился, твой отец, как только у него начинало где-нибудь болеть, хотя он был офицером и погиб героем. Наш пол ведет себя в таких случаях иначе, терпеливее переносит боль, мы терпеливицы и рождены, так сказать, для боли. Ибо прежде всего нам ведома естественная и здоровая боль во время родов, данная божественной волей и священная, которая есть нечто исключительно женское, отчего мужчин избавили или чего их лишили. Вот глупые мужчины приходят в ужас от наших полубессознательных криков, мучаются угрызениями совести, хватаются за голову, хотя, несмотря на все крики, мы над ними смеемся. Когда я производила тебя на свет, Анна, было очень тяжело. С первых схваток роды продолжались тридцать шесть часов, и Тюммлер все это время бегал по дому, держась за голову, но ведь то был великий праздник жизни, и не я кричала, а что-то кричало, такой священный экстаз боли. Потом с Эдуардом не было и вполовину так трудно, но для мужчины и этого хватило с излишком, ах, господа мужчины, они бы в такой ситуации предпочли откланяться. Видишь ли, обычно боль – предупредительный сигнал всегда благосклонной природы о том, что в организме развивается болезнь, – это значит: эй! у тебя непорядок, предприми что-нибудь, не столько против боли, сколько против того, что она означает. У нас тоже может так быть и иметь такое значение, конечно. Но, как тебе известно, эта твоя боль внизу живота такого значения не имеет и ни о чем тебя не предупреждает. Это такая игра женской боли и потому почтенна, и ты должна ее понимать как проявление женской жизни. Как долго мы, женщины, уже не дети и еще не бессильные старухи, в нас непрестанно усиленно бурлит жизнь крови материнского органа, с помощью чего природа подготавливает к принятию оплодотворенного яйца, а когда оно появляется, что в моей долгой жизни случилось всего дважды и с большим промежутком, тогда они прекращаются, дни, и мы находимся в благословенном положении. Господи, как радостно я испугалась, когда у меня прекратилось первый раз, тридцать лет назад! Это была ты, мое дорогое дитя, кем меня благословили, и я помню, как открылась Тюммлеру, покраснев, приклонила ему голову на плечо и тихонько сказала: «Роберт, пришло, все признаки говорят за то, что не иначе чему-то быть».
– Мама, дорогая, сделай одно-единственное одолжение, не говори так по-рейнландски, это меня сейчас раздражает.
– О, прости, родная, я, разумеется, меньше всего хотела тебя еще и раздражить. Просто тогда, в своей смущенной стыдливости я действительно так сказала Тюммлеру. А потом, мы ведь говорим о естественных вещах, не правда ли, а для моего чувства природа и диалект связаны, как связаны природа и народ, – если это чепуха, поправь меня, ты ведь настолько умнее. Да, ты умна и как художница не очень-то дружна с природой, а все время переводишь ее в духовное, в кубы и спирали, но коли уж мы заговорили о связях, то вот что мне, пожалуй, интересно: не связано ли это – твое гордое, высокодуховное отношение к природе – и что она именно тебе причиняет боль в животе перед днями?
– Но, мама, – невольно рассмеявшись, ответила Анна, – ты обвиняешь меня в высокой духовности, а сама выстраиваешь непозволительно высокодуховные теории!
– Если я тебя хоть немного амюзирую, дитя мое, для меня сойдет и самая примитивная теория. Однако о почтенных женских болях я говорила вполне серьезно и в утешение. Радуйся и гордись в свои тридцать лет, что ты в полном расцвете твоей крови. Поверь, я бы смирилась с любыми болями в животе, если бы у меня было так же. Но, увы, как ни крути, дела мои обстоят уже иначе, у меня все скуднее и нерегулярнее, а вот уже два месяца не приходило вообще. Ах, у меня уже нет обыкновенного у женщин, как говорится в Библии, по-моему, о Саре, да, о Саре, с которой потом произошло чудо деторождения, но это, наверно, просто такая благочестивая история, которых в наши дни уже не случается. Если у нас прекращается обыкновенное у женщин, то мы и не женщины уже, а лишь их высохшая оболочка, использованная, негодная, исторгнутая из природы. Дорогое мое дитя, как это горько. У мужчин, мне кажется, это вообще может длиться всю жизнь. Я знаю таких, кто и в восемьдесят не пропустит ни одной юбки, и Тюммлер, твой отец, был таким, а мне приходилось закрывать глаза, даже когда он уже был подполковником! Что такое для мужчины пятьдесят лет? При наличии некоторого темперамента это вовсе не мешает им быть сердцеедами, иной и с седыми висками имеет успех у совсем молоденьких девушек. А нам, женщинам, в нашей кровяной женской жизни, нашему полноценному человеческому существованию в конечном счете положен предел в тридцать пять, а в пятьдесят мы отслужили свое, наша способность рожать угасает и для природы мы всего лишь рухлядь.
На такие слова, полные суровой веры в природу, Анна отвечала иначе, чем по праву ответила бы, пожалуй, иная женщина. Но она сказала:
– Как же ты можешь так говорить, мама, так бесчестить и порочить достоинство пожилой женщины, исполнившей свою жизнь и переведенной природой, которую ты так любишь, в новое, мягкое состояние, достойное, достойное более высокой любви, когда она еще так много может дать людям, ближним и дальним. Мужчины… Ты им завидуешь, поскольку их половая жизнь в отличие от женской не имеет строго установленных границ. Но я сомневаюсь, так ли уж это почтенно, сомневаюсь, является ли это причиной для зависти; во всяком случае, все народы с нравственными устоями всегда оказывали матронам величайшие почести, почитая их чуть не святыми, и мы в твоем чудесном, восхитительном, достойном возрасте будем почитать тебя святой.
– Дорогая моя, – и Розалия на ходу притянула к себе дочь, – ты говоришь так умно, так прекрасно, куда лучше, чем я, несмотря на боль, в которой я хотела тебя утешить, а теперь вот ты утешаешь свою глупую мать в ее недостойных горестях. Но это правда тяжело, дорогое мое дитя, – достоинство, прощание; правда, даже телу трудно находиться в новом состоянии, уже одно это доставляет мучение. А когда еще есть душа, которая вообще ничего не хочет знать о достоинстве почетного статуса матрон и сопротивляется высыханию тела, тогда трудно по-настоящему. Душе приспособиться к новому состоянию тела – вот что самое трудное.
– Конечно, мама, я понимаю. Но смотри, ведь тело и душа суть одно; психическое – не меньше природа, чем физическое; природа включает в себя и это тоже; не нужно бояться, что душевное будет долго дисгармонировать с естественными переменами тела. Нужно думать так: душевное есть лишь излучение телесного, и если душа полагает, что ей выпала слишком трудная задача приспособиться к изменившейся жизни тела, то скоро она поймет, что ей не остается ничего другого, как дать этому случиться, позволить этой жизни тела сделать, что должно. Потому что душу лепит именно тело, сообразно своему состоянию.
Фройляйн фон Тюммлер знала, почему говорила это, ибо когда столь откровенная с ней мать вела разговоры, подобные приведенному выше, в доме уже часто показывалось новое лицо, лицо, не бывавшее тут прежде, и наметилось чреватое смущением развитие событий, не ускользнувшее от молчаливого, обеспокоенного наблюдения Анны.
Новое лицо, отчаянно ничем, по мнению Анны, не примечательное, не слишком отмеченное духом, принадлежало молодому человеку по имени Кен Китон, лет двадцати четырех, заброшенному сюда войной американцу, который уже какое-то время жил в городе и преподавал по домам английский либо исключительно ради беседы на английском приглашался богатыми дамами за вознаграждение. Прослышавший об этом Эдуард, после Пасхи перешедший в выпускной класс, очень-очень просил мать позволить, чтобы мистер Китон пару раз в неделю после обеда посвящал его в английский язык. Ибо гимназия давала ему порядком греческого, латыни и, по счастью, еще достаточно математики, но не английский, который в плане видов на будущее он считал крайне важным. Молодой человек намеревался, с грехом пополам разделавшись со скучными гуманитарными науками, поступить в политехникум, а затем для дальнейшей учебы отправиться в Англию или сразу в эльдорадо техники, Соединенные Штаты. А посему был рад и благодарен матери за то, что та из уважения к ясности и решительности его волеполагания выполнила пожелание, и теперь занятия с Китоном по понедельникам, средам и субботам доставляли ему большое удовольствие по причине их целесообразности и еще потому, что здорово осваивать незнакомый язык с азов, как первоклашка, сперва при помощи маленького «primer», то бишь букваря: вокабулы, их часто фантастическое написание, крайне чудное произношение, которое Кен, образуя «л» в горле, скорее на рейнландский лад, а «р» скатывая с нёба без рокотания, демонстрировал ученику в такой гипертрофированной растянутости, будто хотел высмеять родной язык. «Scrr-ew the top on!»[6]6
3десь и ниже английские фразы и слова для развития фонетических навыков.
[Закрыть] – говорил он. «I sllept like a top». «Alfred is a tennis play-err. His shoulders are thirty inches brr– oaoadd».[7]7
Альфред – теннисист. Его плечи тридцати дюймов в ширину (англ.).
[Закрыть] Эдуард мог все полтора часа прохохотать над широкоплечим теннисистом Альфредом, о котором с использованием как можно большего количества «though» и «thought», а также «taught» и «tough» говорилось еще немало похвального, но делал большие успехи, именно потому что Китон, не будучи по образованию педагогом, следовал совершенно свободной методе, то есть преподавал, не ломая себе голову, предоставлял все случаю и так, с болтовней на сленге и nonsense[8]8
Чепуха (англ.).
[Закрыть] втягивал ничего более и не желавшего ученика в свой удобный, полный юмора, распространенный по всему миру язык.
Фрау фон Тюммлер, заинтересовавшись царившим в комнате Эдуарда весельем, иногда заходила к молодым людям, немножко участвовала в полезном развлечении, от души смеялась над Альфредом, the tennis play-err, и находила известное сходство между ним и юным приватным учителем сына, особенно что касается плеч, и у того солидной ширины. В остальном у Кена были густые светлые волосы, не особенно красивое, но и не отталкивающее, безобидно приветливое молодое лицо, благодаря англосаксонскому флеру казавшееся здесь все-таки не совсем обычным; он был прекрасно сложен, что бросалось в глаза, даже несмотря на свободную широкую одежду, – по-молодому сильный, длинноногий, узкобедрый. Имел и очень неплохие руки с не слишком вычурным перстнем на левой. Его простое, весьма раскованное, хотя и не без манер существо, забавный немецкий, артикулируемый им столь же безошибочно по-английски, как и известные ему крохи французского и итальянского (ибо он побывал во многих европейских странах) – все это очень нравилось Розалии; особенно ее привлекала в нем большая естественность; и время от времени, а в конце концов почти регулярно, после занятий, прошедших в ее присутствии или же нет, она приглашала его на ужин. Частично интерес фрау фон Тюммлер к молодому человеку объяснялся тем, что, как говорили, он пользовался большим успехом у женщин. С этой мыслью она изучала его и не находила слухи невероятными, хотя и не могла отделаться от неприятного чувства, когда он, немного срыгивая во время еды или разговора, подносил руку ко рту и говорил: «Pardon me!»,[9]9
Простите меня (англ.).
[Закрыть] что объяснялось намерением соблюсти хорошие манеры, но совершенно ненужным образом привлекало внимание к инциденту.
Кен, как он рассказал за столом, родился в маленьком городке одного из восточных штатов, где отец его имел разнообразные профессии, то был broker,[10]10
Маклер (англ.).
[Закрыть] то руководил автозаправочной станцией, а со временем скопил немного денег в realestate business.[11]11
Торговля недвижимостью (англ.).
[Закрыть] Сын ходил в high school,[12]12
Средняя школа (англ.).
[Закрыть] где, если верить ему, вообще ничему нельзя было научиться – «по европейским понятиям», как почтительно добавлял он, – а затем не долго думая, чтобы еще подучиться, поступил в колледж в Детройте, штат Мичиган, где собственными руками зарабатывал на учебу, отправляя функции посудомойщика, повара, разносчика еды, а также садовника при колледже. Фрау фон Тюммлер спрашивала, как же ему удалось сохранить при этом такие белые, можно сказать, барственные руки, и он отвечал, что, выполняя грубую работу, всегда надевал перчатки, еще спортивную рубашку с короткими рукавами или вообще одни брюки, но обязательно перчатки. Подобным образом там поступают многие рабочие, даже большинство, например, строители, чтобы руки у них не превратились в мозолистые пролетарские лапы, чтобы сохранить руки, как у адвокатских писарей, с перстнем.
Розалия похвалила обычай, но Китон переспросил: «Обычай?» Слово слишком хорошо, «обычаем» в значении старинных европейских обычаев – он, как правило, говорил «continental»,[13]13
Континентальный (англ.).
[Закрыть] когда хотел сказать «европейский», – это назвать нельзя. Такой, например, старинный немецкий народный обычай, как «кнутом на здоровье», когда парни на Рождество и Пасху бьют, или, как они говорят, «утюжат», или «лупцуют» березовыми и ивовыми прутьями девушек, а заодно скотину и деревья, причем в видах здоровья и чадородия, – вот это обычай, древний, вот это ему нравится. Весной утюженье и лупцевание называется «задать жару».
Тюммлерам не было известно ни про какое лупцевание, и они поразились осведомленности Кена в области народных традиций. Над «кнутом на здоровье» Эдуард рассмеялся, Анна скроила мину, и только Розалия в полном согласии с гостем выразила восхищение. Последний сказал, что это все-таки нечто другое, чем перчатки во время работы, такого в Америке еще поискать, уже хотя бы потому, что там нет деревень, а крестьяне – вовсе не крестьяне, а такие же предприниматели, как и все остальные, и никаких обычаев у них нет. Он вообще, хоть по всему облику такой бесспорно американский, не выказывал особой привязанности к своей большой родине. «Не didn’t care for America», она была ему не очень важна. Более того, с погоней за долларом и бесконечным хождением в церковь, с ханжеским отношением к успеху и колоссальной посредственностью, но прежде всего с нехваткой исторической атмосферы, он считал ее вообще-то отвратительной. Нет, конечно, история у нее есть, но это не History,[14]14
История с большой буквы (англ.).
[Закрыть] а всего лишь короткая, пошлая success story.[15]15
История успеха (англ.).
[Закрыть] Нет, разумеется, кроме громадных пустынь, там есть красивые, потрясающие ландшафты, но «за ними ничего не стоит», в то время как в Европе за всем стоит очень много, особенно за городами с их глубокой исторической перспективой. Американские города? Не didn’t care for them. Их поставили вчера и завтра опять могут убрать. Маленькие города – сонные захолустья, в точности похожие один на другой, а большие – расфуфыренные жестокие чудовища с музеями, ломящимися от скупленного «континентального» культурного добра. Скупать, правда, лучше, чем красть, но не намного лучше, поскольку датируемое 1400 или 1200 годом от Рождества Христова в некоторых местах будет все равно что украдено.
Над лишенными пиетета речами Кена смеялись, однако и пеняли, но он возражал, что как раз пиетет велит ему так говорить, как раз уважение к перспективе и атмосфере. Совсем ранние исторические даты – 1100, 700 год нашей эры – это его страсть, hobby,[16]16
Увлечение (англ.).
[Закрыть] по истории он в колледже был лучше всех, по истории и athletics.[17]17
Гимнастика (англ.).
[Закрыть] Его уже давно тянуло в Европу, где такие исторические даты у себя дома, и безо всякой войны, сам, матросом или посудомойщиком наверняка приехал бы сюда поработать, только чтобы подышать историческим воздухом. Однако война ему подфартила, и в 1917 году он сразу записался в army[18]18
Армия (англ.).
[Закрыть] и во время trainings[19]19
Учения (англ.).
[Закрыть] все боялся, что военные действия закончатся прежде, чем его сюда перебросят. И успел как раз под занавес, в одном битком набитом армейском транспорте, во Францию, попал еще в самый настоящий бой, под Компьенем, где даже получил ранение, не такое уж и легкое, так что несколько недель провалялся в госпитале. Задело почки, и теперь у него работает всего одна, которой ему, однако, вполне хватает. И все-таки, со смехом добавил молодой человек, он теперь что-то вроде инвалида и получает по инвалидности маленькую пенсию, представляющую для него большую ценность, нежели простреленная почка.
Но он вовсе не похож на инвалида, уверила его фрау фон Тюммлер, и Китон ответил:
– Нет, слава Богу, only a little cash.[20]20
Лишь немного наличными (англ.).
[Закрыть]
Выписавшись из госпиталя, он оставил службу, был с медалью за отвагу «honorably discharged»[21]21
С почетом отправлен в отставку (англ.).
[Закрыть] и на неопределенное время задержался в Европе, где ему все так нравилось, где он купался в ранних исторических датах. Французские соборы, итальянские кампанилы, палаццо и галереи, швейцарские селения, такое место, как Штайн-на-Рейне, все это most delightful indeed.[22]22
Не передать, как очаровательно (англ.).
[Закрыть] И такое везде вино, и бистро во Франции, и траттории в Италии, и харчевни в Швейцарии и Германии, и ты идешь к «Быку», «Мавру» или к «Звезде» – разве там найдешь что-либо подобное? Там вообще нет никакого вина, одни drinks,[23]23
Напитки (англ.).
[Закрыть] виски, ром, никакой тебе прохладной кружки эльзасского, тирольского или йоханнисбергского за дубовым столом в старинной пивной или под зарослями жимолости. Good heavens![24]24
Боже милостивый! (англ.).
[Закрыть] В Америке вообще не умеют жить.
Германия! Это его любимая страна, хотя здесь он еще не очень продвинулся и ознакомился вообще-то только с окрестностями Боденского озера и потом – тут, правда, досконально – с Рейнландом. Рейнланд, его симпатичные веселые жители, такие amiable,[25]25
Приветливый (англ.).
[Закрыть] особенно когда слегка «поддатые», его древне-почтенные, полные атмосферы города, Трир, Ахен, Кобленц, священный Кельн, – нет, вы просто попытайтесь назвать какой-нибудь американский город «священным» – holy Cansas City, ха-ха! Золото, охраняемое русалками с Missouri-River, ха-ха-ха – pardon me! О Дюссельдорфе и его долгой истории, начиная с Меровингов, он знал больше, чем Розалия и ее дети, вместе взятые, и, как настоящий профессор, рассказывал про мажордома Пипина, про Барбароссу, построившего императорский замок Риндхузен, про церковь салиев в Кайзерсверте, где короновали маленького Генриха IV, про Альберта фон Берга, Яна Веллема Палатинского.
Розалия заметила, что он может преподавать историю точно так же, как и английский. Ну что вы, спрос слишком маленький, ответил молодой человек. О, отнюдь, воскликнула она. Хоть сейчас, благодаря ему осознав, как мало знает, она сама, например, готова брать у него уроки. Но юноша признался, что он «а bit fainthearted»,[26]26
Немного робеет (англ.).
[Закрыть] и тогда она сформулировала результат наблюдения, проведенного в сочетании с чувством: жизнь устроена так странно и в известной степени обидно, что между молодостью и старостью царит робость. Молодость робеет старости, не ожидая от ее почтенности понимания незрелой жизни, а старость, всеми фибрами души восхищаясь молодостью именно как молодостью, робеет, считая, что достоинство предписывает скрывать это восхищение за насмешкой и ложной снисходительностью.
Кен с удовольствием и одобрением рассмеялся, Эдуард решил, что мама говорит как-то по-книжному, а Анна пристально в нее всмотрелась. Розалия не на шутку оживлялась в присутствии мистера Китона, даже, к сожалению, несколько возбуждалась; она часто приглашала его и, невзирая на то, что он говорил из-под руки «pardon те», смотрела на него с материнским сочувствием, каковое казалось Анне несколько сомнительным в аспекте материнства и не совсем комфортным, хоть, несмотря на европейские мечтания, страсть к датам вроде 700 г. н. э. и познания в сфере старинных дюссельдорфских пивных, дочь ничего в нем и не находила. Слишком часто, когда предстоял визит мистера Китона, фрау фон Тюммлер с нервозным беспокойством осведомлялась, не покраснел ли у нее нос. Краснел, хоть Анна, успокаивая, это отрицала. А если не краснел заранее, то в присутствии юноши просто пылал. Но тогда уже мать вроде бы об этом не думала.
Анна все поняла верно: Розалия потихоньку нежно растворялась в юном наставнике сына, не оказывая сопротивления стремительному вызреванию этой симпатии, возможно, даже толком не отдавая себе в ней отчета, по крайней мере не заботясь об удержании ее в тайне. Признаки, не ускользавшие от ее женского внимания, когда речь шла о других – воркующий и избыточно восхищенный смех во время болтовни Кена, задушевные взгляды, мечтательность сильнее заблестевших глаз, – у себя самой она словно вовсе не замечала, если только не упорствовала в своем чувстве, из гордости не собираясь его скрывать.
С очевидностью измученная Анна осознала положение вещей в один совсем по-летнему теплый сентябрьский вечер, когда Кен остался к ужину и после супа Эдуард по причине жары попросил позволения снять пиджак. В ответ прозвучало, что молодые люди никоим образом не должны стесняться, и Кен последовал примеру ученика. Его ничуть не смутило, что он в отличие от Эдуарда, сидевшего в пестрой рубашке с длинными рукавами и манжетами, надел пиджак прямо на белое безрукавное трико и теперь его руки оказались обнажены – весьма импозантные, круглые, сильные, белые молодые руки, заставлявшие поверить, что в колледже «athletics» шли у него так же хорошо, как и история. Он, несомненно, был далек от того, чтобы заметить потрясение, вызванное этим зрелищем у хозяйки дома, не обратил внимания и Эдуард. Но Анна смотрела на это потрясение с болью и жалостью. Розалия говорила и смеялась лихорадочно, то заливаясь румянцем, то пугающе бледнея, ее все время ускользающий взгляд после очередного бегства, влекомый неодолимой силой, возвращался к этим рукам, чтобы на несколько самозабвенных мгновений остановиться на них с выражением глубокой чувственной печали.
Анна, разозлившись на примитивную безобидность Кена, в которую даже не до конца верила, едва это можно стало мало-мальски оправдать, обратила внимание на все же ощутимую благодаря открытой стеклянной двери вечернюю прохладу и во избежание простуды порекомендовала снова надеть пиджаки. Но фрау фон Тюммлер завершила вечер почти сразу после ужина. Она сослалась на мигрень, несколько бегло простилась с гостем и удалилась к себе. Розалия вытянулась на оттоманке и, то закрывая лицо руками, то пряча его в подушке, раздавленная стыдом, ужасом и блаженством, призналась себе в своей страсти.
– Боже всемогущий, я ведь люблю его, люблю, как никогда не любила. Что же это такое? Ведь природа отправила меня в отставку, перевела в мягкое, почтенное состояние матрон. Ведь курам на смех, что в испуганных, блаженных мыслях я еще испытываю это вожделение, когда вижу его, вижу его божественные руки, объятий которых безумно жажду, ах, эта великолепная грудь, обтянутая трико, – я смотрела на нее со стоном и восторгом. Неужели я бесстыдная старуха? Нет, не бесстыдная, ибо в его присутствии мне стыдно, стыдно его молодости, я не знаю, как встретиться с ним, как посмотреть ему в глаза, в эти простые, приветливые мальчишеские глаза, не воспламеняющиеся в моем присутствии никаким горячим чувством. Но он ударил меня кнутом на здоровье, сам, ни о чем не подозревая, отутюжил меня и излупцевал, задал мне жару! И зачем только он рассказал об этом в своем юношеском умилении старинным народным обычаем? Теперь все мое существо постыдной сладостью переполняет, заливает мысль о пробуждающем ударе его кнута. Я вожделею его – разве я когда-нибудь так вожделела? Когда была молода, Тюммлер вожделел меня; я позволила этому случиться, поддалась на его ухаживания, вступила в брак с его представительностью, и мы удовлетворяли вожделение по его желанию. А теперь вожделею я, со своей стороны, сама, я положила на него глаз, как мужчина кладет глаз на выбранную им женщину, – это все годы, это все мой возраст и его молодость. Молодость, как женщина, а отношение к ней возраста мужское, но в своем жадном желании он не радуется, не уверен в себе; перед ее лицом, перед лицом всей природы возраст стыдится и робеет из-за собственной негодности. Ах, меня ждет много горя, ибо как я могу надеяться, что его согреет мое вожделение, а если и согреет, что он поддастся на мои ухаживания, как я поддалась на ухаживания Тюммлера! Он ведь не юная девушка, с такими-то крепкими руками, все, что угодно, только не это, он молодой мужчина, который сам желает вожделеть и, как говорят, имеет успех у женщин. Женщин у него здесь в городе будет сколько угодно. При мысли о ревности душа моя корчится и кричит. Он беседует по-английски у Луизы Пфингстен с Пемпельфортской улицы и у Лютценкирхен, Амелии Лютценкирхен, а ее муж, заводчик с кастрюлями – толстый, короткорукий и ленивый. Луиза слишком длинная, и у нее низко растут волосы, но ей всего тридцать восемь, и она умеет томно заводить глаза. Амелия чуть постарше и хороша собой, к несчастью, хороша собой, а толстяк предоставил ей полную свободу. Неужели же они лежат в его объятиях, или одна из них, скорее всего Амелия, а может, и длинная Луиза тоже – в объятиях, которых я жажду с таким пылом, к какому их глупые души вообще не способны? Неужели они млеют от его горячего дыхания, губ, рук, ласкающих их формы? У меня зубы скрежещут, мои не очень хорошие, так и не доделанные зубы, думая об этом, я скрежещу зубами. И формы у меня лучше, и ласки моих рук достойнее, чем у них, и какую нежность я дала бы ему, какую невыразимую преданность! Но они фонтан бьющий, а я иссякший, которому не пристала уже никакая ревность. Ревность, мучительная, изнуряющая, до скрежета зубовного! Разве на приеме в саду у Рольвагенов, этой вагонетки[27]27
Rollwagen – телега (нем.).
[Закрыть] и его жены, куда он тоже был приглашен, я своими глазами, которые видят всё, не видела быстрого обмена взглядами и улыбками между ним и Амелией, почти несомненно свидетельствующими о близости? Уже тогда сердце мне туго перехватило болью, но я не поняла, я не думала, что это ревность, поскольку не считала себя способной на нее. Но я способна, теперь я это понимаю и не отрицаю, я ликую, радуюсь своей боли, восхитительно дисгармонирующей с превращением тела. Анна говорит, душевное – только излучение телесного, и последнее лепит душу сообразно своему состоянию? Анна много чего знает, Анна вообще ничего не знает. Нет, я не хочу сказать, что она ничего не знает. Она страдала, бессмысленно любила и позорно страдала, поэтому кое-что ей известно. Но что душа вместе с телом переходит в покойное, почтенное состояние матрон, тут она ничего не знает, потому что не верит в чудо, не знает, что природа еще как может позволить душе расцвести и тогда, когда уже поздно, даже слишком поздно, – расцвести в любви, страстном вожделении и ревности, как я понимаю теперь в блаженной муке. Сара, дряхлая старуха, услышала у входа в шатер, что ей предстоит, и рассмеялась. Тогда разгневался на нее Господь и сказал: «Отчего это рассмеялась Сара?» Я, нет, я не собираюсь смеяться. Я хочу верить в чудо моей души и чувств, хочу преклониться перед природным чудом болезненной и постыдной душевной моей весны, и стыдиться мне можно лишь того, в какой форме явилась эта милость – позднее испытание…








