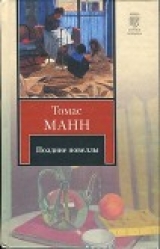
Текст книги "Поздние новеллы"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
Розалия улыбнулась сквозь слезы.
– Чтобы между телом и душой царило единодушие, не так ли? – печально усмехнулась она. – Мое дорогое дитя, как я пользуюсь, как злоупотребляю твоим умом, напрягаю его! Это неправильно с моей стороны, ибо я утомляю его напрасно. Материнство – это ведь примерно то же самое, что и Таунус… Я уже неясно выражаюсь? Я смертельно устала, в этом ты права. Благодарю, любимая, за твое терпение, твое участие! Благодарю и за то, что ты уважаешь Кена ради того, что именуешь моей привязанностью. Но не нужно его ненавидеть, как я возненавидела бы тебя, если бы ты его выпроводила! Он есть средство, которым воспользовалась природа, дабы сотворить с моей душой чудо.
Анна оставила ее. Прошла неделя, в течение которой Кен дважды ужинал у Тюммлеров. В первый раз присутствовала еще пожилая пара из Дуйсбурга, родственники Розалии: жена доводилась ей двоюродной сестрой. Анна, прекрасно понимая, что известные отношения и эмоциональная напряженность почти неизбежно излучают ощутимые флюиды как раз на совсем посторонних, пристально наблюдала за гостями. Она видела, как сестра пару раз с удивлением перевела взгляд с Китона на хозяйку дома, видела даже одну мужнину улыбку в усы. В тог же вечер она заметила и изменение в поведении Кена по отношению к матери – он теперь настраивал, переводил свои реакции в насмешливый регистр и не желал терпеть того, что Розалия, прилагая немалые усилия, делала вид, будто не уделяет ему никакого внимания, а заставлял ее обращаться к себе. Во второй раз больше не было никого. Фрау фон Тюммлер устроила для дочери вдохновленное тем с ней разговором фарсовое представление, в ходе которого высмеяла некоторые ее советы и одновременно поживилась на этом гротеске. В ходе беседы выяснилось, что Кен минувшей ночью как следует погулял с приятелями, студентом-художником и двумя сыновьями фабрикантов, до самого утра прокладывая маршрут, соединявший пункты дегустации местного пива «Альт», и соответственно пришел к Тюммлерам с тяжеленной головой – первосортным hang-over, как выразился Эдуард, который и разболтал историю. При прощании, когда все желали друг другу спокойной ночи, Розалия быстро, возбужденно-лукаво повернулась к дочери и не отвела от нее взгляда, даже дотронувшись до мочки уха молодого человека и обратив к нему следующие слова:
– А тебе, сынок, матушка Розалия устраивает хорошую выволочку и напоминает, что дом ее открыт людям добропорядочным, а не ночным гулякам и искалеченным пивом инвалидам, которые ни по-немецки уже толком изъясняться не могут, ни на ногах твердо стоять. Слышишь, бездельник? Изволь исправиться! Не водись с плохими мальчиками и впредь не губи здоровье! Так ты исправишься? Исправишься?
Она все дергала его за ухо, а Кен, несколько переигрывая, делал вид, что ему ужас как больно, и, обнажая красивые сверкающие зубы, корчился под ее легким нажимом с по-настоящему жалостливой гримаской. Лица их оказались близко-близко, и прямо в близкое лицо она еще добавила:
– А если опять напакостишь и не исправишься, шалун, я вышвырну тебя из города, понимаешь? Ушлю куда-нибудь в тихий Таунус, где хоть и очень красиво, но никаких соблазнов, и преподавай там себе английский крестьянским детям, сколько душе угодно. А теперь ступай и проспись от черного похмелья, негодник!
Она отпустила ухо, простилась с близостью его лица, еще раз с бледным лукавством взглянула на Анну и ушла.
А восемь дней спустя произошло нечто необычайное, в высшей степени поразившее, взволновавшее и смутившее Анну фон Тюммлер, – смутившее, поскольку она хоть и обрадовалась за мать, но точно не поняла, считать ли это подарком судьбы или бедой. В десять утра горничная попросила ее пройти к фрау. Поскольку семья завтракала по отдельности – сначала Эдуард, затем Анна, последней хозяйка дома, – то она еще не видела сегодня матери. Розалия лежала у себя в шезлонге, укрывшись легким кашемировым пледом, чуть бледная, но с покрасневшим носиком. Она кивнула прихрамывающей дочери с несколько жеманно-истомленной улыбкой, но ничего не сказала, предоставив той возможность задать вопрос:
– Что случилось, мама? Ты заболела?
– О, нет-нет, дитя мое, не беспокойся, это не болезнь. У меня было большое искушение не звать тебя, а прийти поздороваться самой. Но нужно немного поберечься, я должна побыть в покое, как рекомендуется нам, женщинам.
– Мама! Как понимать твои слова?
Тогда Розалия выпрямилась, закинула руки на шею дочери, потянула ее книзу на себя, к краю шезлонга, и быстро, блаженно, на одном дыхании, прижавшись щекой к лицу, прошептала прямо в ухо:
– Триумф, Анна, триумф, ко мне вернулось, вернулось после столь долгого перерыва, совершенно естественно, точно как полагается живой зрелой женщине! Дорогое дитя, какое чудо! Какие невероятные чудеса творит со мной великая, добрая природа, благословляя тем самым мою веру! Потому что я верила, Анна, и не смеялась, и за это добрая природа вознаградила меня, перечеркнула то, как вроде бы уже распорядилась моим телом, дала понять, что то была ошибка, и восстановила гармонию между душой и телом, но не так, как ты хотела. Нет, душа не покорилась телу, не позволила ему распоряжаться собой, не позволила, чтобы то перевело ее в почтенное состояние матрон, наоборот, наоборот, дитя мое, это душа явила себя хозяйкой телу. Поздравь меня, дорогая, ибо я так счастлива! Я снова женщина, снова целый человек, дееспособная женщина, я вправе чувствовать себя достойной мужской молодости, которая сотворила со мной такое, мне больше не нужно в бессилии опускать перед ней глаза. Она хлестнула меня кнутом на здоровье, он прошелся не только по душе, но и по телу, снова превратив его в бьющий фонтан. Поцелуй меня, бесценное мое дитя, назови меня счастливой, самой счастливой, потому что я самая счастливая, и восславь вместе со мной волшебную силу великой доброй природы!
Она снова откинулась и, самодовольно улыбаясь, закрыла глаза, а носик у нее совсем раскраснелся.
– Дорогая, чудная мама, – сказала Анна. Она была отнюдь не прочь разделить радость матери, и все же сердце у нее сжалось. – Это действительно великое, трогательное событие и показатель великолепия твоей природы, проявившегося уже в свежести чувства, а теперь еще и давшего ему такую власть над жизнью тела. Видишь, я совершенно с тобой согласна: произошедшее с тобой физически есть продукт душевного – твоего по-молодому сильного чувства. А что я когда-то сказала – не такой уж я филистер, чтобы не признавать за душевным никакой власти над телесным и в их взаимоотношениях оставлять решающее слово лишь за последним. Что они зависят друг от друга, я знаю хотя бы из природы и ее единства. То, в какой степени душа может поддаться состояниям тела и что она со своей стороны способна сделать с ним, часто граничит с чудесным, и твой тому пример – один из самых великолепных. И все же позволь мне сказать: это прекрасное, радостное событие, которым ты гордишься, – и по праву, разумеется, ты вправе гордиться, – на меня – ну, так уж я устроена – не производит того же впечатления, что на тебя. Мне кажется, оно мало что меняет, великолепная моя мама, и незначительно усиливает мое восхищение твоей природой… или природой вообще. У меня, хромой стареющей девушки, согласись, есть основания не придавать такого значения плотскому. Свежесть твоего чувства именно в противоречии с возрастными подготовлениями тела казалась мне достаточно великолепной, достаточным триумфом… Она казалась мне почти более чистой победой душевного, чем вот то, что неистребимость твоего духа стала событием органики.
– Лучше помолчи, бедное дитя. То, что ты называешь свежестью моего чувства и чем намерена умиляться, ты почти без обиняков объявила дурью, превращающей меня в посмешище, и посоветовала удовольствоваться старческой материнской долей, перевести мое чувство в материнское. Эй, для этого, пожалуй, все-таки еще рановато, тебе так не кажется теперь, Анхен? Природа против. Она сама занялась моим чувством и недвусмысленно заявила, что ему нечего стыдиться ни перед ней, ни перед цветущей молодостью, на которую оно направлено. И ты действительно хочешь сказать, что это ничего не меняет?
– Чего я точно не хочу, дорогая, замечательная мама, так это презреть слово природы. И меньше всего я намерена испортить тебе радость от ее декларации. Можешь мне не верить. Говоря, что произошедшее мало что меняет, я имела в виду внешнюю реальность, практическое, так сказать. Когда я советовала, когда от всей души желала тебе преодолеть себя, чтобы тебе было не трудно умирить чувство к молодому человеку – прости, что я так холодно о нем говорю, – словом, к нашему другу Китону до материнского, то надежда моя опиралась на тот факт, что он мог бы быть твоим сыном. А что касается этого факта, то все-таки ничего не изменилось – не правда ли? – он с неизбежностью будет определять ваши отношения с обеих сторон – и с твоей, и с его.
– И с его. Ты говоришь про обе стороны, но имеешь в виду только одну – его. Ты не допускаешь, что он может любить меня иначе, как лишь сыновней любовью?
– Я этого не говорила, дорогая, любимая мама.
– Да и где же тебе, Анна, верное мое дитя! Сама подумай, ведь у тебя нет права, нет в любовных делах необходимого авторитета. У тебя здесь не самый проницательный взгляд, поскольку ты рано отчаялась, душа моя, и отвернулась от этой сферы. Духовное заменило тебе естественное, и это хорошо, и дай Бог, это прекрасно. Но как же ты можешь судить и приговаривать меня к безнадежности? Ты не наблюдательна, не видишь того, что вижу я, не замечаешь признаков, говорящих за то, что его чувство готово пойти навстречу моему. Или ты готова утверждать, что он в такие минуты лишь играет мной? Или тебе приятнее считать его бессердечным наглецом, нежели позволить мне надежду на единение наших чувств? Что же в этом такого удивительного? При всей отдаленности от дел любовных тебе должно быть известно, что молодые люди очень часто предпочитают зрелую женственность неопытной юности, безмозглой курице. Возможно, тут играет роль неутоленная тоска по матери – как и наоборот, в страсть немолодой женщины к юному мужчине могут примешиваться материнские чувства. Да кому я это говорю? Сдается мне, ты сама недавно высказывала подобное.
– Правда? Во всяком случае, ты права, мама. Я вообще согласна со всем, что ты говоришь.
– Тогда ты не вправе приговаривать меня к безнадежности, да еще сегодня, когда природа признала мое чувство. Не вправе, несмотря на мои седые волосы, на которые ты, кажется, устремила взгляд. Да, к сожалению, я сильно поседела. Было ошибкой не начать их красить уже давно. Теперь я не могу покрасить их вдруг, хотя природа в известной степени и уполномочила меня. Но с лицом я кое-что могу сделать, не только массажем, а и некоторым количеством румян. Ведь вас, детей, это не оттолкнет?
– Как можно, мама. Эдуард вообще не заметит, если только ты подойдешь к делу тактично. А я… хотя считаю, что искусственность не вполне сочетается с твоим чувством природы, но, конечно, чуть-чуть помочь природе таким обычным способом – не грех против нее.
– Не правда ли? Ведь речь идет о том, чтобы тяга к материнскому не играла в чувствах Кена слишком большую, преобладающую роль. Это претит моей надежде. Да, милое, дорогое дитя, мое сердце – я знаю, ты не любишь говорить и слышать о «сердце», – но мое сердце переполняют гордость и радость, мысль о том, что я совсем иначе встречу его молодость, с совершенно иной верой в себя. Сердце твоей матери переполняет надежда на счастье и жизнь!
– Чудесно, дорогая мама! И как славно с твоей стороны, что ты позволяешь мне принимать участие в твоей радости!
Я разделяю ее, разделяю всей душой, ты не вправе усомниться в этом, не вправе, даже если я скажу, что к моей радости за тебя примешивается некоторое беспокойство – как это похоже на меня, не правда ли? – некоторое сомнение, практическое сомнение, повторю это слово, уже использованное мною за неимением лучшего. Ты говоришь о своей надежде, обо всем, что дает тебе на нее право, – я считаю, это прежде всего твоя замечательная личность. Но ты избегаешь более точного определения этой надежды, не говоришь мне, к чему же она стремится, на что нацелена в реальной жизни. Ты намерена еще раз выйти замуж? Сделать Кена Китона нашим отчимом? Предстать с ним перед алтарем? Возможно, это трусость с моей стороны, но поскольку разница в летах между вами равнозначна таковой между матерью и сыном, я опасаюсь некоторого недоумения, которое вызовет этот шаг.
Фрау фон Тюммлер вытаращила глаза.
– Нет, – ответила она, – эта мысль для меня нова, и, если это тебя успокоит, могу заверить, столь же и чужда. Нет, Анна, глупости, я не собираюсь приводить вам двадцатичетырехлетнего отчима. Как странно, что ты так негибко и набожно говоришь об «алтаре»!
На секунду закрыв глаза, Анна затем молча устремила взгляд в пустоту, мимо матери.
– Надежда, – продолжила та, – кто может определить ее, как ты того требуешь? Надежда и есть надежда, как же она может вопрошать самое себя о практических, как ты говоришь, целях? То, что сотворила со мной природа, прекрасно, и я жду от этого только прекрасного, но не могу тебе сказать, каким его себе представляю, как оно наступит, как воплотится и к чему приведет.
Губы Анны были слегка сжаты. Не разжимая их, она тихо, словно неохотно процедила:
– Довольно разумная мысль.
В замешательстве посмотрев на хромую, которая отвела взгляд, фрау фон Тюммлер попыталась прочитать по ее лицу.
– Анна! – глухо воскликнула она. – Что ты себе думаешь? Как ты себя ведешь? Позволь заметить, я совершенно не узнаю тебя! Скажи, кто из нас художник – ты или я? Никогда бы не подумала, что мать перегонит тебя в отсутствии предрассудков – и не только мать, но и само время с его более свободными нравами! В своем искусстве ты беспрестанно усердствуешь в новейшем и столь прогрессивна, что человек с такими простыми воззрениями, как у меня, поспевает за тобой с большим трудом. Но с точки зрения нравственности живешь будто бог знает когда, в допотопные времена, до войны. У нас ведь теперь республика, у нас теперь свобода, понятия очень изменились в сторону большей легкости, необременительности, это проявляется буквально во всем. Например, у молодежи сейчас считается хорошим тоном высовывать носовой платок, как знамя, целых полплатка (раньше-то из нагрудного кармана выглядывал лишь краешек), в этом видится несомненный знак и даже сознательная демонстрация республиканского послабления нравов. И Эдуард в соответствии с модой высовывает платок, и я смотрю на это с известным удовольствием.
– Очень тонкое наблюдение, мама. Но мне кажется, из этого твоего символического носового платка не стоит делать слишком личные выводы в отношении Эдуарда. Ты сама часто говоришь, что молодой человек – а он в общем-то уже молодой человек – много взял от нашего отца, подполковника. Может, с моей стороны не очень тактично наводить разговор и мысли на папу, и все же…
– Анна, ваш отец был блестящим офицером и пал на поле чести, но он был ловеласом, изменял мне до последнего, нагляднейший пример нечетких пределов мужской половой жизни, мне приходилось бесконечно закрывать на все глаза. Поэтому не могу считать особой бестактностью, что ты его упоминаешь.
– Тем лучше, мама… если можно так сказать. Но папа был дворянином, офицером и при всем том, что называешь его ветреностью, жил по понятиям чести, которые меня не особо касаются, но которые Эдуард, мне кажется, частично перенял. Он не только внешне – лицом и фигурой – похож на отца. В определенной ситуации он и реагировать невольно будет так же, как папа.
– То есть? В какой ситуации?
– Дорогая мама, позволь мне быть вполне откровенной, как мы всегда были друг с другом! Пожалуй, можно допустить, что твои отношения с Кеном Китоном, как они рисуются тебе в мечтах, останутся покрыты завесой мрака и неизвестны обществу. Однако я испытываю определенные сомнения, что при твоей прелестной импульсивности, твоей очаровательной неспособности притворяться и жить себе на уме это удастся. Но стоит какому-нибудь наглецу насмешливо намекнуть нашему Эдуарду, дать ему понять, что, дескать, всем известно, что мать его – ну, как это говорится – ведет свободный образ жизни, он поднимет на него руку, даст пощечину и кто знает, каких еще, с точки зрения полиции, непозволительных, опасного свойства глупостей не натворит из-за своей рыцарственности.
– Ради Бога, Анна, что ты выдумываешь! Ты пугаешь меня! Я понимаю, это беспокойство, но оно жестоко, твое беспокойство, жестоко, как приговор детей над матерью…
Розалия всплакнула. Анна, помогая матери осушить слезы, рукой, в которой та держала платок, с любовью водила по ее лицу.
– Дорогая, любимая мама, прости! Как мне не хочется причинять тебе боль! Но не надо… не говори о приговоре! Неужели ты полагаешь, что я не смогу относиться к тому, в чем ты нынче усматриваешь свое счастье… нет, не терпеливо, это все-таки звучит высокомерно – а с почтением и самой бережной нежностью? И Эдуард… даже не знаю, почему я заговорила о нем, это все его республиканский носовой платок. Однако речь не о нас и не об обществе. Речь о тебе, мама. Вот смотри, ты утверждаешь, что свободна от предрассудков. Но так ли это? Мы говорили о папе, об унаследованных представлениях, в которых он жил и которые, по его мнению, не страдали от его похождений, когда он тебе изменял. И то, что ты его все время прощала, проистекает оттого – пойми же наконец, – что по большому счету ты того же мнения, а именно понимаешь, что с настоящей распущенностью они не имели ничего общего. Для нее он не был рожден и душой к ней не расположен. И ты нет… уж коли на то пошло, белой вороной уродилась я, художница, но я по другим причинам не способна воспользоваться своей эмансипированностью и нравственной деградацией.
– Бедное мое дитя, – перебила ее фрау фон Тюммлер, – не говори о себе так печально!
– Как будто я вообще говорю о себе, – возразила Анна. – Я говорю о тебе, о тебе и сильно за тебя беспокоюсь. В твоем случае то, что для папы, бонвивана, являлось лишь удалью, не входившей ни в какое противоречие ни с ним самим, ни с суждением общества, действительно стало бы распущенностью. Гармония между телом и душой, разумеется, прекрасна, необходима, и ты горда и счастлива, поскольку природа – твоя природа – почти чудесным образом одарила тебя ею. Но гармония между жизнью и впитанными с молоком матери нравственными убеждениями в конце концов еще более необходима, и там, где она рушится, может выйти только крушение духа, а значит – несчастье. Тебе не кажется, что это так? Что, воплотив то, о чем ты мечтаешь, тебе придется жить наперекор самой себе? По большому счету ты так же, как и папа, связана определенными представлениями, и конец этой связи был бы равнозначен твоему собственному… Я говорю то, что с трепетом чувствую. Почему мне снова и снова приходит на ум это слово – конец? Помню, в своих страхах я уже однажды использовала его, а ощущала куда чаще. Почему меня не покидает чувство, будто эта напасть, счастливой жертвой которой ты стала, имеет что-то общее с концом? Хочу тебе кое в чем признаться. Недавно, пару недель назад, после нашей беседы за чаем, у меня, поздно вечером, когда ты была так возбуждена, у меня появилось искушение поговорить с доктором Оберлоскампом, который лечил Эдуарда, помнишь, у него была желтуха, и как-то раз (из-за воспаления горла я не могла глотать) меня – тебе-то врачи не нужны, – так вот, искушение поговорить с ним о тебе, обо всем, что ты мне открыла, только чтобы он успокоил меня на твой счет. Но потом я запретила себе, очень быстро запретила, из гордости, мама, ты поймешь, из своей гордости за тебя и из-за твоей гордости, поскольку мне показалось унизительным излагать твои переживания медику, которого с Божьей помощью хватает на желтуху и воспаление горла, но уж никак на глубокое человеческое страдание. Я придерживаюсь мнения, что существуют болезни, кои для докторов слишком хороши.
– Я благодарна тебе и за то, и за другое, дорогое мое дитя, – сказала Розалия, – за заботу, что навела тебя на мысль поговорить обо мне с доктором Оберлоскампом, и за то, что ты не поддалась этому импульсу. Да и возможно ли то, что ты называешь напастью, воскресение женственности, то, что душа сотворила с моим телом, хоть как-то связать с понятием болезни? Неужели же счастье – болезнь? Но оно и не легкомыслие, это жизнь, жизнь в блаженстве и страдании, жизнь в надежде – надежде, о которой я не могу предоставить твоему рассудку никаких сведений.
– Я и не требую их у тебя, дорогая мама.
– Тогда ступай, дитя мое. Я отдохну. Ты ведь знаешь, в такие почетные дни нам, женщинам, рекомендуется некое покойное уединение.
Анна поцеловала мать и, тяжело переставляя ногу, вышла из комнаты. Обеих женщин преследовали неотвязные мысли о недавнем осторожном разговоре. Анна не сказала, да и не могла сказать всего, что было у нее на сердце. Как надолго, раздумывала она, у матери то, что она величает «воскресением женственности», это трогательное возрождение? А Кен, если он уступит ей – что вполне вероятно, – как надолго и это? Ведь той, что поздно полюбила, придется трястись при виде каждой женщины помоложе, придется – с первого же дня – трястись за его верность, даже за уважение! Еще хорошо, что она понимает счастье не как чувственное и душевное благополучие, а как жизнь вместе с ее страданием. Ибо тому, о чем мечталось матери, как со страхом предвидела Анна, сопутствовало большое страдание.
Фрау же Розалия находилась под более сильным впечатлением от укоров дочери, чем позволяла себе в том признаться. Не столько от мысли, что Эдуард в соответствующей ситуации, отстаивая ее честь, может поставить под угрозу свою молодую жизнь, – данное романтическое представление, несмотря на то что она всплакнула, скорее заставило ее сердце биться сильнее. Но то, что Анна говорила о «свободе от предрассудков», о распущенности и необходимой гармонии между жизнью и нравственными убеждениями, держало добрую душу в напряжении весь ее покойный день, и она не могла не признать правоту этих сомнений, не могла не признать за воззрениями дочери большой доли истины. Правда, в неменьшей степени она не могла подавить и задушевнейшую радость при мысли о встрече с юным возлюбленным при таких новых обстоятельствах. Но фрау фон Тюммлер мучительно обдумывала слово умной дочери про жизнь-наперекор-себе, и душа ее трудилась над тем, чтобы в мысль о самоотречении вплести мысль о счастье. Да разве самоотречение и не может стать счастьем, если оно не жалкая необходимость, а совершается в свободе и сознании равноправия? Розалия пришла к выводу, что может.
Кен появился у Тюммлеров через три дня после ее громадного психологического утешения, почитал-поговорил по-английски с Эдуардом и остался к ужину. Счастье при виде его симпатичного молодого лица, красивых зубов, широких плеч и узких бедер светилось в милых глазах Розалии, и живой блеск оправдывал приподнятость, если можно так сказать, щек, достигнутую при помощи нанесения некоторого количества искусственного румянца, без которого бледность лица вошла бы в противоречие с этим радостным огнем. На сей раз и потом всякий раз, когда приходил Китон, все восемь дней, она здоровалась с ним следующим образом: брала за руку, притягивала к себе и при этом серьезно, светло и значительно смотрела в глаза, так что у Анны складывалось впечатление, будто мать испытывает огромное желание и вот-вот сообщит молодому человеку новости о своих взаимоотношениях с природой. Абсурдная боязнь! Само собой разумеется, ничего подобного не произошло, и хозяйку в ее обращении с гостем весь вечер не покидало устойчиво-задорное добродушие, позволившее с радостью забыть как о неискреннем материнстве, наигранном ею в устроенном тогда для дочери спектакле, так и о стыдливости и робкой, мучительной для всех покорности, что порой ее уродовала.
Китон, которому, к его удовольствию, давным-давно стало понятно, что в лице этой очаровательной, хоть и седовласой европейки он обрел поклонницу, никак не мог разобраться в произошедших с ней изменениях. Его почтительного к ней отношения, как несложно понять, в результате уяснения слабости Розалии поубавилось; но с другой стороны, слабость эта возбуждающе воздействовала на мужественность; его простота ощущала симпатическую тягу к ее простоте, и он находил, что такой молодой взгляд роскошных глаз вполне компенсирует пятьдесят лет и стареющие руки. Мысль вступить с ней в связь, подобную той, что он одно время поддерживал как раз не с Амелией Лютценкирхен или Луизой Пфингстен, а с другой женщиной из общества, о которой Розалия не догадалась, вовсе не отпугивала его, и, как заметила Анна, при общении с матерью своего ученика он – по крайней мере иногда – брал теперь вызывающе-флиртующую тональность.
Правда, тут доброму юноше как-то ничего толком не давалось. Несмотря на рукопожатие при встрече, когда она плотно притягивала его к себе, так что тела их почти соприкасались, несмотря на пристальный, глубокий взгляд, погружающийся в его глаза, во время таких экспериментов он наталкивался на доброжелательное, но решительное достоинство, возвращавшее его в отведенные ему границы; что бы он ни пытался возжечь, ничего не вспыхивало, и его поведение моментально трезвело до приниженности. Смысл всё повторяющихся опытов никак до него не доходил. «Так влюблена она в меня или нет?» – спрашивал он себя и приписывал сдержанность, одергивания присутствию детей – хромой и старшеклассника. Но дело обстояло точно так же и когда он на какое-то время оставался с ней с глазу на глаз в углу гостиной, точно так же и когда придавал своим осторожным атакам не шутливый, а, напротив, серьезный, нежный, настойчивый – страстный, так сказать, характер. Однажды со своим плавным нёбным «р», которое все так любили, он предпринял попытку несколько горячо назвать ее Розалией, что, по его домашним понятиям, подразумевало простое обращение и даже не являлось особенной смелостью. Но она, хоть на мгновение и залилась пунцовым румянцем, все-таки почти сразу же поднялась, ушла и в тот вечер не удостоила его более ни словом, ни взглядом.
Зима, которая в этом году не проявила особой свирепости и почти не принесла мороза и снега – зато тем больше дождя, – соответственно рано и закончилась. Уже в феврале выдались солнечно-прогретые дни, дышавшие весной. Повсюду на кустах дерзко вскакивали крошечные почки. Розалия, с любовью встретив в своем саду подснежники, получила возможность раньше обычного, почти преждевременно, порадоваться белоголовнику, а затем сразу и крокусу на коротком стебле, который пробивался в палисадниках особняков, в городском парке и перед которым, чтобы кивнуть друг другу и насладиться тесной пестротой, останавливались прохожие.
– Разве не странно, – говорила фрау фон Тюммлер дочери, – что он имеет такое сходство с безвременником? Ведь почти тот же самый цветок! Конец и начало – они так похожи, что недолго и спутать; при виде крокуса можно подумать, что осень, а глядя на прощальный цветок, поверить в весну.
– Да, действительно некоторая путаница, – отвечала Анна. – Твоя старая подруга, мать-природа, кажется, вообще имеет прелестную склонность к двусмысленности и мистификациям.
– У тебя тут же шпильки в ее адрес, злой ребенок; когда я восхищаюсь, ты насмехаешься. Оставь, тебе не отравить насмешкой мою нежность к ней, прекрасной природе, и уж меньше всего сейчас, когда она собирается воздвигнуть мое время года – я называю его своим, поскольку время нашего рождения нам особо родственно, как и мы ему. Ты дитя адвента и потому вправе сказать, что пришла под счастливой звездой – уже почти Рождественской звездой. Ты должна чувствовать симпатию к себе этого хоть и морозного, но по мысли столь прогретого радостью периода, должна чувствовать, что он к тебе благоволит. Поскольку, по моему опыту, мы и впрямь состоим в симпатических отношениях с явившим нас временем года. Его возвращение дает нашей жизни какую-то подпитку, поддержку, нечто обновляющее, как мне – весна, не просто потому что это весна, или, по выражению поэтов, пора пробуждения, всеми любимое время года, а потому что я лично связана с ней и у меня такое ощущение, что она улыбается мне персонально.
– Несомненно, улыбается, дорогая мама, – отвечало дитя зимы. – И позволь заверить тебя, на это у меня не найдется никакой шпильки.
Нужно, однако, сказать, что жизненный импульс, который Розалия привыкла получать – или думала, что привыкла, – от близости и расцветания «своего» времени года, именно когда она это говорила, был как-то не очень ощутим. Выходило почти так, будто внушенные ей разговором с дочерью твердые нравственные намерения, которым она столь строго следовала, шли наперекор ее природе, будто даже с ними – или как раз с ними – она «жила наперекор себе». Именно такое впечатление сложилось у Анны, и хромая девушка упрекала себя в том, что склонила мать к воздержанности, на чем вовсе не настаивало ее свободное мировоззрение, а что просто казалось ей необходимым исключительно для душевного спокойствия милой женщины. Более того, она подозревала низменные мотивы, в коих не признавалась даже себе. Однажды горестно тосковавшая по чувственному счастью, но никогда его не знавшая, она спрашивала себя, не желает ли тайно лишить его и мать и потому всякими надуманными аргументами удерживает ее на стезе добропорядочности. Нет, она не верила, будто способна на это, и все же то, что она наблюдала, омрачало и отягощало ее совесть.
Дочь видела, как во время своих любимых прогулок Розалия быстро уставала и сама, иногда под предлогом каких-нибудь хозяйственных дел, уже через полчаса, а то и раньше, просилась домой. Мать много отдыхала, но, хоть двигалась мало, теряла в весе, и Анна обеспокоенно смотрела на худобу ее плеч, когда они вдруг почему-нибудь оставались без одежды. В последнее время у нее никто не спросил бы, из какого источника живой воды она пила. Под глазами у нее тоже было неладно, синевато-устало, а румяна, накладываемые ею для молодого человека и в честь вновь обретенной полноценной женственности, едва ли вводили в заблуждение относительно желтоватой бледности лица. Но поскольку на вопросы о самочувствии она отвечала задорно-презрительным: «Ну что ты, у меня все хорошо», – фройляйн фон Тюммлер отклонила мысль занять доктора Оберлоскампа убывающим здоровьем матери. Принимая решение отказаться от этого, она находилась под воздействием не только чувства вины, но и пиетета – того самого пиетета, который подразумевала, говоря о том, что существуют болезни, коих для врачей слишком жалко.








