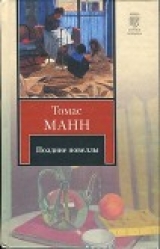
Текст книги "Поздние новеллы"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Моисей всегда был посреди них, то там, то сям, то в одном, то в другом стане, коренастый, с широко посаженными глазами и расплюснутым носом, он потрясал кулаками на широких запястьях и будоражил, привередничал, придирался, регулировал жизнь, ругал, судил и расчищал, всегда беря за точку отсчета незримость Бога, Яхве, который вывел их из Египта, чтобы взять Себе в народ и иметь в них святых людей, святых, как Он Сам. Пока они были не чем иным, как сбродом, что демонстрировали уже, опорожняя внутренности в стане, там, где приспичивало. Это был позор и непотребство. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить, ты меня понял? И должна быть у тебя лопатка, чем копать, когда будешь садиться; и потом зарой испражнение свое, ибо Господь, Бог твой, ходит по твоему стану, а посему он должен быть свят, то бишь чист, чтобы Он не зажал Себе носа и не отступил от тебя. Ибо святость начинается с опрятности, она и есть чистота в грубом смысле, суровое начало всякой чистоты. Ты понял, что я сказал, Ахиман, и ты, женщина Ноеминь? В следующий раз у каждого должна быть лопатка, или на вас снизойдет Ангел смерти!
Должен ты быть чист и много омываться водою живой для здоровья, ибо без него не будет ни чистоты, ни святости, болезнь не чиста. А если полагаешь, что хамство здоровее чистых нравов, то ты туп и поразит тебя желтуха, почечуй и проказа египетская. Не будешь блюсти чистоту, покроешься страшной черной коростой и зародыши язвы будут переходить с человека на человека. Учись различать между чистотою и нечистотою, иначе не устоишь пред Незримым, так и останешься хамом. Посему, если у мужа или жены проказа едкая, истечение из тела, короста или чесотка, они не чисты и не должны оставаться в стане, а извергнуты из него вон, отделены в нечистоте, как Господь отделил вас, дабы вы были чисты. И до чего тот дотронется, и на чем он возлежал, и седло, на котором он ездил верхом, должно быть сожжено. Если же он очистился в отдельности, должен отсчитать семь дней, действительно ли он чист, и как следует омыться водой, тогда может снова войти.
Различай, говорю я тебе, и будь свят пред Господом, иначе не можешь быть свят, каким хочу тебя видеть. Ты, как убеждаюсь, ешь все подряд, не думая о выборе и святости, это мерзость для меня. А ты должен одно есть, а другое не есть, иметь свою гордость и свое возгнушение. Всякий скот, у которого раздвоены копыта и который жует жвачку, можешь есть. Жующие же жвачку и имеющие копыта, но не раздвоенные, как верблюд, для вас не чисты, их вы есть не должны. Необходимо отметить, что добрый верблюд, будучи живою тварью Божией, не нечист, но в пищу не годится, так же, как и свинья, ее вы тоже есть не должны, ибо у нее хоть и раздвоены копыта, но она не жует жвачку. Посему различайте! Из всех, что в воде и у которых есть перья и чешуя, тех можете есть, но что шныряет в ней без оных, подобно порождениям саламандровым, это, хоть тоже от Бога, но как пища да будет вам скверной. Из птиц же гнушайтесь орла, коршуна, морского орла, грифа и им подобных. Сюда же относятся и все вороны, страус, ночная сова, кукушка, сычик, лебедь, филин, летучая мышь, выпь, аист, цапля, сойка, а также ласточка. Да, удода еще забыл, его также должно избегать. Кто же станет есть ласку, мышь, жабу или ежа? Кто же настолько груб, чтоб глотать ящериц, кротов, медяниц или еще что-нибудь, ползающее по земле и ерзающее на чреве? Но вы это делаете и ввергаете душу вашу в мерзость! Увижу еще раз, кто ест медяницу, разделаю так, что он больше ее есть не будет. Тот хотя и не умрет, и медяница не вредная, но отвратная, а вам многое должно быть отвратно. Посему не должны вы есть и падали, она к тому же еще и вредная.
Так он давал им предписания относительно еды и ограничивал их в вопросах питания, но не в них одних. Точно так же поступал он и в вопросах желания и любви, поскольку тут у них тоже все было наперекосяк, как у настоящего сброда. Не блуди, говорю я вам, ибо брак есть священная преграда. Но знаешь ли ты, что это значит – не блуди? Это с учетом святости Божией значит сотни ограничений, и не желать жены ближнего своего – самое меньшее. Потому как ты живешь во плоти, но присягнул Незримому, а брак есть воплощение всякой чистоты во плоти пред лицом Бога. Посему, просто как пример, не должно брать жену и в придачу еще мать. Сие не подобает. Никогда и ни за что не возлежи с сестрой, чтобы ты не увидел наготу ее и она твою, ибо это срам. Даже с теткой не должно возлежать, это не достойно ни тебя, ни ее, и должно сего отвращаться. Когда у жены болезнь ее, должно опасаться ее и не приближаться к источнику крови ее. Если с кем во сне случится непотребное, тот нечист будет до следующего вечера и надлежит ему как следует омыться водою.
Слышу, ты принуждаешь дочь свою ко блуду и принимаешь от нее блудные деньги? Не делай больше этого, если же станешь упорствовать, велю побить тебя камнями. С чего вдруг взбрело тебе в голову спать с мальчиком, как с женой? Это вздор и мерзость народам, и оба должны умереть смертью. Если же кто снесся со скотом, муж или жена, их должно совершенно истребить и умертвить совместно со скотом.
Только представить себе их оторопь ото всех этих ограничений! Сначала возникло чувство, что, если всему этому следовать, от радостей жизни почти ничего не останется. Он резцом откалывал от них целые куски, те разлетались в разные стороны, что нужно понимать вполне буквально, так как с карами, при помощи которых Моисей пресекал самые страшные преступления, шутить не приходилось, а за запретами стоял юный Йошуа и его ангелы смерти.
– Я Господь, Бог ваш, – говорил он, рискуя, что они и впрямь примут за Бога его самого, – который вывел вас из земли Египетской и отделил от народов. Посему и вы должны отделять чистое от нечистого и не блудить по примеру народов, а быть Мне святыми. Ибо Я, Господь, свят и отделил вас, дабы вы были Моими. Самое что ни на есть нечистое – радеть о каком-либо боге, кроме Меня, ибо Я зовусь ревнителем. Самое что ни на есть нечистое – делать себе изваяние, будет ли оно видом как муж или жена, вол или коршун, рыба или червь, ибо тем самым человек уже отступил от Меня, даже если изваяние призвано изображать Меня, и может спокойно спать с сестрой или со скотом, одно недалеко от другого и скоро проистечет из того. Берегитесь! Я посреди вас и вижу все. Станете блудить вослед кому из богов-животных или богов-мертвецов Египта, Я отплачу. Я погоню того в пустыню и отделю как выродка. Подобным же образом кто жертвует Молоху, о котором, как Мне хорошо известно, вы еще храните воспоминание, сожигая ему свою силу, тот есть зло, и зло поступлю Я с тем. Посему не проводи сына своего или дочь свою чрез огонь по глупому обычаю народов, не наблюдай за полетом ли, криком ли птиц, не перешептывайся с прорицателями, гадателями и ворожеями, не вопрошай мертвых, не чародействуй с именем Моим. Если кто жулик и с уст его во свидетельство сходит имя Мое, то сходит оно самым бесполезным образом, и Я пожру его. Делать нарезы, выстригать волосы над глазами и расцарапывать себе лицо по умершему – уже чародейство и мерзость народов, не потерплю этого.
Велика же была их оторопь! Даже траурные нарезы нельзя делать, даже немножечко татуировки. Поняли они, что такое незримость Бога. Быть в завете с Яхве великие означало ограничения; но поскольку за Моисеевыми запретами стоял Ангел смерти, а они не очень хотели, чтобы их изгоняли в пустыню, скоро то, что он запрещал, показалось им ужасным – сперва только из-за наказаний, последние же не преминули заклеймить как скверну сам поступок, при совершении которого становилось скверно и на душе, уж безо всякой мысли о наказании.
Обуздывай свое сердце, говорил он им, и не зарься на собственность другого, чтобы тебе хотелось его иметь, ибо легко доведешь себя до того, что возьмешь, посредством тайной ли кражи, что есть трусость, либо убив кого, что есть грубиянство. Яхве и я хотим, чтобы вы не были ни трусами, ни грубиянами, вы должны быть чем-то средним, а именно пристойными. Это хотя бы понятно? Воровство – ползучее зло, но если кто убьет, будь то из гнева или из алчности, или из алчного гнева, или из гневливой алчности, это вопиющее злодейство и кто совершит его, на того обращу лик Свой, так что не будет знать он, где скрыться ему. Ибо пролил он кровь, а кровь есть священная скверна и великая тайна, алтарное Мне возношение и выкуп. Не ешьте крови и мяса, когда оно в крови, ибо она Моя. А уж кто запачкан человеческою кровью, да изболит сердце того холодным ужасом, и стану Я гнать его, так что будет он бежать от самого себя на самый край света. Говорите на это «аминь»!
И они говорили «аминь», покамест в надежде, что под убийством подразумевается только умерщвление, к чему не очень многие имели склонность, ну, или изредка. Но выяснилось, что Яхве придает этому слову такой же обширный смысл, как и блуду, разумея под ним все, что угодно, так что убийство, убиение начинались очень скоро: стоило обидеть другого обманом, обвесом, к чему склонность имели почти все, уже лилась того кровь. Нельзя было нечестно торговать меж собой, против кого лжесвидетельствовать, нужно было пользоваться верной мерой, верной миной, верной ефой. Это являлось в высшей степени неестественным, и пока лишь естественный страх наказания придавал завету и запрету вид естественности.
То, что нужно почитать отца и мать, как того требовал Моисей, также имело более широкий смысл, нежели могло показаться на первый взгляд. Кто поднимал руку или ругался на произведших его на свет, – ну, уж с теми-то он разделается. Но почитание, оказывается, распространялось и на тех, кто лишь мог тебя породить. При виде седой головы тебе полагается встать, сложить руки крест-накрест и склонить свою глупую голову, ты меня понимаешь? Так хочет достоинство Божие. Единственным утешением служило, что, поскольку убивать ближнего было нельзя, имелся шанс тоже состариться и поседеть, чтоб уж другим приходилось перед тобой вставать.
Но напоследок оказалось, что старость – иносказание для старого вообще, для всего, что родилось не сегодня и не вчера, а пришло издалека, для благочестивого предания, обычая отцов. К такому нужно относиться с почтением и страхом Божиим. Почитай Мои праздники: день, когда Я вывел тебя из Египта, день опресноков и всегда день, в который Я почил от творения. Мой день, субботу, да не осквернишь ты трудовым потом, Я запрещаю тебе это! Ибо Я вывел тебя из египетского дома рабства, дланью сильною, рукою простертою, где ты был раб и тягловое животное, и день Мой да будет тебе свободным днем, празднуй его. Шесть дней да будешь ты пахарем или кузнецом, гончаром, медником или плотником, но в Мой день надень чистое платье и не будь ничем, кроме как человеком, и возведи очи твои к Незримому.
В земле Египетской ты был измученным рабом – помни об этом, обращаясь с теми, кто посреди тебя чужой, сыны Амалика, к примеру, которых Бог вручил тебе, не мучай их! Смотри на них, как на себя самого, и дай им те же права, иначе я тебе устрою, ибо они под защитой Яхве. И вообще не делай нахальной разницы между собой и другими, не думай, что ты только один и есть, что к тебе только все и сводится, а другой только кажется. Жизнь у вас общая, и дело случая лишь, что ты – не он. Посему возлюби не только себя, но возлюби и его и поступай с ним, как хотел бы, чтобы он поступал с тобой, если бы он был ты! И будьте любезны друг с другом, и целуйте друг другу при встрече кончики пальцев, и благовоспитанно кланяйтесь друг другу, и приветствуйте друг друга: «Будь здоров и невредим!» Поскольку не менее важно, чтобы другой был здоров, как и ты здоров. И хоть это всего лишь внешняя воспитанность, когда будете так поступать и целовать кончики пальцев, жест этот сообщит вам и в сердце немного из того, что должно в нем иметься по отношению к ближнему. Итак, говорите на всё это «аминь»!
И они говорили «аминь».
XVI
Правда, «аминь» мало что меняло – они говорили так просто потому, что Моисей был тем человеком, который с успехом вывел их из Египта, потопил колесницы фараона и выиграл битву за Кадес, и много времени прошло, прежде чем им в плоть и кровь более-менее, а может, только для вида вошло то, чему он их учил, что требовал, пределы, завет и запрет, и тяжелая то была работка, на что он там замахнулся – из толпы восставить Господу святой народ, чистый образ, который был бы тверд пред Незримым. В поте лица своего он трудился над ними в Кадесе, своей мастерской; широко посаженных глаз хватало на всех – он тесал, колол, формовал и разравнивал неподдающуюся глыбу с упорным терпением, с постоянной снисходительностью и частыми поблажками, с пылающим гневом и карающей неумолимостью, но все-таки нередко, когда плоть, над которой он работал, оказывалась такой строптивой, такой забывчиво-склонной к рецидиву, когда люди опять оставляли копание лопатками, ели медяниц, спали с сестрами, а то и со скотом, делали себе нарезы, сидели на корточках с прорицателями, потихоньку воровали или убивали друг друга, у него опускались руки.
– О, хамство, – говорил он им тогда, – вот увидите, внезапно восстанет на вас Господь и истребит.
А самому Господу говорил:
– Что делать мне с сей плотью, и почему Ты лишил меня милости Своей, что возлагаешь бремя, какое я не могу нести? Лучше выгребать конюшни, семь лет не видевшие лопаты и воды, лучше голыми руками валить джунгли для пашни, чем из этого вот создавать Тебе чистый образ. Да и как же мне нести народ сей на руках своих, будто я его родил? Я родствен ему лишь наполовину, со стороны отца. Посему, прошу Тебя, дай мне возрадоваться жизни и сними с меня поручение, а иначе лучше умертви!
Но Бог отвечал ему из нутра его таким ясным голосом, что он слышал ушами и упадал налицо свое:
– Именно поскольку ты родствен им наполовину, со стороны закопанного, ты тот человек, чтобы обработать их Мне и поставить их народом святым Моим. Ибо если бы ты был из среды их и полностью один из них, ты бы не видел их и не сумел бы за них взяться. Кроме того, это все лукавство, что ты передо Мной плачешься и хочешь отпроситься от трудов. Ты же прекрасно видишь, что уже действует, ты уже пробудил в них совесть, им скверно на душе, когда совершают скверное. Поэтому не прикидывайся передо Мной, будто сам не возжелал пылко своего мучения! Это Я возжелал, Бог возжелал того, что у тебя на сердце, без чего жизнь уже через несколько дней превратилась бы для тебя в мерзость, как манна для народа. Только если бы Я умертвил тебя, ты и впрямь мог бы избавиться от этого.
Это измученный понимал; лежа ниц, он кивал на слова Яхве и снова вставал на свою муку. Но измучен он был не только как ваятель народа, мука и скорби вторглись и в его семейную жизнь: тут из-за него вспыхнули раздражение, зависть и брань, и в хижине не стало мира – по его вине, если угодно, ибо его привязанности стали причиной раздоров; привязанности же породил труд, и связаны они были с одной ефиоплянкой, достопамятной ефиоплянкой.
Известно, что, кроме первой жены Сепфоры, матери своих сыновей, он жил тогда с ефиоплянкой, особой из земли Ефиопской, которая уже ребенком очутилась в Египте, жительствовала с родом в Гесеме и присоединилась к исходу. Она, несомненно, уже знавала мужчин, и тем не менее Моисей взял ее к себе под одеяло. Роскошный в своем роде экземпляр – грудь горой, перекатывающиеся глазные яблоки, пухлые губы, погружаться в которые при поцелуе, вероятно, было крайне увлекательно, и полная пряностью кожа. Моисея страшно тянуло к ней для разрядки, он не мог от нее оторваться, хоть ему и приходилось при этом выносить противоборство всего дома – не только мадианитянской жены своей Сепфоры и ее сыновей, но прежде всего молочной сестры Мариам и молочного брата Аарона. Сепфора-то как раз, обладающая изрядной долей размеренной светскости брата Иофора, еще худо-бедно мирилась с соперницей, особенно поскольку та таила свой женский триумф и держала себя по отношению к ней крайне раболепно; Сепфора относилась к ефиоплянке скорее с усмешкой, нежели с ненавистью, и с Моисеем в этом плане обращалась скорее иронично, нежели давала волю ревности. Сыновья же, Гирсам и Елиезер, входившие в вооруженное ополчение Йошуа, имели прочное чувство дисциплины, чтобы бунтовать против отца; по ним лишь видно было, что они злятся и стыдятся за него.
Совершенно иначе обстояло дело с Мариам, пророчицей, и Аароном, медоточивым. Их ненависть к ефиоплянке под одеялом была ядовитее, чем у остальных, поскольку в какой-то степени являлась выходом более глубинного и общего недоброжелательства, объединявшего их против Моисея. Они уже давно начали завидовать его тесной связи с Богом, духовному учительству, личной избранности для трудов, полагая, что он по большей части все навоображал, так как себя считали не хуже, даже лучше его и говорили меж собой: «Одному ли Моисею говорит Господь? Не говорит ли Он и нам? Кто такой этот человек Моисей, что так возвысился над нами?» Вот что лежало в основе их возмущения связью с ефиоплянкой, и всякий раз, когда они, к сожалению своего брата, принимались бранчливо осыпать его за страсть ночей упреками, последние становились лишь отправной точкой для дальнейших обвинений: скоро брат с сестрой переходили от упреков к чинимой им вследствие его величия несправедливости.
Так случилось однажды, ближе к вечеру, у него в хижине; они терзали его именно так, как я уже говорил, как они обыкновенно его терзали: ефиоплянка, ефиоплянка, опять ефиоплянка, и что он не может оторваться от ее черной груди, да какой это скандал, да какой срам для Сепфоры, его первой жены, да какое позорище для него самого, ведь он претендует быть правителем Божиим, единственным рупором Яхве на земле…
– Претендую? – переспросил он. – Что Господь возложил на меня, то я и есть. Но как же гнусно с вашей стороны, как страшно даже гнусно, что вы лишаете меня радости и разрядам на груди моей ефиоплянки! Ибо это не грех пред Богом, и среди всех запретов, которые Он мне дал, нет такого, что нельзя возлежать с ефиоплянкой. Мне об этом ничего не известно.
Ну конечно, сказали они, он выбирает запреты по своему вкусу и, считая себя единственным рупором Яхве, того и гляди скоро заявит, что прямо-таки заповедано возлежать с ефиоплянками. А при этом они, Мариам и Аарон, родные дети Амрама, потомка Левиина, а он в конце концов всего-навсего найденыш из тростника, ему следует немножко поучиться смирению, и то, что, несмотря на неприятности, он так уперся в эту ефиоплянку, свидетельствует лишь о его гордыне и превозношении.
– Кто же может что против своей призванности? – сказал он. – И кто же виноват, если набрел на горящий терновник? Мариам, я всегда высоко ценил твои прорицательские способности и никогда не отрицал, что ты прилично владеешь тимпаном…
– А почему ты тогда запретил мне мой гимн «Коньи всадник»? – спросила та. – И не позволил играть на тимпане пляшущим женщинам, потому что Бог якобы не разрешил своему воинству праздновать гибель египтян? Это было омерзительно с твоей стороны.
– А тебя, Аарон, – продолжил теснимый, – я назначил у скинии собрания первым священником и вверил тебе ковчег, ефод и Медного змея, чтобы ты смотрел за ними. Вот как я тебя ценю.
– Да куда уж меньше, – возразил Аарон, – потому что без моего красноречия ты при своей гугнивости никогда бы не обратил народ к Яхве и не склонил бы его к исходу. А человеком, который вывел нас из Египта, называешь себя. Но если ты нас ценишь и не превозносишься над родными братом и сестрой, почему тогда не слушаешь слов наших и ощетинился на предупреждение, что все племя подвергаешь опасности своей черной похотливостью? Ибо она прегорькая чаша для Сепфоры, мадианитянской жены твоей, и оскорбление для всего Мадиама; того и гляди, Иофор, тесть твой, еще пойдет на нас войной, и все из-за твоей черной прихоти.
– Иофор, – сохраняя отменное самообладание, ответил Моисей, – уравновешенный, опытный, светский человек, который, конечно, поймет, что Сепфора – да почтится имя ее! – не может больше предложить необходимой разрядки такому крайне измученному и тяжело обремененному поручением человеку, как я. А кожа моей ефиоплянки, как корица и гвоздичное масло в ноздрях моих, меня к ней тянет, и посему прошу вас, дорогие друзья, все же оставьте мне ее!
Куда там! Бранясь, они настоятельно потребовали, чтобы он не просто расстался с ефиоплянкой и преградил ей доступ под одеяло, но и изгнал вон без воды в пустыню.
Тогда сосуды гнева набухли, и Моисей принялся изо всех сил потрясать кулаками у бедер. Однако прежде чем он успел открыть рот, чтобы ответить, произошло совсем другое потрясение – вмешался Яхве, Он обратил лице Свое на жестокосердных брата и сестру и так порадел о рабе Своем, что они не забыли этого во всю жизнь. Произошло нечто ужасное и неслыханное.
XVII
Потряслись основы основ. Земля зашаталась, задрожала и заходила у них под ногами, так что не могли на них устоять и все трое закачались в шатре, опорные шесты которого будто выламывали гигантские кулаки. Но твердь кренилась не в одну только сторону, а каким-то совсем запутанным и головокружительным образом во все одновременно, так что настал ужас, а внутри у человека был при этом подземный гул и грохот, а сверху и снаружи словно трубный звук весьма сильный, а вдобавок еще другой гром, рокот и раскаты. Так странно и своеобразно-стыдно, когда только ты собрался вспыхнуть гневом, Господь снимает у тебя с языка и вспыхивает Сам – намного мощнее, чем мог бы ты, потрясая мир, тогда как ты мог потрясать лишь кулаками.
Моисей, тот еще меньше остальных побледнел от страха, поскольку всегда был настроен на Бога. Но вместе с бледными от страха Мариам и Аароном выскочил на улицу; и там они увидели, что земля разверзла пасть и рядом с шатром зияет огромная трещина, явно предназначенная для Мариам с Аароном – еще пара локтей, и обоих поглотила бы земля. И увидели: гора на востоке за пустыней, Хорив или Синай – о, что творилось с Хоривом, что делалось с горой Синай! Ее всю окутал дым и огонь, с отдаленным гулом толчков она извергала к небу раскаленные осколки, а по склонам стекали огненные ручьи. Чад, в котором сверкала гора, укутал звезды над пустыней, и над оазисом Кадес начинался медленный пепельный дождь.
Аарон и Мариам пали ниц, ибо замысленная для них пропасть весьма их ужаснула, а откровение Яхве на горе показало, что они зашли слишком далеко и говорили безрассудно. Аарон воскликнул:
– Ах, господин, эта женщина, сестра моя, молола гнусный вздор, но прими мое ходатайство и не поставь ей в грех, что она согрешила помазаннику Божию!
Мариам тоже кричала Моисею и говорила:
– Господин, нельзя говорить безрассуднее брата моего Аарона. Но прости ему и не поставь ему в грех, дабы не поглотил его Бог за то, что он столь несдержанно трунил над тобою с твоей ефиоплянкой!
Моисей был не вполне уверен, действительно ли явление Яхве относилось к брату с сестрой и их бессердечию или просто так совпало, что Бог именно сейчас воззвал к нему, дабы поговорить о народе и труде ваятеля, – поскольку подобных призывов ожидал ежечасно. Но он не стал разуверять их и ответил:
– Сами видите. Но наберитесь мужества, дети Амрамовы, я замолвлю за вас словечко наверху у Бога на горе, куда Он зовет меня. Ибо вам надлежит увидеть и народу надлежит увидеть, обессилел ли брат ваш от черного блудодейства или же в сердце его, как ни в чьем другом, живет мужество Божие. Я иду на огненную гору, совсем один, наверх к Богу, дабы внять Его мыслям и бесстрашно снестись с Грозным на «Ты», подальше от людей, но об их делах. Ибо давно уже знаю, что все, чему я учил вас ради вашего освящения пред Ним, Святым, Он желает выразить кратко и навечно-лаконично, чтобы я снес вам с Его горы, а народ хранил в скинии собрания вместе с ковчегом, ефодом и Медным змеем. Прощайте! Я могу и погибнуть в волнении Божием и в огне горы – вполне может быть, исключить нельзя. Но если вернусь, то снесу вам из Его грома навечно-лаконичное, закон Божий.
Это в самом деле являлось твердым его намерением, он решил осуществить его во что бы то ни стало. Ибо чтобы всю ораву, жестоковыйную, снова и снова впадающую в грехи свои, направить в русло благонравия Божиего и заставить страшиться заветов, не было более действенного средства, чем дерзнуть отправиться наверх одному-одинешеньку, в ужас Яхве, на низвергающуюся гору и спустить им оттуда диктат – тогда, думал он, они будут ему следовать. Потому, когда сбежались они со всех сторон к его хижине, трясясь в коленках из-за знамения и разламывающих землю содроганий, повторившихся слабее и раз, и два, он попенял им за вульгарную трясучку и вселил подобающую выдержку: Бог призывает его ради них, сказал он, и он идет к Яхве, наверх, на гору, и, если будет на то воля Божия, кое-что им принесет. Им же следует разойтись по домам и приготовиться к исходу: освятиться, вымыть свои одежды и не прикасаться к женам, ибо назавтра надлежит им выйти из Кадеса в пустыню, ближе к горе и разбить ему стан напротив горы и ждать там, когда он вернется со страшного свидания и, может быть, кое-что им принесет.
Так и произошло, или как-то примерно так. Ибо Моисей, по своему обыкновению, думал только о том, чтобы они вымыли одежды и не прикасались к женам; Йошуа же Нун, стратегически мыслящий юноша, думал о том, что еще необходимо для подобной народной прогулочки, и со своим ополчением позаботился обо всем насущном, что нужно было взять в пустыню из воды и пищи для тысяч людей; он позаботился даже о нарочной службе между Кадесом и станом в пустыне, у горы. Халева, своего заместителя, он с полицейским отрядом оставил в Кадесе с теми, кто не мог или не хотел уходить. А остальные на третий день, когда все было готово, с повозками и жертвенными животными вышли по направлению к горе – день пути и еще половина; там, еще на умеренном расстоянии от дымящегося пристанища Яхве, Йошуа провел им со всех сторон черту и от имени Моисея строго-настрого запретил восходить на гору, даже касаться подножия, ибо только учителю дозволено так близко подходить к Богу, кроме того, это смертельно опасно и кто дотронется до горы, того побьют камнями или застрелят из лука. Они легко с ним согласились, так как толпа не имеет ни малейшего желания слишком приближаться к Богу; для обычного человека гора выглядела какой угодно, только не привлекательной – ни днем, когда на ней в густой, пронзаемой молниями туче стоял Яхве, ни тем более ночью, когда облако это, а с ним и вся вершина пылали.
Йошуа был чрезвычайно горд мужеством Божиим своего господина, который в первый же день, на виду у всего народа, один, пеший, с дорожным посохом, запасшись лишь глиняной бутылью, парой булок и кой-каким инструментом – мотыгой, стамеской, лопатой и резцом, – отправился на гору. Юноша был очень горд ими счастлив тем впечатлением, которое подобная священная смелость должна была произвести на толпу. Но он еще и беспокоился за того, кому подобало всякое почитание, и очень просил его все-таки не подходить к Яхве слишком близко и остерегаться горячего расплавленного варева, стекавшего по склонам горы. В остальном, сказал он, время от времени он будет навещать его и посматривать, чтобы в необитаемости Божией учитель не нуждался ни в чем самом необходимом.
XVIII
Итак, Моисей с посохом пересек пустыню, устремив широко посаженные глаза на гору Божию, которая дымилась, как печь, и часто извергала огонь. Сформирована гора была своеобразно: с трещинами и сужениями по окружности, которые, казалось, делили ее на этажи и походили на ведущие вверх тропы, но то были не тропы, а именно уступы с желтыми задниками. На третий день призванный добрался по предгорью до труднопроходимого подножия и, ставя перед собой зажатый в кулаке дорожный посох, начал восхождение; он поднимался, не разбирая дороги, продираясь через почерневшие, ошпаренные кусты, много часов, шаг за шагом, все выше к близости Божией, до черты, что только возможна человеку, поскольку мало-помалу от наполнявших воздух испарений с запахом серы и горячих металлов у него сперло дыхание и его скрутил кашель. Но он дошел до верхнего сужения и террасы под самой вершиной, откуда в обе стороны открывался широкий вид на голую, дикую горную гряду и дальше, на пустыню, до самого Кадеса. В самом низу, поближе, виднелась и черта для народа.
Здесь Моисей, не переставая кашлять, нашел в поверхности горы пещеру с выступающей скалистой крышей, которая могла защитить его от извергаемых обломков и текущего варева: в ней он оборудовал себе жилище и устроился, чтобы после короткой передышки приняться за работу, которую повелел ему исполнить Бог и которая с учетом осложняющих обстоятельств – ибо металлические испарения давили и давили ему на грудь и даже воде придавали серный привкус – задержала его здесь не меньше, чем на сорок дней и сорок ночей.
Почему так долго? Пустой вопрос! Навечно-лаконичное, заветно-заповедное, лапидарный Божий нравственный закон нужно было закрепить и высечь в камне горы Божией, дабы Моисей снес его за черту колеблющемуся народу, крови своего закопанного отца, где они ждали его, дабы закон этот стоял в них из рода в род, непреложный, высеченный и в их умах, в их плоти и крови – квинтэссенция человеческого достоинства. Бог громко из груди его повелел ему вырубить из горы две доски и записать на них предписания, пять слов на одной и пять на другой, всего десятисловие. Изготовить доски, разровнять их, превратить в более-менее пристойные носители навечно-лаконичного – это не пустяк; для одинокого человека, пусть он и пил молоко дочери каменотеса и имел широкие запястья, то была работка, которая во многих отношениях поначалу не давалась, которая уже одна отняла четвертую часть сорока дней. Но написание явилось проблемой, при решении которой число Моисеевых горных дней могло легко перевалить за сорок.
Ибо как же писать? В фиванском интернате он обучился как цветистому идеографическому письму Египта вместе с его будничным оскопленным вариантом, так и клиносакральному нагромождению треугольничков Евфрата, при помощи которого цари мира обменивались мыслями на глиняных черепках. Кроме того, у мадианитян он познакомился еще с третьим видом многозначащего волхвования, распространенным в Синайской земле, – из глазков, крестиков, жучков, дужек и различной формы змеевидных линий, который был подсмотрен у египтян с неуклюжестью пустыни, но знаки которого обозначали не целые слова и идеи вещей, а только части таковых, открытые слоги, что нужно было прочитывать вместе. Ни одна из этих трех метод закрепления мыслей никак ему не годилась – по той простой причине, что каждая была привязана к тому языку, смыслы которого отражала, и поскольку Моисею было совершенно ясно, что ни за что и никогда не запечатлеть в камне диктат-десятисловие ни на вавилонском языке, ни на египетском, да и на синайско-бедуинском жаргоне тоже. Это можно и нужно было сделать только на языке крови отца, на говоре, которым они пользовались, на котором Моисей нравственно их обрабатывал – всё равно, смогут они его прочесть или нет. Да и куда ж им читать, когда и написать-то еще было нельзя, когда способа многозначащего волхвования с их речью просто-напросто не имелось под рукой?








