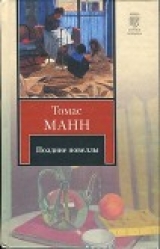
Текст книги "Поздние новеллы"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
Тем больше порадовали Анну веселая предприимчивость, вера в свои силы, которые как-то вечером за вином Розалия продемонстрировала во время обсуждения незначительного вопроса при участии детей и Кена Китона, как раз бывшего у них. Не прошло еще и месяца с тех пор, как мать призвала Анну к себе для чудесного сообщения. В тот вечер Розалия была мила, бодра, как в старые добрые времена, и могла считаться инициатором прогулки, совершить которую и порешили, – если не приписывать данную заслугу Китону, наведшему на эту мысль своей исторической болтовней. Он говорил о разных часто посещаемых им замках и крепостях Бергишес-Ланда, о замке на Вуппере, о Бенсберге, Эресхофене, Гимборне, Хомбурге и Кротторфе, потом перешел к курфюрсту Карлу Теодору, в восемнадцатом веке перенесшему двор подальше от Дюссельдорфа, в Шветцинген, а затем и в Мюнхен, что не помешало его наместнику, некоему графу Гольштайнскому, тогда же поставить и обустроить здесь всяческие сады-парки-постройки, и немалого значения: при нем возникли Академия художеств курфюрста, первый городской парк, замок Егерхоф и – прибавил Эдуард, – насколько ему известно, примерно в то же время еще и несколько удаленный замок Хольтерхоф возле одноименной деревни к югу от города. Разумеется, и Хольтерхоф, подтвердил Китон, но затем, к своему собственному изумлению, должен был признаться, что как раз данное произведение позднего рококо никогда не видел, как не бывал и в относящемся к нему, раскинувшемся до самого Рейна парке, сколь тот ни знаменит. Фрау фон Тюммлер и Анна, правда, пару раз там бродили, но, подобно Эдуарду, тоже не удосужились осмотреть интерьер прелестно расположенного замка.
– Подумать, и ведь чего только не бывает! – с шутливым упреком воскликнула хозяйка дома.
Переход на диалект всегда служил у нее признаком приподнятого расположения духа и довольства. Хороши дюссельдорфцы, прибавила она, все четверо! Один вообще не был, а остальные не видели апартаментов этой жемчужины среди замков, куда непременно заглянет всякий приезжий.
– Дети, – воскликнула она, – так не может продолжаться! Неужели же тем всё и кончится! Вперед, на прогулку в Хольтерхоф, коли уж мы собрались сегодня вместе, в ближайшие же дни! Сейчас так хорошо, такое чудное время года, барометр стоит на «ясно». Парк расцветает, по весне он наверняка прелестнее, чем в летнюю духоту, когда мы гуляли там с Анной. Я вдруг сейчас с такой тоской припомнила черных лебедей, столь меланхолично-высокомерно скользящих по глади водяного рва в парке, – помнишь, Анна? – красные клювы, перепончатые лапки. Как ловко они прятали свой аппетит под маской снисходительности, когда мы их кормили! Обязательно возьмем им белого хлеба… Погодите, сегодня пятница – в воскресенье и едем, договорились? Эдуард, да, пожалуй, и мистер Китон могут только в воскресенье. Правда, будет многолюдно, но мне это не мешает, я люблю толпиться вместе с разряженными людьми и получаю удовольствие вместе с получающими удовольствие, люблю быть там, где что-то происходит, – на народных празднествах под Оберкасселем, когда пахнет выпечкой с салом, дети сосут красные сахарные палочки, а перед цирковым шатром бренчат, дудят, верещат такие фантастически-заурядные люди. По-моему, это волшебно. Анна считает иначе. Ей это представляется печальным. Нет, Анна, представляется, ты больше за благородную печаль черных лебедей в водяном рву… Да вот, кстати, дети, поедемте по воде! Переправляться по суше, на трамвае слишком уж скучно. Ни тебе кусочка леса, ни широкого поля. По воде веселее, нас понесет батюшка Рейн. Эдуард, посмотришь расписание пароходного общества? Или погоди, коли уж организовывать все как следует, то раскошелимся, наймем моторную лодку и поплывем вверх по Рейну. Тогда мы будем одни, совсем как черные лебеди… Вопрос только, двинемся до или после обеда?..
Решили с утра. Эдуард вроде бы слышал, что в послеобеденное время замок открыт для посещения всего пару часов. Значит, утром в воскресенье. Под энергичным напором Розалии договорились быстро и четко. Фрахт моторной лодки поручили Китону. Встретиться условились послезавтра в девять у часов с футштоком на Ратушной набережной, возле причала.
Там и встретились. Утро выдалось солнечным и довольно ветреным. На набережной столпилось множество неугомонной публики, с детьми и велосипедами ожидавшей, когда можно будет подняться на один из белых пароходов кельнско-дюссельдорфского маршрута. Моторная лодка Тюммлеров и их компаньона стояла наготове. Рулевой, мужчина с кольцами в ушах, выбритой верхней губой и рыжеватой шкиперской бородкой, помог дамам взойти на борт. Едва гости уселись на круглой скамье под закрепленным на шестах навесом, отчалили. Лодка шла на хорошей скорости против течения широкой реки, берега которой, впрочем, отличались значительной будничностью. Позади остались старая замковая башня, изогнутая колокольня Ламбертускирхе, портовые доки города. За ближайшей излучиной аналогичные строения показались в еще большем количестве – склады, фабричные здания. За вклинивающимся в реку с берега каменным молом местность постепенно приобрела все более сельский характер. Дамбы укрывали селения, старинные рыбацкие деревни, названия которых были известны Эдуарду и даже Китону, а за ними простирался равнинный ландшафт-луга, поля, ивовые заросли и заводи. Разнообразия, судя по всему, не приходилось ожидать все полтора часа, вплоть до цели назначения, хотя течение часто меняло направление. Но как же хорошо, воскликнула Розалия, что все-таки выбрали лодку, а не путь за полушку времени по ужасным дорогам предместья! Казалось, фрау фон Тюммлер получает душевнейшее удовольствие от элементарного очарования водной прогулки. С закрытыми глазами прямо в лицо иногда ураганному даже ветру она вполголоса напевала что-то радостное: «Как люблю я тебя, речной ветерок. Полюби же меня, речной ветерок». Сузившееся лицо под фетровой шляпкой с пером было прелестно, а легкое клетчатое красно-серое пальто с широким отложным воротником удивительно ей шло. Пальто захватили в поездку и Анна с Эдуардом; только Китон, сидевший между матерью и дочерью, удовольствовался серым шерстяным свитером под мягким пиджаком. Из нагрудного кармана свисала значительная часть носового платка, и Розалия, вдруг резко обернувшись и открыв глаза, засунула его поглубже.
– Чинно, чинно, молодой человек! – сказала она, с упреком покачав головой.
Тот улыбнулся:
– Thank you,[34]34
Спасибо (англ.).
[Закрыть] – и захотел узнать, что это за song,[35]35
Песня (англ.).
[Закрыть] которую они только что слышали.
– Song? – переспросила она. – Разве я пела? Да это так, напевчик, а не song. – И вот уже опять, закрыв глаза и едва шевеля губами, замурлыкала: – Как люблю я тебя, речной ветерок.
Затем под шум мотора она много говорила, часто вынужденная придерживать шляпку, которую ветер все срывал с густых еще, волнистых волос, рассуждала, как было бы славно поплыть дальше по Рейну через Хольтерхоф к Леверкузену и Кельну, а потом и до Бонна, Годесберга, Бад-Хоннефа, к подножию Семигорья. Там так красиво, у Рейна посреди виноградников и фруктовых деревьев нарядный курорт и есть углекислый соляно-щелочной источник, очень хорошо от ревматизма. Анна посмотрела на мать. Она знала, что та теперь иногда страдает болями в пояснице, и порой обсуждала с ней возможность поездки в начале лета на курорт в Годесберг или Хоннеф. Этот несколько запыхавшийся разговор в ветер о прекрасном углекислом источнике имел нечто непроизвольное и навел Анну на мысль, что мать и сейчас не вполне свободна от неприятных тянущих ощущений.
Через час позавтракали булочками с ветчиной, запивая их портвейном из маленьких дорожных стаканчиков. В половине одиннадцатого лодка пристала к легкому, непригодному для больших судов причалу, построенному у реки совсем недалеко от замка и парка. Розалия расплатилась с моряком, так как обратный путь из соображений удобства решено было проделать все-таки по суше, трамваем. Парк тянулся не до самой реки. Им предстояло еще пройти по довольно влажной луговой тропинке, их приняла старинная барственная природа, ухоженная, подрезанная. От искусственной насыпи со скамейками для отдыха в тисовых нишах в разные стороны отходили аллеи роскошных деревьев, уже почти сплошь усыпанных почками, хотя иной побег еще скрывался за блестящей коричневой защитной кожицей, – аккуратно посыпанные гравием дорожки, часто под зеленым сводом, между буками, липами, каштанами, высокоствольными вязами, тисовыми деревьями, порой стоящими даже в четыре ряда. То и дело попадались редкие экземпляры, стоявшие на лугу отдельно, – чужеземные хвойные, папоротниколистные буки, а Китон узнал даже калифорнийскую секвойю и таксодиум с мягкими воздушными корнями.
Розалия не выказала никакого интереса к этим достопримечательностям. Природа, заявила она, должна быть родной, иначе она ничего не говорит душе. Но казалось, вся парковая роскошь вообще не особо затрагивала ее чувство природы. Лишь изредка поднимая взгляд на гордые стволы, она молча шагала подле Эдуарда позади его молодого учителя английского и хромающей Анны, коей, кстати, определенным маневром удалось изменить эту расстановку. Притормозив, она подозвала брата узнать названия деревьев, вдоль которых они шли, а также извилистой тропинки, пересекавшей аллею (поскольку все тропинки имели старинные названия вроде «Веерной», «Трубной» и тому подобное). Двинувшись дальше, Анна удержала Эдуарда при себе, оставив Кена и Розалию позади. Тот нес снятое дамой пальто, так как в парке было безветренно и намного теплее, чем на воде. Весеннее солнце мягко светило сквозь высокие ветви, обрызгивало дорожки и играло на заблестевших лицах.
Фрау фон Тюммлер в хорошо сшитом костюме – жакете и юбке, плотно облегающих по-юношески стройную фигуру – шла сбоку от Кена и время от времени украдкой бросала улыбающийся взгляд на свое пальто, переброшенное через руку спутника.
– Вот и они! – воскликнула она, имея в виду пару черных лебедей, поскольку путешественники вышли ко рву, окаймленному серебристыми тополями, и при приближении посетителей птицы по несколько илистой воде умеренно торопливо подплыли к берегу. – Какие же красивые! Узнаешь, Анна? Какой величественный изгиб шеи! А где их хлеб?
Китон вытащил из кармана завернутый в газетную бумагу хлеб и протянул ей. Куски прогрелись от его тела, и она, отломив, съела хлеба.
– But it is old and hard![36]36
Но он старый, черствый! (англ.).
[Закрыть] – воскликнул он, подняв руку, однако слишком поздно для того, чтобы ее остановить.
– У меня хорошие зубы, – возразила фрау фон Тюммлер.
Но тут один из лебедей, подплыв почти к самому берегу, взмахнув и забив темными крылами по воздуху, вытянул шею и гневно зашипел. Сперва немного испугавшись, над его жадностью посмеялись. Потом птицы получили свое. Розалия все бросала и бросала им черствые крошки, и они принимали их с достоинством, без излишней торопливости плавая в разные стороны.
– Все-таки, боюсь, он так просто не забудет тебе кражу его корма, – двинувшись дальше, сказала Анна. – Он все время подчеркивал эту свою благородную обиду.
– Ну что ты, – ответила Розалия. – Только на секунду испугался, что я съем у него все. Тем вкуснее должно было ему показаться то, чем я полакомилась.
Они подошли к замку, отражавшемуся в сверкающем искусственном круглом пруду с островком сбоку, где стоял один-единственный тополь. На посыпанной гравием площадке перед лестницей памятника архитектуры со слегка скругленной линией крыши, внушительные размеры которого, казалось, растворялись в грациозности, – розовый фасад, правда, крошился, – стояли люди, которые в ожидании одиннадцатичасовой экскурсии убивали время, сравнивая с данными своих карманных изданий фигуры на тимпане с гербом, над ним – ангела с позабывшими время часами, над высокими белыми дверями – каменную цветочную вязь. Наши друзья присоединились к ним и тоже принялись рассматривать прелестный декор феодальной архитектуры вплоть до oeils-de-boeuf[37]37
Овальные окна (фр.).
[Закрыть] мансардного этажа цвета маренго. На карнизе по бокам глубоко врезанных в крышу окон стояли по-мифологически легко одетые фигуры – Пан со своими нимфами, обшарпанными, как и четыре льва из песчаника со скорбными мордами, которые, скрестив лапы, фланкировали лестницу и рампу.
Китона охватил исторический восторг. Он нашел все «splendid» и «excitingly continental». О dear,[38]38
Великолепным, восхитительно континентальным. Боже мой! (англ.).
[Закрыть] вспомнить только его прозаическую родину! Там не увидишь ничего рассыпающегося в аристократическом изяществе, по причине нехватки курфюрстов и ландграфов, которые, к чести собственной и к чести культуры, имели возможность суверенно потакать своей страсти к роскоши. Впрочем, он все-таки повел себя довольно дерзко по отношению к почтенно застывшей во времени культуре, для увеселения ожидающих ловко взобравшись на спину караульному льву, хотя там был острый колышек, как бывает на игрушечных лошадках, откуда можно снимать всадника. Китон ухватился за него обеими руками, выкрикивая «Hi! On, old chap!»[39]39
Эй! Пошел старина!
[Закрыть] и делая вид, будто пришпоривает зверя; в своем задоре он и впрямь не мог явить собой более симпатичного и молодого зрелища. Анна с Эдуардом старались не смотреть на мать.
Тут заскрипели засовы, и Китон поторопился слезть со скакуна, поскольку кастелян, мужчина с пустым закатанным левым рукавом и в военного образца брюках, судя по всему, пострадавший на войне унтер-офицер, утешенный этой мирной должностью, распахнул створку двери центрального портала и открыл доступ в замок. Он встал в высоком проеме, пропуская публику и выдавая входные билеты, которые умудрялся еще надрывать единственной рукой. При этом он принялся говорить, принялся с перекошенным ртом сиплым, севшим голосом произносить заученные наизусть и сотни раз повторенные слова: что пластический декор фасада выполнен скульптором, выписанным из Рима лично курфюрстом, что замок и парк являются произведением французского зодчего, что речь идет о самом значительном на Рейне памятнике рококо, демонстрирующем, правда, уже переход к стилю Людовика XVI, что в замке насчитывается пятьдесят пять жилых помещений, что обошелся он в восемьсот тысяч талеров, – и так далее.
Вестибюль дохнул затхлым холодом. Там стояли наготове большие, похожие на лодки войлочные шлепанцы, куда под всеобщее дамское хихиканье пришлось влезть, дабы пощадить ценный паркет, действительно составлявший почти единственную достопримечательность гостиных и салонов, по которым, неуклюже шаркая и скользя, посетители проследовали за одноруким докладчиком. Интарсии с различными от помещения к помещению узорами образовывали в центре всевозможных родов звездчатые формы и цветочные фантазии. Их блеск подобно тихой воде впитывал тени людей, роскошной гнутой мебели, а высокие зеркала между золотыми, увитыми гирляндами колоннами и натянутые на золотых рейках шелковые полотнища в цветочек всё перебрасывали друг другу отражения хрустальных люстр, нежной потолочной живописи, медальонов, охотничьих и музыкальных эмблем и, несмотря на отдельные слепые пятна, еще будили иллюзию непредсказуемости и необозримости разбегающегося пространства. Неподотчетная роскошь, безусловная воля к наслаждению явствовали из неумолчно журчащего изящества и позолоченной витиеватости, связанных, удержанных лишь нерушимым стилем породившей их эпохи. В круглом банкетном зале, где в нишах по кругу стояли Аполлон и музы, интарсии паркета превратились в мрамор, подобный тому, что облицовывал стены. Розовые амуры раздвигали нарисованный занавес купольного отверстия, сквозь которое падал дневной свет и с галереи которого, как доложил замковый страж, к участникам застолья некогда слетала музыка.
Кен Китон вел фрау фон Тюммлер под локоть. Так своих дам переводят через улицу все американцы. Отдалившись от Анны и Эдуарда, среди незнакомых людей, они держались за педелем, который сипло, на деревянно-книжном немецком разматывал свой текст, сообщая людям, что они видят. А видели они, как утверждалось, не все, что тут имеется. Из пятидесяти пяти помещений замка, доложил экскурсовод и в соответствии с шаблоном подпустил немного деревянной двусмысленности, причем лицо его с перекошенным ртом ничуть не поддалось шутливости слов, – далеко не все явлены взорам. Тогдашнее общество не чуралось игривого, потаенного, сокрытого, тайников где-нибудь на задворках, предоставляющих известные возможности укромных уголков, доступных при помощи механических затей, как, например, вот эта. И он подошел к стенному зеркалу, которое, покорившись нажатой пружинке, отъехало, неожиданно открыв вид на винтовую лестницу с резными перилами. У подножия ее, сразу слева, на постаменте стоял безрукий торс мужчины в три четверти; в венке из ягод в волосах и обмотанный не подлинным уже лиственным плетением, он, чуть запрокинув туловище и склонив голову, подобно Приапу, приглашал к себе, улыбаясь над козлиной бородкой в пустоту. Послышались «Эге!» и «Ого!». «И так далее», – сказал гид, как говорил всякий раз, и вернул зеркало-загадку на место. «Или вот еще… – Он прошел чуть дальше и устроил так, что за оказавшимся потайной дверью фрагментом шелковой драпировки, где было ничего не разглядеть, открылся ведущий в неизвестность коридор, откуда хлынул затхлый запах. – Это они любили, – сказал однорукий. – Другие времена, другие нравы», – добавил он затем с нравоучительной бессодержательностью и продолжил экскурсию.
Войлочные лодки нелегко было удержать на ногах. Фрау фон Тюммлер одну потеряла; она как-то соскользнула на гладком полу, и, пока Китон с улыбкой ловил ее и, опустившись на колени, надевал, группа их обогнала. Он снова подхватил спутницу под локоть, но она с мечтательной улыбкой остановилась, обернулась на то, что исчезало в анфиладе покоев, и, развернувшись – Китон все еще поддерживал ее под руку, – принялась торопливо обшаривать драпировку в том месте, где она открывалась.
– You aren’t doing it right, – прошептал американец. – Leave it to me. ‘t was here.[40]40
Вы не там нажимаете. Позвольте мне. Вот здесь (англ.).
[Закрыть]
Он нашел пружинку, дверь подчинилась, и их принял затхлый воздух потайного хода, куда они прошли на несколько шагов. Вокруг было темно. Со вздохом, исходящим из самых последних глубин, Розалия обвила руками шею юноши, а он обрадованно обхватил ее трепещущий стан.
– Кен, Кен, – бормотала она, вжимаясь ему лицом в шею, – я люблю тебя, ты это знаешь – ведь правда? – я не умела скрыть, а ты… ты… ты тоже любишь меня, хоть немножко, скажи… Можешь ли ты, такой молодой, любить меня так, как мне, поседевшей, природа позволила любить тебя? Да? Можешь? Твои губы, о, наконец-то твои молодые губы, которых мне так не хватало, твои прекрасные губы, так, так… Я могу их поцеловать? Скажи, могу, мой сладкий, пробудивший меня? Я все могу, как и ты. Любовь сильна, Кен, она чудо, она приходит и творит невероятные чудеса. Целуй меня, любимый! Как мне не хватало твоих губ, о, как не хватало… Ибо если бы ты знал, каких только уловок не напридумывала моя несчастная голова, вроде того, что свобода от предрассудков и распущенность не для меня, что противоречие между переменами в жизни и врожденными убеждениями грозит гибелью. Ах, Кен, эти уловки чуть не погубили меня и мою жажду тебя… Это ты, наконец-то это ты, твои волосы, твой рот… дыхание, исходящее из твоих ноздрей… твои руки, руки, которые я так хорошо знаю, обнимают меня… тепло твоего тела, которого я отведала, а лебедь рассердился…
Еще немного, и она, прильнув к нему, сползла бы вниз. Он поддержал ее и увлек по коридору, к темноте которого их глаза попривыкли. Чуть дальше к открытой полукруглой двери спускались ступени, за дверью в альков со стенной обивкой, вышитой голубиными парами, которые целовались клювиками, падал тусклый верхний свет. В алькове стояла какая-то кушетка, в изголовье резной деревянный амур держал в руке что-то наподобие факела. Там-то в затхлости они и сели.
– Ух, какой мертвый воздух, – содрогнулась у него на плече Розалия. – Как печально, Кен, мой любимый, что нам приходится быть здесь, где все умерло. На лоне доброй природы, овеваемые ее ароматом, в сладких испарениях жасмина и черемухи, – там я мечтала, там это должно было случиться, там я должна была поцеловать тебя в первый раз, а не в этом гробу! Пусти, оставь, негодник, я хочу принадлежать тебе, но не в этой гнили. Завтра я приду к тебе, в твою комнату, завтра с утра, а кто знает, может, еще и сегодня вечером. Я все устрою, я перехитрю умнющую Анну…
Он потребовал обещаний. Они решили также, что нужно идти к остальным, назад или вперед. Китону казалось, что вперед. Через другую дверь они вышли из мертвых покоев сладострастия, снова показался темный коридор, он загибался, поднимался, и они очутились у проржавевших ворот, с содроганием поддавшихся сильно надавившим, растрясшим их рукам Кена, а снаружи так густо обросших плотными лианами, что еле можно было продраться. Их облил небесный воздух. Зашумела вода; за раскинувшимися клумбами, усеянными, ранними цветами – желтыми нарциссами, – ниспадали каскады. Это был сад позади замка. Справа как раз приближалась группа, уже без экскурсовода, Анна и Эдуард – последними. Парочка смешалась с передними посетителями, которые потихоньку разбредались кто к фонтанам, кто в направлении фруктового сада. Правильнее было остановиться, оглядеться и пройти навстречу брату с сестрой. Послышалось: «Где же вы затерялись?», «Это мы вас спрашиваем!», «Разве можно так пропадать?» Анна с Эдуардом даже пытались вернуться – поискать запропастившихся, но тщетно.
– В конце концов, сгинуть вы не могли, – сказала Анна.
– Как и вы, – откликнулась Розалия.
Никто ни на кого не смотрел.
Между кустами рододендрона они обошли замок сбоку и вернулись к искусственному пруду, что находился совсем недалеко от трамвайной остановки. Сколь долог был путь по излучинам Рейна, столь же быстро электрический состав, торопливо грохочущий через фабричные районы, мимо скоплений рабочих хижин, доставил путешественников обратно. Анна изредка переговаривалась с Эдуардом, а иногда и с матерью, руку которой какое-то время держала в своей, заметив, что та дрожит. В городе, недалеко от Королевской аллеи, попрощались.
Фрау фон Тюммлер не пришла к Кену Китону. В эту ночь, ближе к утру у нее случился тяжелый приступ, повергший в ужас весь дом. То, что при первом возвращении переполнило ее такой гордостью, таким счастьем, то, что она восславляла как чудотворение природы и высокий плод чувства, возобновилось самым зловещим образом. У нее хватило сил позвонить, но поспешившие дочь и горничная обнаружили ее без сознания, в крови.
Доктор Оберлоскамп приехал быстро. Приведя Розалию в чувство, он изумил ее своим присутствием.
– Как, доктор, вы? – спросила она. – Вас, вероятно, вызвала Анна? Но у меня всего-навсего обыкновенное у женщин.
– При определенных обстоятельствах, сударыня, эти отправления нуждаются в некотором наблюдении, – ответил седовласый доктор.
Дочери он решительно объявил, что рекомендуется переправить больную в гинекологическую клинику, лучше каретой «скорой помощи». Случай, мол, требует самого тщательного обследования, которое, впрочем, может выявить его вполне безобидный характер. Первое маточное кровотечение, о чем он узнал только что, как и тревожащее второе, возможно, имеют причиной миому, без труда устранимую оперативным путем. У директора и первого хирурга клиники, профессора Мутезиуса, матушка окажется в самых надежных руках.
Данной рекомендации и последовали, что, к молчаливому изумлению Анны, не вызвало сопротивления со стороны фрау фон Тюммлер. Ото всего, что с ней произошло, мать лишь смотрела вдаль широко раскрытыми глазами.
Бимануальное обследование, проведенное Мутезиусом, выявило слишком крупную для возраста пациентки матку, неравномерно утолщенную ткань на фаллопиевых трубах, а вместо маленького уже яичника бесформенную опухоль. Выскабливание диагностировало раковые клетки, по характеру частично прорастающие из яичников; но другие не оставляли никаких сомнений в том, что карциноматозными образованиями на стадии полного развития охвачена и сама матка. Злокачественность имела все признаки быстрого роста.
Профессор, мужчина с двойным подбородком и очень красным лицом, на котором слегка слезились водянисто-голубые глаза, не выказав ни малейшего душевного движения, поднял голову от микроскопа.
– Я квалифицирую это как запущенный случай, – сказал он ассистенту, которого звали доктор Кнеппергес. – Но все-таки прооперируем, Кнеппергес. Полное удаление брюшины малого таза, и прежде всего лимфатических узлов, по крайней мере может продлить жизнь.
Однако вскрытие брюшной полости в белом свете дуговых ламп явило врачам и сестрам слишком жуткую картину, чтобы можно было надеяться хоть на временное улучшение. Момент как-либо его стимулировать был очевидно упущен слишком давно. Пагубно оказались поражены не только все тазовые органы: даже невооруженному глазу брюшинная клетчатка также выявляла наличие смертоносной колонии клеток, все лимфатические узлы имели карциноматозные поражения, и не приходилось сомневаться, что орды раковых клеток поселились и в печени.
– Вот вам подарок, Кнеппергес, – сказал Мутезиус. – Вероятно, это превосходит ваши ожидания. – О том, что это превзошло и его собственные, профессор умолчал. – От нашего благородного искусства, – прибавил он с ничего не значащими слезами на глазах, – требуют слишком многого. Нельзя же вырезать всё. Если вы предполагаете, что эта штука уже проросла метастазами в оба мочеточника, вы предполагаете верно. Уремия не заставит себя ждать. Видите ли, я не отрицаю, что матка сама порождает прожорливое племя. И все же рекомендую прислушаться к моей гипотезе, что история началась с яичника, а именно с неиспользуемых фолликулов, которые после родов иногда отдыхают, с наступлением же климактерического периода, вследствие бог знает каких возбудительных процессов, их развитие может привести к злокачественным образованиям. Тогда организм post festum,[41]41
После праздника (лат.).
[Закрыть] если угодно, заливает, затопляет, заполняет эстрогенами, что приводит к гормональной гиперплазии слизистой матки с непременными кровотечениями.
Кнеппергес, худощавый, тщеславно-самоуверенный человек, чуть поклонился, со скрытой иронией благодаря за наставление.
– Ну-с, приступим, ut aliquid fieri videatur,[42]42
Дабы увидели, что хоть что-то было сделано (лат.).
[Закрыть] – сказал профессор. – Жизненно важные органы мы ей оставим, хотя в данном случае это слово окрашено глубокой печалью.
Анна ждала мать в палате. Ту подняли на лифте, занесли на носилках, и сестры уложили ее на кровать. При этом она проснулась от посленаркотического сна и нечетко проговорила:
– Анна, дитя мое, он шипел на меня.
– Кто, мама, дорогая?
– Черный лебедь.
И снова уснула. Но в последующие несколько недель она еще не раз поминала лебедя, его кроваво-красный клюв, черное биение крыльев. Страдания ее были недолгими. Уремическая кома скоро погрузила женщину в глубокое бессознательное состояние, а сопротивляться развившемуся при этом двустороннему воспалению легких изнуренное сердце смогло всего несколько дней.
Однако незадолго до конца, всего за несколько часов, дух ее опять прояснился. Она открыла глаза и посмотрела на дочь. Та сидела на кровати и держала руку матери в своей.
– Анна, – сказала она, с трудом подтянув тело поближе к краю постели, – ты слышишь меня?
– Конечно, слышу, дорогая, любимая мама.
– Анна, не говори об обмане и насмешливой жестокости природы. Не брани ее, как не браню и я. Я не хочу уходить – от вас, от жизни с ее весной. Но что была бы весна без смерти? Смерть ведь есть огромное средство жизни, и если для меня она приняла образ воскресения и любовной радости, так это не ложь, а доброта и милость.
Еще один слабый толчок поближе к дочери и замирающий шепот:
– Природа – я всегда ее любила, и она не поскупилась на любовь к своему порождению.
Розалия умерла мирной смертью, оплакиваемая всеми, кто ее знал.








