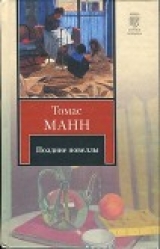
Текст книги "Поздние новеллы"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Тристан и Изольда
© Перевод Е. Шукшиной
Господин Тристан при дворе Марка Корнуолльского, племянник короля, сын его усопшей сестры Бланшфлер, и Изольда, принцесса Ирландская, дочь короля Гурмуна и королевы Изоты, знаменитости своего времени и мира, были наслышаны друг о друге давно.
Для Изольды Тристан, хотя она никогда его не видела, идеал мужчины, Изольда же для Тристана – воплощение его грез о женской прелестности и небесности. Слава Тристана зиждется на доблести, уме и высоком моральном облике – всё это наследие бретонской крови (отец Тристана Рималин, родом из Пармении, прибыл оттуда ко двору Марка в Тинтагель; история его любви к Бланшфлер приняла трагический оборот). Он не только красивейший и приятнейший юноша повсюду, насколько хватает глаз, не только искусный полководец, оказавший дяде многочисленные и крупные военные услуги, блистательный рыцарь, показавший себя героем во множестве походов и приключений, но и образованнейший человек своего времени, искушенный в языках, песнопениях и всех искусствах мирного времени, а кроме того, политически мыслящий ум, не просто забияка. Равно никто из путешественников, побывавших в Ирландии и ее столице Девелине, не в силах по достоинству воспеть прелести белокурой Изольды, сопряженные и с чрезвычайными духовными совершенствами (у своей матери она обучилась тайнам исцеления). Итак, один носит в сердце образ другого, и мысли, преодолевая пространства, летят навстречу друг другу. (Первоначальные картины!)
Однако в высшей степени невероятно, чтобы они когда-нибудь встретились, так как между Ирландией и Корнуоллом царит застарелая вражда. Между ними то и дело с переменным успехом разыгрываются войны, льются реки крови, и ненависть – взаимная, особенно, однако, с ирландской стороны – так велика, что согласно ирландскому закону любого корнуолльца, кто лишь попытается там высадиться, убивают.
В Тинтагеле, замке Марка, положение таково: Марк, питая сердечную любовь к племяннику, назначает его своим наследником, почему и не желает сочетаться браком. Однако при дворе, среди вельмож страны – баронов – у Тристана множество завистников, они плетут против него интриги и всё пристают к Марку, чтобы тот дал стране королеву и прямого наследника короны. Тристан, в свою очередь, не преследуя никаких эгоистичных интересов, предан Марку безусловной преданностью вассала, каковое чувство в сочетании с его заинтересованностью славной принцессой Изольдой выливается в намерение заполучить ее своему господину в качестве супруги. Политическое значение придает плану размах: Тристан желает установить мир между двумя странами, вследствие ненависти и войн нанесших друг другу столь тяжкий урон. Мысль смелая и представляется неосуществимой, в том числе и королю, когда Тристан докладывает ему на совете. В конечном счете, дабы положить конец домогательствам баронов, Марк все же принимает план. Он заявляет о своем желании сочетаться узами брака с Изольдой и только с ней. Если же это невозможно, он, мол, вообще не сочетается никакими узами брака и тогда наследник короны – Тристан.
В ответ бароны решают взвалить опасное предприятие на Тристана и уговорить короля отправить его в Ирландию одного (в надежде, что он при этом погибнет). Король с гневом отклоняет предложение и выражает пожелание, чтобы они поехали без племянника. Для Тристана, однако, поездка – высокая честь, и он требует лишь, чтобы его сопровождало некоторое число баронов. С неохотой и озабоченностью они соглашаются.
Выезжают. Недалеко от ирландских берегов Тристан в жалчайшем, какое только можно раздобыть, одеянии перебирается из небольшого корабля в лодку – вместе со своей арфой. Он приказывает остальным возвращаться домой и велит сказать, что вернется с Изольдой или не вернется вообще. И затем в этой лодке начинает парить на волнах по направлению к берегу.
В Девелине замечают лодку без кормчего и высылают к ней людей. Навстречу приближающейся челяди раздается пение и звуки арфы, столь чарующе сладостные, что она, замерев, слушает, забывая про весла и штурвал. Затем захватывает неизвестное транспортное средство и обнаруживает в нем Тристана, который рассказывает завиральную историю. Якобы он, придворный музыкант из Испании, занявшись торговым делом, с состоятельным товарищем и денным грузом двинулся на Британию, но в открытом море на них напали морские разбойники; всю команду вместе с сотоварищем-купцом перерезали, и лишь его одного тронутые прекрасным пением разбойники, из милости усадив в эту самую лодку, с небольшим количеством продовольствия пустили в море.
Ирландская челядь доставляет его на сушу. Неподалеку, возвращаясь с купания, как раз проходит Изольда с Брангеной и другими женщинами. Люди, подбегая к принцессе, ставят ее в известность о случившемся, она велит привести Тристана и приказывает ему петь и играть. Изображая смертельный испуг, он, назвавшись Тантрисом, поет, играет и производит сильнейшее впечатление, в частности, речами и обликом. Она приказывает препроводить потерпевшего бедствие в королевский замок и разместить где-нибудь в каморке, чтобы он отдохнул.
Так Тристан оказывается при дворе и благодаря талантам, масштабу личности умудряется все там прибрать к рукам. Душой, манерами, ученостью он превосходит всех. С Изольдой он занимается музыкой и языками, обучает ее также «моралитату» и искусству утонченных нравов, и они влюбляются друг в друга. Но для Тристана это чувство на фоне сознания его миссии и идеи, долга по отношению к Марку в общем-то отступает на второй план, и, заметив, что Изольда его любит, он радуется данному обстоятельству с той точки зрения, что теперь она с большей охотой последует за ним в Корнуолл, хотя персонально просто вне себя от счастья. Она, в свою очередь, живет представлением, что ее чувства не могут иметь никаких последствий, ибо направлены на бедного, безвестного, хотя и поразительно барственного вида музыканта и торговца.
Наконец Тристан ей открывается. Сцена, полная смятеннейших чувств. Изольда узнает, что тот, кого она любит, Тристан, мечта ее младости, что он прибыл сюда обманом, дабы заполучить ее, но не для себя, а для Марка. Она должна последовать за ним, но в объятия его дяди. Он со страстью собственного чувства, а также во имя политической идеи делает ей предложение от имени Марка и в конечном счете получает «да». Все доводится до сведения родительской королевской четы; следуют изумление, гнев, умиротворение, размышление, согласие, и Тристан везет Изольду в Корнуолл.
В пути, на корабле их своеобразные отношения развиваются дальше. Изольда колеблется между любовью и ненавистью к обманщику, Тристан – между страстью и преданностью вассала. Решающее значение имеет следующее.
Королева Изота, сведущая в целительстве и колдовстве, варит любовное зелье, которое в стеклянном сосуде передает на сохранение Брангене. Изольда в первую брачную ночь должна дать его Марку, дабы тот на веки вечные воспылал к ней любовью. Но женщины подвержены морской болезни, и по пути корабль заходит в некую гавань, где большинство пассажиров сходит на берег, в том числе и Брангена. Влюбленные с немногочисленной низшей прислугой остаются на борту, испытывают жажду, требуют вина, и мелкая служанка, которая ничего не может найти, кроме этого любовного зелья, очень похожего на вино, приносит его, они пьют. Брангена возвращается, приходит в ужас, объясняет им незадачу – и становится соучастницей, которая не имеет больше права, да и не считает целесообразным оберегать невинность Изольды. Отныне она прислужница их любви, высвобожденной зельем (поскольку против него честь бессильна) и безудержно набирающей обороты. Влюбленные соединяются и оставшуюся часть морского путешествия, конец которого им невообразим и страшен, живут как любовники.
Марк встречает их в Корнуолле с большой помпой, празднуют свадьбу, и на ночь влюбленные уговаривают провинившуюся Брангену пожертвовать королю своей девственностью вместо Изольды. Затем, когда Тристан приносит уже обычного вина, ему подсовывают Изольду, и вторую ночь Марк проводит с ней.
Теперь, поскольку Тристан имеет свободный доступ к Изольде, оба напропалую обманывают Марка, и у самого короля не возникло бы и тени подозрения. Однако это роковое счастье хрупко: их выслеживает некто, также страстно почитающий Изольду, – стольник короля Маржодок. Он спит в одной комнате с Тристаном и видит, как тот по ночам пробирается на женскую половину. Маржодоку снится сон про вепря, он крадется за Тристаном, идет по следу на снегу и видит Тристана в постели с Изольдой, хоть Брангена и заслонила огонь шахматной доской. Боль и ярость! Стольник, однако, не говорит королю, что застиг любовников, лишь предупреждает о слухах, вселяет тревогу, а сам неусыпно бдит.
Марк повержен в сомнение и муку, ибо речь идет о предположительно столь чистой «жене» и ближайшем друге сердца. Он и Маржодок, старательно подогревающий королевскую подозрительность, наобещав золотые горы, нанимают соглядатаем аквитанского карлу Мелота. Господину Тристану воспрещается вход на женскую половину.
Влюбленные разлучены и не находят себе места, что не ускользает от внимания Марка. Он объявляет большую двадцатидневную охоту. Тристан отлынивает по болезни. Брангена дает влюбленным совет (щепа масличного дерева). Они следуют ему и встречаются в саду под деревом, где их подслушивает карла, не узнав, однако, с уверенностью королеву. Он испытывает Тристана ложной весточкой от Изольды, но наталкивается на непонимание.
После этого Мелот мчится к королю и тащит его к масличному дереву у фонтана. Сцена, когда они сидят на дереве; Тристан и Изольда замечают их тень и изображают невинность, так что Марк им верит и швыряет Мелота в ручей. Пара снова может свободно сношаться.
Однако Маржодок с Мелотом начеку, они снова подзуживают Марка, слухи упорно не желают умолкать. Терзания короля беспредельны, и в конце концов он решается на средство Божьего суда (предложенное на созванном консилиуме самой Изольдой, уповающей на Божью куртуазность). В образе паломника она посылает Тристана в Карлий, место Божьего суда, при его участии устраивает спектакль (падение с ней на руках), после чего приносит двусмысленную клятву. Раскаленное железо ее не повреждает.
Триумф! Снова никаких помех на пути влюбленных. Но они часто не в состоянии притворяться, и Марк читает по их лицам. Несмотря на суд Божий, сводящий его с ума, вскоре он опять корчится от мук сомнения и ревности, не выдерживает и изгоняет обоих из замка, не желая долее позорно делить с ними счастье.
Они удаляются в чащу и живут в выстроенном великанами в незапамятные времена скалистом гроте, Марк же исходит в тоске по Изольде и проклинает свои строгие понятия о чести, помешавшие ему делить бы ее, что ли, с Тристаном. Следует предупреждение, их обнаруживают; Марк видит их через окно в крыше – между ними меч – и снова обманывается. По совету с вельможами пару призывают назад, Марк лично и коленопреклоненно просит их не давать поводов к нареканиям и получает возможность снова услаждаться Изольдой. Он не знает, не хочет ничего знать и позорно живет с Изольдой, а той уже нельзя вменить измену. Далее следует летняя постельная сцена в саду, по ходу которой Тристан и Изольда, удовлетворив желание, засыпают, а Марк за ними подсматривает. Бегство Тристана после того, как он получает от Изольды перстень. Вернувшись со своими советниками, Марк обнаруживает королеву одну, и бароны упрекают его в самоистязании и погоне за призраками. Он ничего не предпринимает по отношению к Изольде.
Тристан, переживая приключение за приключением, бродит по свету и попадает наконец в герцогство Арундель, что между землями бретонцев и англов. Там со своей герцогиней Карсией и детьми Каэдиноми Isot as blanche mans (Изольдой Белорукой) правит герцог Джовелин. Замок, где они живут, называется Карке, и Тристана принимают в нем с почетом. Знаменитому гостю рады, с ним заключают дружеский союз. Каэдин по-юношески преклоняется перед ним, с Изольдой Белорукой, чье имя с самого начала производит на Тристана впечатление, а кроткая прелесть очаровывает, его вскоре уже связывают нежные отношения, которым покровительствует Каэдин. Внутренняя борьба Тристана, связанная с его верностью ирландской Изольде. Наваждение чувств из-за имен. Неверность в верности. Извиняет свои чувства представлением о том, как Изольда лежит в объятиях Марка (образ, навеянный фантазией). Изольда Белорукая его любит; хотя бы из вежливости он идет навстречу – декламирует ей легенды, поет, пишет и читает с ней. Сочиняет канцоны, в которых неизменно присутствует имя Изольды, и все думают, что он подразумевает Белорукую. В конце концов Тристан с поцелуями заключает ее в объятия и отправляется просить руки у родителей, с радостью дающих согласие.
Свадьба сопровождается пиршествами и турнирами. Изольду Белорукую ведут к постели, в покои новобрачных. Раздевают и Тристана, и когда с него снимают шелковое платье, с руки упадает перстень ирландской Изольды. Он долго смотрит на него, борется с самим собой. Он не вправе ни подвести белокурую Изольду, ни попрать супружеский долг. Единственно сердечное смятение поставило его в такое положение, себя самого он обманывает больше, чем женщин, которым изменяет – одной с другой. В конце концов он бросается к Изольде, но просит нежнейшую потерпеть, поскольку на сердце ему давит колдовство, от коего он со временем надеется оправиться. Любя, она на это идет. В итоге они живут исключительно как брат и сестра.
Утекает немало воды, и на герцога Джовелина идут войной сильные соседи, его войска попадают в очень сложное положение. Тристан, глубоко несчастный, с радостью хватается за эту возможность и рвется в бой, а там, глядишь, и в смерть. Он выезжает вместе с Каэдином, и его ум, доблесть приносят победу: враг рассеян, однако Тристана, раненного отравленной стрелой, приносят обратно в Карке, где он лежит безнадежно прикованный к постели. Ни одно средство не возымевает действия. Тогда он вручает своему преданному юному другу Каэдину перстень Изольды, просит его отправиться в Корнуолл и уговорить Изольду приехать в Арундель. Дескать, только она может ему помочь и несомненно приедет, ибо любит его. Каэдин должен притвориться торговцем шелковыми изделиями, тайком передать королеве перстень, поклясться ей, что Тристан никогда не любил и не касался другой, и напомнить о радостях и скорбях, что они делили в прошлом. Сестра Каэдина, мол, осталась девицей по причине этой самой любви. Тристан просит также не проговориться Белорукой и сказать ей, будто речь идет о некой целительнице из дальних стран. Пусть Каэдин возьмет корабль Тристана, там лежат два паруса – белый и черный. Если посланец привезет Изольду, пусть поднимет белый парус; если возвратится без нее – черный. Каэдин, преисполненный любви и понимания, обещает все.
Однако за стенкой, у которой стоит постель Тристана, разговор подслушивает Изольда Белорукая, хоть господин и отослал ее со всеми остальными. Теперь она понимает, почему жизнь ее лишена полноты радости, нежная крошка превращается в шипящую кошку и клянется отомстить, но в присутствии Тристана продолжает изображать любовь и преданность.
Каэдин направляется в Корнуолл, высаживается у королевского жилища и достает свои товары – платки, коршунов, золотые изделия. Идет с этой красотой в замок, кой-чего продает королю и затем ненароком показывает королеве ее перстень. Изольда бледнеет, отводит его в сторонку, и он открывает ей все. Она глубоко взволнована, совещается с Брангеной, которая берется устроить, чтобы ночью один выход остался без охраны, и Изольда пробирается с Каэдином на корабль. Им сопутствует ветер, и юноша поднимает белый парус.
Тем временем Тристан исходит от тоски и ежечасно посылает гонцов смотреть, не показался ли корабль, велит даже отнести себя к морю, но из опасения увидеть черный парус возвращается в комнату, чтобы лучше уж услышать весть из чужих уст. Тут к нему приступает Изольда Белорукая и коварно сообщает о приближении черного паруса. С отчаяния он умирает.
Всеобщая скорбь велика. Господа и слуги помещают тело на роскошные похоронные дроги. Тем временем Изольда сходит на сушу и слышит отовсюду горестные восклицания, плач, погребальный звон церквей и часовен. Она в недоумении, и некий старик говорит ей, что умер Тристан. Окаменев, с сухими глазами, впереди спутников, она идет ко дворцу, сопровождаемая взглядами, пораженными ее скорбью и красотой. Тристан лежит, окруженный горящими свечами. Она обнимает его, целует и с разбитым сердцем замертво падает на похоронные дроги.
Хозяин и собака
© Перевод В. Курелла
Он появляется из-за угла
Когда весна и вправду заслуживает наименования лучшей поры года и я рано просыпаюсь под ликующие трели птиц, потому что накануне вовремя лег, я люблю еще до завтрака выйти на воздух, без шляпы погулять по аллее перед домом или пройти в парк – подышать утренней свежестью и хоть немного насладиться ясной чистотой утра, перед тем как уйти с головой в работу. На ступеньках крыльца я останавливаюсь и свищу, свищу две ноты, тонику и кварту вниз, похожие на начало второй темы шубертовской «Неоконченной симфонии», – это сигнал или, если хотите, переложенное на музыку имя из двух слогов. И в то же мгновение, пока я иду к калитке, до меня издалека доносится сперва еле слышное, а потом уже громкое и явственное позвякиванье – это жестяной номерок бьется о металлическую отделку ошейника, и, обернувшись, я вижу Баушана, который стремглав огибает дальний угол дома и мчится ко мне во весь опор, словно задавшись целью непременно сбить меня с ног. От напряжения у него отвисла нижняя губа, и зубы сверкают ослепительной белизной в ярком утреннем солнце.
Он примчался из своей конуры, которая устроена с другой стороны дома под полом стоящей на столбах веранды, где скорее всего дремал после беспокойно проведенной ночи, пока мой двойной свист не заставил его встрепенуться. Конура закрыта занавесками из дерюги и устлана соломой, отчего в шерсти Баушана, и без того несколько взъерошенной от лежания, и между когтями лап почти всегда торчат соломинки, – зрелище, всякий раз напоминающее мне старого графа Моора, каким я однажды видел его в чрезвычайно натуралистической постановке: он появлялся из башни, где его морили голодом, еле волоча «босые» ноги в розовом трико с торчащей между пальцами соломой. Я невольно становлюсь боком к мчащемуся на меня Баушану – занимаю, так сказать, оборонительную позицию, ибо его очевидное намерение кинуться мне под ноги и повалить на землю неизменно вводит меня в заблуждение. Однако в последнюю секунду, когда Баушан уже, кажется, вот-вот налетит на меня, он вдруг резко тормозит и сворачивает в сторону, что свидетельствует о его умении великолепно владеть как собой, так и своим телом; и тут в полном молчании – Баушан не часто пользуется своим звучным и выразительным голосом – он начинает кружиться вокруг меня в какой-то неистовой приветственной пляске, в которой притоптывания сменяются безумными виляниями не только предназначенного к тому самой природой хвоста, но захватывают в страстном порыве и заднюю часть туловища до ребер, переходят в винтообразные движения всего тела, замысловатые прыжки в воздухе и повороты вокруг собственной оси; но Баушан почему– то упорно пытается скрыть это представление от моего взора, так что, куда бы я ни повернулся, он всегда оказывается за моей спиной. Однако стоит мне только нагнуться и протянуть руку, как Баушан одним прыжком уже подле меня и, прислонившись плечом к моему колену, застывает как изваяние; он стоит, прижавшись ко мне всем боком, упершись крепкими лапами в землю, и, запрокинув морду, снизу вверх глядит мне в лицо; в сосредоточенном внимании, с каким он прислушивается к ласковым словам, которые я бормочу, хлопая его по лопатке, чувствуется не меньшая сила страсти, чем в прежних его бурных изъявлениях восторга.
Баушан – короткошерстная немецкая легавая, если отнестись к такому определению не слишком придирчиво, а принять его с должной крупицей юмора, ибо если разобрать Баушана по косточкам, или, как полагается говорить, по статям, то его вряд ли можно отнести к чистокровным представителям этой породы. Прежде всего Баушан мал, он, надо прямо сказать, значительно меньше обычных подружейных легавых, и потом, передние лапы у него чуточку кривоваты, что тоже не вполне соответствует признанному идеалу. Некоторая склонность к «подгрудку», то есть к мешкообразным складкам кожи под шеей, которые придают собачьей осанке особую величавость, чрезвычайно красит Баушана, но и это, с точки зрения ревнителей собаководства, наверное, было бы поставлено ему в упрек, ибо у легавых, насколько мне известно, кожа должна плотно прилегать к шее. Окрас Баушана очень хорош. По кофейной рубашке у него разбросаны черные пятна. Но местами проглядывают и белые пежинки, почти сплошь покрывающие грудь, живот и лапы, тогда как тупую морду Баушана, кажется, взяли да и окунули в чернила. На широком лбу и прохладных, лопухом, ушах черная и кофейная шерсть сплетается в причудливый бархатистый узор, но всего забавнее и милее вихор, в который закручивается у него на груди белая псовина, торчащий, словно шип на старинном панцире. Впрочем, пестрота Баушана тоже может показаться «недопустимой» тем, для кого чистота родословной важнее личных качеств, ибо классической легавой, говорят, надлежит быть одноцветной или пегой в крапе, но никак не пятнистой. Однако главным камнем преткновения при формальном подходе к определению породы Баушана служит, конечно, обильная растительность, свисающая у него с уголков верхней губы и с подбородка, которая не без основания может быть названа усами и бородой и составляет, как известно, характерную особенность пинчера или шнауцеля.
Но не все ли равно, легавая или пинчер! Что за красавец и симпатяга Баушан, когда он вот так стоит, прижавшись к моему колену, и снизу вверх глядит на меня с беспредельной преданностью! Лучше всего у него глаза – кроткие и умные, хотя, быть может, слишком выпуклые и потому чуть-чуть стеклянные. Радужная оболочка глаз – каряя, такого же кофейного оттенка, что и шерсть, но из-за отливающего черным непомерно расширенного зрачка она кажется узеньким колечком, которое тут же переходит в белок. Прямота и смышленость – а именно эти душевные качества написаны на морде Баушана – свидетельствуют о его нравственном мужестве, а телосложение – о мужестве физическом: выпуклая грудная клетка с четко выступающими под тонкой и эластичной кожей мощными ребрами, подтянутый живот, нервные ноги в сетке сухожилий, крепкие, в комке, лапы – все это говорит об отваге и мужской доблести, говорит о мужицкой охотничьей крови; да, в облике Баушана чувствуется настоящий охотничий пес, и, на мой взгляд, он по праву может называться легавой, хоть и не обязан своим появлением на свет чванливому кровосмесительству; таков примерно смысл сбивчивых и довольно бессвязных слов, которые я говорю Баушану, похлопывая его по плечу.
А он стоит и смотрит, прислушивается к звукам моего голоса, улавливая в убеждающих интонациях явное одобрение своей персоне. И вдруг быстрым движением вскидывает голову к самому моему лицу и смыкает в воздухе челюсти, будто хочет откусить мне нос, – пантомима, которая служит, по-видимому, ответом на мои похвалы и всякий раз заставляет меня со смехом отпрянуть, к чему Баушан тоже давно привык. Это своего рода воздушный поцелуй, наполовину ласка, наполовину шалость, штука, которую он проделывал еще щенком и не свойственная ни одному из его предшественников. Впрочем, он тут же со смущенно-лукавым видом просит прощения за допущенную вольность, виляет хвостом и смешно пригибает голову. Но вот мы выходим за калитку.
Навстречу нам несется шум, похожий на рокот моря. Дом мой стоит возле быстрой порожистой реки, от которой его отделяет лишь тополевая аллея, обнесенная решеткой полоска газона с молоденькими кленами и насыпная дорога; по обе ее стороны растут огромные осины – великаны, явно подделывающиеся под старые искривленные ветлы; их белый пух к началу июня будто снегом засыпает окрестность. Вверх по реке, в сторону города, саперы проводят занятия по наведению понтонного моста. Стук их тяжелых сапог о доски настила, отрывистые слова команды явственно долетают до нас. С другого берега слышится заводской шум и грохот: вниз по течению, наискось от нашего дома, раскинулись корпуса большого паровозостроительного завода, который за войну сильно разросся; длинные окна его цехов всю ночь напролет светятся в темноте. Новенькие, отливающие лаком паровозы, проходя испытание, деловито снуют взад и вперед. Иногда протяжно завоет гудок, какой-то глухой стук время от времени сотрясает воздух, и из множества труб валит дым, но ветер, по счастью, относит его за лес на противоположном берегу, да и вообще-то дым редко переползает через реку на нашу сторону. Так мешаются в полупригородном, полудеревенском уединении этого уголка звуки погруженной в самое себя природы и человеческой деятельности, и надо всем сияет ясноокая свежесть раннего утра.
Обыкновенно я выхожу на прогулку этак в половине восьмого по официальному времени, на самом деле, значит, в половине седьмого. Я иду, заложив руки за спину, по залитой нежарким еще солнцем аллее, которую пересекают длинные тени тополей; реки мне не видно, но я слышу ее вольное мерное течение; тихо шелестят деревья, воздух наполнен неумолчным чириканьем, щебетом, раскатистыми трелями и переливами певчих птиц; во влажной голубизне неба, с востока, летит аэроплан – жесткая механическая птица, направляя свой ничем не стесненный полет над рекой и лесом; гул его сперва усиливается, затем постепенно замирает; а Баушан радует меня своими легкими красивыми прыжками через низенькую решетку газона – туда и обратно, туда и обратно. Он прыгает, зная, что доставляет мне удовольствие; ведь я сам обучал его этому, постукивая тросточкой по ограде, и хвалил, когда у него хорошо получалось; вот и теперь он чуть ли не после каждого прыжка подбегает ко мне, ждет, что я скажу ему, какой он молодчина, какой он смелый и ловкий пес, пытается допрыгнуть до моего лица и, когда я его отстраняю, мокрым носом мусолит мне ладонь. Кроме того, эти усердные гимнастические упражнения заменяют ему утренний туалет, с их помощью он приглаживает свою взъерошенную шерсть и избавляется от застрявших в ней соломинок старика Моора.
До чего же хорошо после целительной ванны сна и долгого забвения ночи, помолодев телом и очистившись душой, ранним утром выйти на прогулку. Бодро, уверенно взираешь ты на предстоящий день, хоть и медлишь начать его, желая сполна насладиться чудесными, свободными от всяких обязательств и забот минутами между сном и работой, которые достались тебе в награду за примерное поведение. Ты тешишь себя иллюзией, что всегда будешь жить такой вот простой, серьезной, созерцательной жизнью, что всегда будешь волен распоряжаться собой, ибо человек почему-то склонен считать минутное свое состояние, весел он или подавлен, спокоен или возбужден, за единственно истинное и постоянное и всякое счастливое ex tempore[48]48
Буквально: «вне времени» (мат.); здесь употреблено в значении необычайного происшествия, нарушающего привычный порядок вещей.
[Закрыть] мысленно возводить в непреложное правило и нерушимый закон, тогда как в действительности он осужден жить по наитию изо дня вдень. Вот и веришь, вдыхая утренний воздух, в свою свободу и добродетель, хотя должен бы знать, да, по существу, и знаешь, что мир уже плетет для тебя свои сети и что скорее всего ты уже завтра проваляешься в кровати до девяти, потому что накануне развлекался и только в два часа ночи, разгоряченный, захмелевший и взвинченный, удосужился лечь в постель… Пусть так. Но сегодня ты образец благоразумия и внутренней дисциплины и самый подходящий хозяин вот для этого юного охотника, который только что опять перемахнул через ограду газона от радости, что сегодня ты, как видно, предпочитаешь общаться с ним, а не с обитателями того, большого мира.
Мы идем по аллее минут пять до того места, где она перестает быть аллеей и превращается в хаотическое нагромождение крупного щебня, тянущееся вдоль реки; тут мы сворачиваем вправо, на засыпанную более мелким щебнем широкую, но пока еще не застроенную улицу, по которой, однако, как и по нашей аллее, проложена велосипедная дорожка; улица эта проходит между расположенными несколько ниже ее лесистыми участками и упирается в склон горы, замыкающей с востока наш прибрежный район – местожительство Баушана. Немного погодя мы пересекаем еще другую, тоже будущую улицу; выше, возле трамвайной остановки, она сплошь застроена доходными домами, но здесь, ничем не огражденная, идет куда-то через лес и поле; затем мы по отлого спускающейся дорожке попадаем в великолепный парк, разбитый на манер курортных парков, но совершенно безлюдный, как, впрочем, и вся местность в этот ранний час; везде стоят скамейки, покатые дорожки звездообразно сходятся или приводят к площадкам для детских игр, вокруг – зеленые поляны с купами старых, пышно разросшихся деревьев – вязов, буков, лип, серебристых ветел, кроны которых спускаются так низко, что оставляют на виду лишь небольшой кусочек ствола. Я не нарадуюсь на этот тщательно распланированный парк, в котором гуляю, как в собственном, поместье. Все здесь продумано до мелочей, вплоть до того, что у посыпанных гравием дорожек, сбегающих с отлогих, поросших травой холмов, зацементированы обочины. Гуща зелени то и дело расступается, открывая взору чудесный вид на белеющую вдали виллу.
Я прохаживаюсь по дорожкам, а Баушан, ошалев от здешнего приволья, носится как полоумный с поляны на поляну таким галопом, что у него даже заносит зад, или же с негодующе-блаженным лаем гоняется за птичкой, которая то ли со страху, то ли затем, чтобы его подразнить, вьется над самым его носом. Но стоит мне сесть на скамейку, как Баушан уже тут как тут и пристраивается у меня в ногах. Ибо для моего четвероногого друга непреложный закон – бегать, когда я нахожусь в движении, и садиться, когда я сажусь. Надобности в этом никакой нет, но Баушан твердо следует этому правилу.
Мне и странно, и уютно, и забавно ощущать на ноге тепло его разгоряченного тела. Как и всегда почти, когда я бываю с Баушаном и гляжу на него, радостное умиление спирает мне грудь. Он и сидит-то по-крестьянски – лопатки наружу, ступни внутрь. В этой позе он кажется более приземистым и неуклюжим, чем на самом деле, а белый клок шерсти на груди выпирает совсем уж нелепо и смешно. Зато, взглянув на его важно поднятую голову, никто не осмелится обвинить его в неумении держать себя – столько в ней настороженного внимания… Мы притихли, и сразу же нас обступила тишина. Шум реки едва сюда долетает. И потому любой самый слабый шорох и движение вокруг становятся особенно слышны и привлекают внимание: вот в траве прошуршала ящерица, вот пискнула птаха, где-то поблизости роется крот. Уши Баушана подняты, насколько это позволяет мускулатура висячих ушей, голова, чтобы лучше слышать, наклонена набок, и ноздри влажного черного носа, втягивая все запахи, находятся в беспрестанном трепетном движении.








