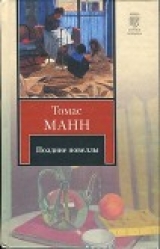
Текст книги "Поздние новеллы"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Таковы слова Розалии, которые она обратила к самой себе в тот вечер. Ночь фрау фон Тюммлер провела, то и дело беспокойно вскакивая, а после нескольких часов глубокого утреннего сна по пробуждении первой ее посетила мысль о страсти, которой она была убита, благословлена и противиться которой, высоконравственно отвергнуть которую ей даже не приходило в голову. Славная женщина восторгалась уцелевшей способностью души цвести сладостным страданием. Она была не особенно благочестива и Бога, Господа вывела из игры. Благочестие ее относилось к природе и приводило в восхищение и благоговение перед тем, что с ней сотворила природа, пусть и наперекор самой себе. Да, он случился наперекор естественному порядку вещей, этот расцвет ее души и чувств, хоть и отрадный, но не придающий сил, и желал схорониться ото всех, даже от дочери, такой родной, но прежде всего от него, возлюбленного, который ни о чем не догадывался и не должен был догадаться, – ибо как же ей мужественно поднять глаза на его юность?
Потому в ее отношении к Китону появился совершенно со светской точки зрения абсурдный сплав приниженности и смирения, от которого Розалия, несмотря на всю гордость своим чувством, не могла отделаться и который на видящих, то есть на Анну, производил еще более гнетущее впечатление, нежели изначальная оживленность и чрезмерная веселость. В конце концов заметил даже Эдуард, и бывали мгновения, когда брат с сестрой, склонившись над тарелками, кусали губы, а ничего не понимающий Кен, взволнованный смущенным молчанием, вопросительно осматривался. В попытке разобраться, что происходит, Эдуард, улучив подходящий момент, прижал сестру к стенке.
– Что такое с мамой? – спросил он ее. – Китон ей больше не нравится? – Но поскольку Анна молчала, у молодого человека вытянулось лицо. – Или слишком нравится?
– Что ты несешь? – отбилась она. – Маленький еще. Веди себя прилично. Что за непристойные предположения!
Затем последовало: дескать, с подобающим почтением еще можно себе вообразить, что мама, как все женщины, рано или поздно должна пройти этап не способствующих хорошему самочувствию сложностей.
– Весьма для меня ново и поучительно! – иронически отозвался старшеклассник. Но данное объяснение, видите ли, для него слишком общо. Мама, пожалуй, терзается более специфическим образом, да и сама она, глубокоуважаемая сестра, тоже, судя по всему, терзается, не говоря уже о нем, глупом мальчишке. А что, если глупый мальчишка может оказаться полезным, расставшись со своим слишком симпатичным учителем? Он, к примеру, готов сказать матери, что уже достаточно взял у Китона и того опять можно «honorably discharge».
– Так и скажи, милый Эдуард, – кивнула Анна.
Он так и сказал.
– Мама, – сказал он, – мне кажется, можно подвести черту под уроками английского и постоянными на них расходами, в которые я тебя ввожу. Благодаря твоей щедрости и при помощи мистера Китона заложена хорошая основа, а читая, я постараюсь ее не растерять. Вообще-то никто по-настоящему не учит язык дома, за пределами страны, где все на нем говорят и где человек кругом от него зависит. Если доведется попасть в Англию или Америку, то после подготовки, которую ты любезно мне дала, остальное без труда придет само собой. А теперь, ты ведь знаешь, приближаются выпускные экзамены, и там никто не будет проверять мой английский. Зато хорошо бы не завалить древние языки, а для этого нужно сосредоточиться. Так что – ты не согласна? – самый подходящий момент сердечно поблагодарить Китона за труды и как можно вежливее освободить его от этих обязанностей.
– Но, Эдуард, – быстро возразила фрау фон Тюммлер, поначалу даже несколько торопливо, – меня удивляет, что ты такое говоришь, не могу сказать, что я это одобряю. Прекрасно понимаю, ты проявляешь заботу, желая избавить меня от дальнейших расходов на эти цели. Но цели-то хороши, они важны с точки зрения той будущности, что рисуется тебе, и не так уж плохи наши дела, чтобы нельзя было потратиться на твои занятия языком, так же, как раньше на учебу Анны в Академии. Не понимаю, почему ты в намерении овладеть английским хочешь остановиться на полпути. Можно сказать, мой дорогой мальчик, не обижайся, это черная неблагодарность в ответ на мою готовность помочь. Выпускные экзамены – это, разумеется, серьезно, и я понимаю, что древние языки, вдруг ставшие для тебя неподъемными, придется зубрить как следует. Но уроки английского пару раз в неделю, – не станешь же ты утверждать, Эдуард, что они для тебя дополнительное напряжение, скорее уж отдых и благотворное развлечение. Кроме того – теперь позволь мне перейти к личному, человеческому, – Кен, как все его зовут, то есть мистер Китон уже давно не в таких отношениях с нашей семьей, чтобы мы могли сказать ему: «В вас больше не нуждаются» – и запросто выставить за дверь. Запросто объявить: мавр может уйти. Он стал другом дома, в известной степени членом семьи и по праву был бы оскорблен такой отставкой. Нам всем будет его не хватать, особенно, как мне кажется, расстроится Анна, если он больше не будет приходить и оживлять наши трапезы своим углубленным знанием истории Дюссельдорфа, не будет рассказывать нам о борьбе за Юлих-Клевское наследство, о курфюрсте Яне Веллеме, который стоит на Рыночной площади. И тебе будет его не хватать, и даже мне. Короче, Эдуард, твое предложение продиктовано благими намерениями, но принять его я не вижу необходимости, да это попросту невозможно. Оставим все по-старому.
– Как хочешь, мама, – сказал Эдуард и доложил о своей неудаче сестре, ответившей ему:
– Я так и думала, малыш. Мама в принципе верно обрисовала ситуацию, и когда ты заявил о своем намерении поговорить с ней, я испытывала сходные сомнения. По крайней мере она права в том, что Китон – приятный собеседник и что мы все будем сожалеть о его отсутствии. Так что занимайтесь дальше.
Эдуард посмотрел говорившей в неподвижное лицо, пожал плечами и отошел. Кен как раз ждал его в комнате, он прочел с учеником пару страниц из Эмерсона или Маколея, затем какую-то американскую mystery story,[28]28
«Таинственная история» как жанр (англ.).
[Закрыть] давшую пищу для болтовни на последние полчаса, и остался на ужин, о чем его специально уже давно никто не просил. То, что он задерживался после уроков, стало необсуждаемым установлением, и в будние дни своего неприличного, страшного, омраченного стыдом счастья Розалия обсуждала с экономкой Бабеттой меню, заказывала вкусное, следила, чтоб подали крепкое пфальцское или рюдесхаймское, за которыми и после еды еще с час сидели в гостиной и на которые она налегала свыше обыкновения, чтобы иметь возможность мужественнее смотреть на неразумно любимого. Однако от вина на нее часто наваливались усталость и отчаяние, и тогда она терзалась: остаться ли ей и страдать на глазах у молодого человека или уйти и рыдать о нем в одиночестве – с разным исходом.
Поскольку в октябре начался светский сезон, Китон встречался с Тюммлерами не только у них дома, а и у Пфингстенов на Пемпельфортской улице, и у Лютценкирхенов, и в большой компании у старшего инженера Рольвагена. Тогда она искала его и избегала, бежала от группки, к которой он присоединялся, и, машинально болтая с другими гостями, ждала, что он подойдет к ней, проявит внимание, всегда знала, где он, выуживала в общем гомоне его голос и ужасно страдала, когда ей казалось, будто она подмечает признаки тайного согласия между ним и Луизой Пфингстен или Амелией Лютценкирхен. Хотя молодой человек, кроме ладного телосложения, полнейшей непринужденности и дружелюбной простоты духа, больше ничего особенного предложить не мог, в этом кругу его любили и искали его общества, он оказался в приятном выигрыше от немецкой слабости на все иностранное и прекрасно знал, что его немецкий выговор, используемые им при этом детские речевые обороты очень нравятся. Впрочем, с ним предпочитали говорить по-английски. Одеваться он мог как угодно. Американец не имел evening dress,[29]29
Вечерний костюм (англ.).
[Закрыть] но общественные нравы уже много лет были не так строги, смокинг теперь не являлся обязательным ни в театральной ложе, ни на званом вечере, и даже когда большинство мужчин все же надевали смокинги, Китона с радостью встречали и в его обычном уличном костюме, свободном, удобном наряде – коричневых брюках на ремне, коричневых туфлях и сером шерстяном пиджаке.
Так он беспечно переходил из салона в салон, любезничал с дамами, с которыми занимался английским, а также с теми, кого еще только желал покорить для этой цели, за столом, по обычаю своей страны, сначала разрезал мясо на маленькие кусочки, откладывал нож на край тарелки, опускал левую руку и, держа вилку в правой, съедал подобным образом заготовленное. От этой привычки, заметив, что соседки и визави наблюдают за ней с большим интересом, он не отказывался.
С Розалией он любил болтать и в сторонке, с глазу на глаз, не только потому, что она являлась одной из его кормилиц и «bosses»,[30]30
Работодатели (англ.).
[Закрыть] но из искренней симпатии. Ибо если холодный ум и духовные запросы дочери внушали ему робость, то сердечная женственность матери импонировала, и, не интерпретируя верно ее чувств (ему и в голову не приходило делать это), он просто купался в излучаемом ею тепле, нравился себе в нем и почти не обращал внимания на появляющиеся при этом признаки напряжения, неловкости, которые понимал как выражение европейской нервозности и потому глубоко уважал. Ну а кроме того, при всех страданиях облик ее поражал тогда новым расцветом, она помолодела, в связи с чем ей делали комплименты. Вид ее и всегда отличался моложавостью, но во время разговоров, обыкновенно веселых и всегда дававших ей возможность смехом подкорректировать наползающую кривую улыбку, нельзя было не заметить блеска красивых карих глаз, подвижности черт пополневшего и посвежевшего лица, румянца, который, хоть и несколько лихорадочно-горячечный, так к ней шел и быстро восстанавливался после накатывающей порой бледности. На вечерах много и громко смеялись, ибо единодушно не чинились налегать на вино, пунш, и то, что могло бы показаться в поведении Розалии эксцентричным, тонуло во всеобщей, на удивление слабо сдерживаемой непринужденности. Как счастлива она, однако, бывала, когда в присутствии Кена кто-либо из женщин говорил ей: «Дорогая, вы восхитительны! Сегодня вечером вы выглядите прекрасно! Заткнете за пояс двадцатилетнюю. Скажите же, где вы обнаружили источник живой воды?» А если возлюбленный еще к тому же поддакивал: «Right you are! Фрау фон Тюммлер is perfectly delightful tonight»,[31]31
Вы совершенно правы!., сегодня вечером просто очаровательна (англ.).
[Закрыть] она смеялась, причем вспыхнувшие от радости щеки можно было объяснить услышанной лестью. Она отворачивалась, но думала о его руках и вновь чувствовала, как нутро ее заливает, затопляет невероятная сладость, что с ней теперь случалось нередко и что все остальные видели своими глазами, когда находили ее молодой и привлекательной.
Именно в один из таких вечеров, после того как общество разошлось, она нарушила верность намерению держать при себе сердечную тайну, это недозволенное, причиняющее страдание, но такое пленительное чудо души и не открывать его даже подруге-дочери. Вследствие непреодолимой потребности поделиться она оставила данное себе обещание и доверилась умной Анне, не только потому, что нуждалась в любяще-понимающем участии, но и из желания мудро восславить то, что сотворила с ней природа, эту человеческую необычайность, каковой оно и являлось.
Около полуночи дамы возвращались на такси домой. Шел мокрый снег, Розалия озябла.
– Позволь мне еще на полчасика зайти к тебе, в твою уютную комнату, – сказала она. – Мне холодно, а голова горит, боюсь, о скором сне нечего и думать. Если бы ты напоследок сделала нам чаю, вот было бы славно. От этого пунша у Рольвагенов так муторно. Рольваген сам его готовит, но у него крюки, а не руки, он же доливает в мозельское кельнский апельсиновый шнапс, а потом еще немецкого шампанского. Завтра у нас у всех опять будет жуткая головная боль и жестокое hang-over.[32]32
Похмелье (англ.).
[Закрыть] То есть у тебя нет. Ты разумна и пьешь немного. А я за разговорами забываюсь и не замечаю, как мне все подливают, подливают, все думаю, что это еще первый бокал. Да, сделай-ка нам чаю, прекрасно. Чай бодрит, но вместе с тем успокаивает, и, выпив в нужный момент горячего чаю, ни за что не простудишься. У Рольвагенов было слишком натоплено – по крайней мере мне так показалось, – а потом такая слякоть на улице. Но разве это не провозвестие весны? Сегодня днем в городском парке мне показалось, я ее почуяла. Но твоя глупая мать чует весну, как только минует самый короткий день и начинает прибывать света. Какая прекрасная мысль, что ты включила электрический обогреватель; топили уже давно. Мое дорогое дитя, ты умеешь создать уют и доверительную обстановку, чтобы пошептаться с глазу на глаз перед сном. Видишь ли, Анна, я уже давно хочу поговорить с тобой по душам, от чего – да-да, конечно, – ты никогда не увиливала. Но есть такие вопросы, дитя мое, чтобы поставить, обсудить их, нужна особо доверительная обстановка, урочный час, развязывающий язык…
– Какие вопросы, мама? Сливок я не могу тебе предложить. Хочешь немного лимона?
– Вопросы сердца, дитя мое, вопросы природы, чудесной, загадочной, всесильной, порой творящей с нами нечто такое странное, противоречивое, даже непостижимое. Тебе это тоже известно. В последнее время, милая моя Анна, я думала о твоей прошлой – прости, что касаюсь этого, – о твоей тогдашней истории с Брюннером, о твоем страдании, что ты изливала мне в час, подобный этому, и в злости на себя даже называла позором, именно из-за постыдного конфликта, в который вступил твой рассудок, твое суждение с сердцем или, если угодно, с чувствами.
– Хорошо, что ты уточнила, мама. Сердце – сентиментальные мечтания. Не стоит называть сердцем нечто совсем иное. Ведь сердце наше говорит, только получив одобрение суждения и рассудка.
– Это ты так считаешь. Ты всегда была за единство и придерживалась того мнения, что природа сама устанавливает гармонию между душой и телом. Но ты не можешь отрицать, что тогда жила в дисгармонии – именно между желаниями и суждением. Ты была в то время очень молода, и перед лицом природы тебе нечего было стыдиться этой потребности, но вот суждение твое назвало ее унизительной. И твоя потребность перед ним не устояла, вот в чем заключался твой стыд и твое страдание. Ибо ты горда, Анна, очень горда и никак не можешь принять, что можно гордиться уже самим чувством, что существует гордость чувства, не снисходящая до того, чтобы оно кому-то в чем-то признавалось или перед кем-то отчитывалось – перед суждением, рассудком, даже перед самой природой; в этом мы сильно отличаемся друг от друга. Ибо для меня сердце превыше всего, и если природа вливает в него не подобающие ему более ощущения, вроде бы приводящие к противоречию между сердцем и самой природой, – разумеется, это болезненный стыд, но стыд ведь касается только недостоинства, он есть сладостное изумление, благоговейный страх перед природой и жизнью, которую первая изволит даровать отжившему.
– Дорогая моя мама, – отвечала Анна, – прежде всего позволь мне отклонить честь, которой ты удостоила мою гордость и рассудок. Если бы не вмешалась милостивая судьба, они бы тогда самым жалким образом подчинились тому, что ты называешь сердцем, и, думая о том, куда бы оно завело меня, я благодарю Бога, что желания его не исполнились. Я последняя вправе бросить камень. Но речь не обо мне, а о тебе, и честь, что ты намерена мне открыться, я отклонять не хочу. Не правда ли, ведь намерена? Твои слова свидетельствуют об этом, только они темны, поскольку слишком общи. Прошу тебя, научи, как мне применить их к тебе, как мне их понимать?
– А что бы ты сказала, Анна, если бы твою мать на старости лет вдруг охватило горячее чувство, приличествующее лишь полной силы юности, лишь зрелости, а не отцветшей женственности?
– К чему сослагательное наклонение, мама? Судя по всему, дело обстоит именно так, как ты и говоришь. Ты полюбила?
– Как ты это сказала, мое милое дитя! Как свободно, смело, открыто ты выговорила слово, которое с таким трудом сходит у меня с языка и которое я так долго носила в себе вместе со всем тем, что оно означает, – с постыдным счастьем, страданием, – таила ото всех, от тебя в том числе, так тщательно, что вообще-то это должно стать для тебя громом посреди ясного неба, неба твоей веры в матронино достоинство матери! Да, я полюбила, полюбила горячо и жадно, столь блаженно и столь жалко, как и ты любила когда-то в юности. По сравнению с чувством мой рассудок так же слаб, как когда-то и твой, и, испытывая гордость за весну души, чудесный дар природы, я все же страдаю, как и ты когда-то, и ощущаю непреодолимую потребность все тебе рассказать.
– Моя дорогая, хорошая мама! Тогда спокойно расскажи мне все. А коли трудно говорить, станем спрашивать. Кто он?
– Это должно стать для тебя потрясающей новостью, дитя мое. Молодой друг нашего дома. Учитель твоего брата.
– Кен Китон?
– Он.
– Значит, он. Ладно. Пожалуйста, мама, не бойся, что я начну восклицать: «Непостижимо!», хотя обычно так и поступают. Как пошло, как глупо хулить за непостижимость чувство, которым не можешь проникнуться сам. И все же – хоть я очень боюсь тебя обидеть – прости моему участию вопрос: вот ты говоришь о не подобающей твоим годам страсти, обвиняешь себя в том, что лелеешь чувства, которых уже недостойна. А ты спрашивала себя, достоин ли он твоих чувств, этот молодой человек?
– Он? Достоин? Я решительно тебя не понимаю. Я люблю, Анна. Кен восхитительнее всех молодых мужчин, которых видели мои глаза.
– И поэтому ты его любишь. Может, попытаемся поменять местами причину и следствие и тем самым восстановить их очередность? Не может ли быть так, что он представляется тебе столь восхитительным, поскольку ты в него… поскольку ты его любишь?
– О, дитя мое, ты разделяешь нераздельное. Здесь, в моем сердце моя любовь и его восхитительность – одно.
– Но ты страдаешь, дорогая, любимая мама, и как бесконечно я хочу тебе помочь. Может, попытаешься на мгновение – всего лишь на мгновение, а вдруг это уже станет для тебя целительным – посмотреть на него не в преображающем свете твоей любви, а при дневном свете, в его реальности, как на симпатичного, славного – конечно, я с готовностью признаю это! – славного юношу, каким он, несомненно, является, но кто сам по себе дает совсем немного оснований для страсти, для страданий по нем?
– Ты желаешь мне добра, Анна, я знаю. Ты хочешь мне помочь, убеждена. Но это не должно происходить за его счет, ты не имеешь права при этом быть несправедливой к нему. А ты несправедлива к нему со своим «дневным светом», который так лжет, уводит совершенно не в ту сторону. Ты называешь его симпатичным, называешь всего-навсего славным и хочешь тем самым сказать, что он посредственность, что в нем нет ничего особенного. Но он необычайный человек, жизнь его берет за душу. Вспомни его простое происхождение, как он силой железной воли выбился в колледже и при этом по истории и гимнастике превзошел всех соучеников, как немедля встал под ружье и проявил себя таким прекрасным солдатом, что в конце концов был «honorably discharged»…
– Прости, но так отправляют в отставку всякого, кто только не навлек на себя бесчестье.
– Всякого. Ты все ведешь к посредственности и хочешь остудить меня, выставляя его – если и не прямо, то намеками – простоватым, недалеким. Но не забывай, что простота может быть возвышенной, победительной, что простота Кена имеет в подоснове демократический дух его далекой родины…
– Да он не любит свою страну.
– И все-таки он истинный ее сын, а если любит Европу – ради исторической перспективы и старинных народных обычаев, – то и это делает ему честь, выделяя из большинства. Ты говоришь, всякого «honorably discharge». И по-твоему, всякого награждают медалью за отвагу – «Purple heart»,[33]33
Пурпурное сердце (англ.).
[Закрыть] в знак того, что героический дух, с которым человек двинулся на врага, стоил ему ранения, возможно, даже тяжелого?
– Ах, мама, мне кажется, на войне одного задевает, а другого нет, один погибает, а другой выживает, и это не имеет ничего общего с отвагой. Если кому-то отрывает ногу или простреливает почку, то медаль служит утешением и небольшой компенсацией за невезение, но в большинстве случаев все-таки не является показателем особенной отваги.
– Так или иначе, он принес свою почку на алтарь отечества!
– Да, ему не повезло. И слава Богу, при необходимости можно жить и с одной почкой. Но именно при необходимости, как-никак это недостаток, дефект, и мысль о нем, хочешь не хочешь, в известной степени ограничивает его восхитительность, а к дневному свету, в котором его следует рассматривать, относится и то, что, несмотря на свой добротный – или, скажем, нормальный – вид, он физически не вполне комплектный, уже инвалид, а не вполне целый человек.
– Боже милостивый, Кен уже не комплектный, Кен не целый! Бедное мое дитя, он целый до великолепия и играючи может обойтись без почки – не только по его мнению, но и по мнению всех, особенно женщин, которые бегают за ним и, вполне вероятно, доставляют ему немало удовольствий! Дорогая, хорошая, умная моя Анна, неужели же ты не понимаешь, почему я, собственно, доверилась тебе и завела этот разговор? Я вот о чем хотела тебя спросить и узнать твое искреннее мнение: существуют ли у него отношения с Луизой Пфингстен или Амелией Лютценкирхен, а может, с обеими, для чего он куда как целый! Вот что повергает меня в самые мучительные страдания, и я бы очень хотела, чтоб ты сказала мне на этот счет чистую правду, так как можешь смотреть на вещи без жара в крови, при дневном, так сказать, свете…
– Бедная, милая мама, как ты мучаешься, как страдаешь! Какую боль мне это причиняет. Но нет, не думаю – мне мало известно, какой образ жизни ведет Китон, и, по-видимому, я не гожусь для того, чтобы наводить о нем справки, – но не думаю и никогда не слышала, чтобы он состоял с фрау Пфингстен или с фрау Лютценкирхен в того рода отношениях, что ты подозреваешь. Успокойся, пожалуйста, не переживай из-за этого!
– Дай-то Бог, доброе дитя, чтоб ты говорила так, не только утешая меня или чтобы пролить бальзам на мою муку, из сострадания! Но видишь ли, сострадание – хотя, возможно, я и ищу его у тебя – здесь вовсе не уместно, поскольку в муке и позоре я блаженствую и горжусь болезненной весной моей души. Не забывай об этом, дитя мое, когда я по видимости молю тебя о сострадании!
– Не нахожу, что ты меня о чем-то молишь. Но ведь в данном случае счастье и гордость тесно переплетены со страданием, они составляют с ним одно, и хоть ты и не ищешь сострадания, его по отношению к тебе все-таки испытывают любящие тебя и желающие, чтобы ты сама себя пожалела и попыталась освободиться от этой абсурдной заколдованности… Прости мне мои слова! Они, конечно, неточны, но меня волнуют не слова. Меня волнуешь ты, любимая моя, и не только сегодня, не только после твоего признания, за которое я тебе благодарна. Ты носила тайну с большим самообладанием, но что тайна есть, что ты уже много месяцев находишься в особом, необычном состоянии, никак не могло укрыться от тех, кто любит тебя, и они смотрели на это со смешанными чувствами.
– Что значит «они»?
– Я говорю о себе. В последнее время ты заметно изменилась, мама, – то есть не изменилась, я неправильно говорю, ты осталась той же, и если я говорю «изменилась», то хочу этим сказать, что существо твое некоторым образом помолодело, – но это опять-таки неправильное слово, поскольку, разумеется, речь не может идти о настоящем и хоть сколько-то доказательном омоложении твоего милого облика. Но взгляду моему иногда, на доли секунды совершенно фантасмагорическим образом казалось, будто из-под твоего облика матроны вдруг проступает мама двадцатилетней давности, какой я тебя знала, когда была маленькой девочкой, – более того, мне вдруг казалось, я вижу тебя такой, какой никогда не видела, а именно какой ты, вероятно, выглядела, когда сама была маленькой девочкой. И этот обман чувств, если только это исключительно обман чувств – ведь имел же он в себе какую-то реальность? – должен был бы меня радовать, сердце мое должно было бы прыгать от радости, не правда ли? Но он не радовал, нет, а лишь отягощал сердце, и как раз в те доли секунды, когда ты молодела у меня на глазах, я испытывала по отношению к тебе сильнейшее сострадание. Ибо одновременно видела, что ты страдаешь и что фантасмагория, о которой я говорю, не только связана с твоим страданием, а и есть его выражение, проявление, «болезненная весна», как ты только что выразилась. Мама, дорогая, а как получилось, что ты так выразилась? Это не в твоем стиле. Ты простая душа, в высшей степени милая; глаза твои ясно и по-доброму смотрят на природу и мир, не в книги, ты никогда много не читала. До сих пор тебе не нужны были слова в сочетаниях, какие используют поэты, такие надрывные, больные слова, тем не менее ты их произносишь, значит, это некоторым образом свидетельствует о…
– О чем, Анна? Если поэтам нужны такие слова, так это именно потому, что они им нужны, поскольку чувства, переживания исторгают из них эти слова, и, вероятно, то же произошло со мной, кому такие слова, по твоему мнению, не пристали. Это неверно. Они приходят к тому, кто в них нуждается, тогда человек не испытывает перед ними робости, поскольку они сами изливаются из него. А твой обман чувств или фантасмагорию, которую, как тебе показалось, ты во мне усмотрела, я тебе объясню. Это воздействие его молодости. Это неимоверные усилия моей души сравниться с его молодостью, чтобы не погибнуть перед ее лицом от стыда и позора.
Анна заплакала. Они обнялись, слезы их смешались.
– И это, – с усилием произнесла хромая, – то, что ты сейчас сказала, хорошая моя, родственно иностранному слову, которым ты воспользовалась, и в твоих устах, как и слово это, имеет нечто от гибели. Этот несчастный морок губит тебя, я вижу это глазами, я слышу это в твоих речах. Мы должны стряхнуть его, положить ему конец, спасти тебя от него, любой ценой. С глаз долой, из сердца вон, мама. Дело только за решением, спасительным решением. Он не должен больше к нам ходить, нужно рассчитать его. Этого недостаточно. Ты видишь его в свете. Хорошо, тогда нужно уговорить его уехать из города. Я поговорю с ним, по-дружески, упрекну, что он здесь засиделся, застоялся, Дюссельдорф освоил и нечего ему торчать тут до бесконечности, Дюссельдорф – еще не вся Германия, которую он должен узнать лучше, глубже; Мюнхен, Гамбург, Берлин – они тоже существуют и тоже просятся в обкатку, нужно быть подвижнее, пожить там, сям, прежде чем вернуться на родину и избрать настоящую профессию, в чем состоит его естественный долг; чего строить из себя в Европе искалеченного преподавателя английского?.. Я сумею донести это до его сознания. А если он не захочет и упрется в Дюссельдорф, где у него все-таки связи, что ж, мама, тогда уедем мы. Оставим дом и переселимся в Кельн, во Франкфурт, в какое-нибудь красивое место в Таунусе, и все, что тебя мучило и чуть не погубило, ты оставишь здесь и забудешь благодаря тому, что не будешь больше видеть. Только не видеть – это верное средство, потому что не бывает так, чтоб нельзя было забыть. Можешь называть позором, что человек забывает, но он все-таки забывает, поверь. И будешь наслаждаться природой в Таунусе и снова станешь нашей старой доброй мамой.
Так говорила Анна, с большой настойчивостью, но все совершенно напрасно.
– Погоди, Анна, погоди, ни слова больше, что ты такое говоришь, я не могу этого слышать! Ты плачешь вместе со мной, твоя забота полна любви, но то, что ты говоришь, твои предложения, они невозможны, они мне отвратительны. Изгнать его? Отослать? Куда завела тебя твоя заботливость! Ты говоришь о прекрасной природе, но своими немыслимыми требованиями бьешь ее по лицу, ты хочешь, чтобы я ударила ее по лицу, задушив болезненную весну, которой она чудесным образом одарила меня! Какой это был бы грех, к тому же какая неблагодарность, какое предательство по отношению к ней, к природе, и какое отступление от веры в ее благое всемогущество! Помнишь Сару, как та согрешила? Она рассмеялась про себя, стоя у входа, и сказала: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие вожделение? И господин мой стар». Тогда сказал в сердцах Бог, Господь: «Отчего это рассмеялась Сара?» По моему мнению, она рассмеялась не столько из-за своего собственного иссякшего возраста, сколько потому, что и Авраам, ее господин, был так стар и в летах преклонных, уже девяносто девять. Какая женщина не рассмеялась бы при мысли об утолении вожделения с девяностодевятилетним, хотя любовная жизнь мужчин и не так строго ограничена, как женская. Мой же господин молод, цветуще-молод, и насколько же легче и завлекательнее мне мысль о том… Ах, Анна, верное мое дитя, я имею сие вожделение, постыдное, скорбное вожделение в крови, в желаниях и не могу отделаться от него, не могу бежать в Таунус, а если ты уговоришь уехать Кена, – мне кажется, я возненавижу тебя до самой смерти!
Велика была боль, с какой Анна слушала эти безудержные, опьяненные слова.
– Моя дорогая мама, – подавленно сказала она, – ты очень взволнована. Сейчас тебе необходим покой и сон. Прими с водой двадцать капель валерианы, даже двадцать пять.
Это безобидное средство часто хорошо помогает. И смею тебя заверить, что по собственному почину не предприму ничего такого, чему противится твое чувство. Пусть это заверение послужит твоему спокойствию, ради которого я готова на все! Если я пренебрежительно говорила о Китоне, которого уважаю как предмет твоей привязанности, хотя должна бы проклинать его как источник твоих страданий, то ты поймешь: тем самым я лишь старалась способствовать тому, чтобы ты успокоилась. За доверие я бесконечно тебе благодарна и надеюсь, даже твердо верю, что признанием мне ты несколько облегчила душу. Возможно, оно станет предпосылкой твоего выздоровления… я хочу сказать, спокойствия. Эта любимая, жизнерадостная, такая дорогая всем нам душа придет в себя. Она любит, страдая… Ты не думаешь, что, скажем, со временем она могла бы научиться любить без страдания, в согласии с разумом? Видишь ли, любовь… – Анна говорила это, бережно ведя мать в спальню, чтобы накапать ей в стакан валерианы. – Любовь может таить в себе все, что угодно, столько всего покрывается ее именем, и все-таки она всегда остается собой! Например, любовь матери к сыну… Я знаю, Эдуард тебе не особенно близок… но эта любовь может быть очень искренней, очень страстной, она может мягко, но отчетливо отличаться от любви к ребенку того же пола и все же ни на секунду не выходить за рамки материнской. Что, если ты используешь тот факт, что Кен мог бы быть твоим сыном, дабы перевести испытываемую тобой нежность в материнство, на благо себе поселишь ее в материнском лоне?








