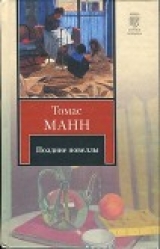
Текст книги "Поздние новеллы"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
Тут Сита вылезла из повозки и пошла, при этом бедра ее колыхались под обвивающим стан сари, к храму Матери, и, не успев и пятнадцати раз вдохнуть воздух, узрела ужаснейшее из деяний.
Она вскинула руки, глаза выступили у нее из орбит, сознание затемнилось, и она во весь рост грохнулась наземь. Но что толку от этого? Ужаснейшему деянию спешить было некуда, оно могло ждать, как ждало уже, покуда Сита воображала, что это она ждет; на любой срок оставалось оно таким, как было, и когда несчастная пришла в себя, ничто не изменилось. Она попыталась еще раз упасть в обморок, но благодаря ее здоровой натуре это ей не удалось. Итак, присев на камень и схватившись руками за голову, она неподвижным взглядом уставилась на отделенные головы, на крест-накрест лежащие тела и на медленно растекавшуюся подо всем этим кровь.
– О боги, духи и великие подвижники, – лепетали ее посинелые губы, – я пропала! Оба, оба зараз – ну, мне конец! Мой супруг и господин, с которым я ходила вокруг костра, мой Шридаман с высокомудрой головой и всегда горячим телом, кто в священные брачные ночи обучил меня всему, что я знаю в сладострастии, досточтимая его голова отделена от тела, нет его больше, он мертв! Мертв и другой, Нанда, который качал меня на качелях и был моим сватом, – вот он лежит, голова его отделена от окровавленного тела, «завиток счастливого теленка» еще виден на отважной груди – без головы, что же это такое? Я могла бы до него дотронуться, могла бы ощутить силу и красоту его рук и ляжек, если бы посмела. Но я не смею: кровавая смерть встала между ним и моим желанием, как прежде вставали честь и дружба. Они отсекли головы друг другу! По причине… я уже не таю ее от себя… Злоба их разгорелась, точно огонь, в который плеснули масла, они схватились, и свершилось это взаимное деяние – я так все и вижу! Но как же они, разъяренные, бились одним мечом? Шридаман, позабыв свою мудрость и кротость, обнажил меч и отсек голову Нанде, после чего тот… да нет же! Нанда по причине, от которой в моей беде меня еще и мороз по коже продирает, обезглавил Шридамана, а он… да нет же, нет! Перестань гадать, ничего у тебя не получается, одни кровавые потемки, а их и без того достаточно; одно мне ясно, что они поступили как дикари и нисколечко обо мне не думали. То есть, конечно, думали, из-за меня, бедной, разожглась их мужская распря, и меня от этого в дрожь бросает; но только из-за себя они думали обо мне, не из-за меня, не подумали ведь, что со мною будет, – в своем неистовстве они ничуть об этом не заботились, точь-в-точь как сейчас, когда они недвижно лежат без головы, а я сама должна думать, с чего же мне теперь начать! Начать? Да здесь кончать надо, а не начинать. Неужто же мне вдовой бродить по жизни да слушать хулу и поношения: эта, мол, женщина так плохо ходила за своим мужем, что он погиб. О вдовах и всегда-то худо отзываются, а сколько я еще сраму приму, когда одна явлюсь в дом моего отца и в дом моего свекра. Здесь только один меч, не может быть, чтобы они друг друга убили, – одним мечом двоим не управиться. Но есть еще третий человек – я. Будут, конечно, говорить, что я необузданная женщина, что я убила своего супруга и его названого брата – цепь доказательств замкнулась. Она, конечно, фальшивая, но зато законченная, звено к звену, и меня предадут огню, невинную. Нет, нет! – не невинную, стоило бы, конечно, налгать на себя, если б не все было кончено, а так это бессмыслица. Я вовсе не невинная, давно уже, а что касается необузданности, доля правды здесь есть – большая, очень большая доля! Только все это не так, как будут думать люди, а значит, есть на свете ошибочная справедливость? Вот тут-то я и забегу вперед, сама себя покараю. Я должна последовать за ними, больше мне ничего, ничего не остается! Меч, где уж мне с ним управиться этими ручками, они так малы и боязливы, что им не истребить тела, которому они принадлежат; оно хоть и набухло соблазнами, но все насквозь – слабость. Ах, жалко очень его прелести, и все же оно должно стать таким неподвижным и бездыханным, как эти оба, чтобы впредь не возбуждать похоти и ее не испытывать. Вот то, что непременно должно случиться, пусть даже число жертв возрастет до четырех. Да и что б он увидел в жизни, вдовий ребенок? Несчастья бы согнули беднягу, я уверена, что он был бы бледный и слепой, потому что я побледнела от горя в миг сладострастия и закрыла глаза перед тем, кто меня одарил им. Что делать! Это они предоставили мне. Смотрите же, как я сумею себе помочь!
Она встала, зашаталась из стороны в сторону, потом взбежала по ступенькам и, устремив взгляд в пустоту, помчалась через приделы храма обратно, на волю. Фиговое дерево росло перед святилищем, все увитое лианами. Она схватила одно зеленое вервие, смастерила из него петлю, просунула в нее шею и совсем уже собралась удушить себя.
VIII
Тут был ей голос из высей, и, несомненно, он мог принадлежать только Дурге-Деви, Неприкасаемой, Кали Темной, Матери мира. Это был низкий, грубый, матерински решительный голос.
– Что это ты задумала, глупая гусыня? – рек он. – Тебе, видно, мало, что кровь моих сынов, по твоей вине, стекает в яму, ты еще хочешь изуродовать мое дерево и превосходное мое порождение – твое тело – отдать на растерзание воронам вместе с милым, сладостным, тепленьким зернышком, которое всходит в нем? Ты что, индюшка, не приметила, что оно в тебя заложено и что ты с ношею от моего сына? Ежели ты не умеешь считать до трех в этих наших делах, то сделай одолжение, вешайся, да только не в моем дворе, а то будет похоже, что добрая жизнь кончается в мире из-за твоей бестолковости. Мудрецы мне все уши прожужжали глупыми своими домыслами, что человеческое бытие – это, мол, болезнь, ею заражаются в любовном пылу, а значит, так передают и в другие поколения, – а ты, дурища, устраиваешь мне здесь такие штуки! Вынимай голову из петли, не то заработаешь оплеуху!
– Святая Матерь, – отвечала Сита, – разумеется, я повинуюсь тебе. Я слышу твой громовый голос из-за облаков и тотчас же прерываю дело, которое затеяла с отчаяния, раз ты повелеваешь. Одно только должна я сказать себе в оправдание: напрасно ты считаешь, что я не понимала своего положения и не заметила, что ты укрепила во мне росток и благословила меня. Я только думала, что он будет теперь бледным, слепым, несчастненьким.
– Ты уж, пожалуйста, предоставь мне печься об этом! Во-первых, то, что ты говоришь, – глупое бабье суеверие, во-вторых, в моей пастве должны быть и бледные, слепые, несчастненькие. Ты лучше чистосердечно признайся, почему там, в храме, прилила ко мне кровь моих сынов, они оба, каждый на свой лад, славные были ребята! Не скажу, что их кровь была мне неприятна, но на некоторое время я еще охотно оставила бы ее течь в их достойных жилах. Говори же! Да смотри, говори правду! Ты, надеюсь, понимаешь, что от меня и так ничего не укроется.
– Они убили друг друга, святая Матерь, а меня оставили сидеть и дожидаться. Впали в ярость из-за меня и одним и тем же мечом отсекли…
– Вздор! Только баба может наболтать такую ерунду! Они сами, в отважном своем благочестии, один вслед за другим, принесли себя мне в жертву, вот тебе и весь сказ! Но почему они это сделали?
Прекрасная Сита разрыдалась и сквозь слезы начала говорить:
– Ах, святая Матерь, я знаю и не запираюсь, что виновата я, но что тут поделаешь? Такое уж стряслось несчастье, неизбежное, – конечно, можно сказать, рок, если тебе не неприятно, что я так выражаюсь (тут она всхлипнула несколько раз подряд), – это же была беда, змеиный яд, что я превратилась в женщину из хитроумно запертой, ничего не смыслящей девчонки, что мирно вкушала пищу у отцовского очага, прежде чем познать мужчину, который ввел ее в твои дела. Ах, твое дитя словно объелось бешеной вишни! Совсем, совсем оно переменилось! С той поры грех, в необоримой своей сладости, стал владыкой его раскрывшегося чувства. Не то чтобы я хотела вернуть эту резвую, хитроумную непочатость, которая была неведением, – нет, этого я не хочу, да это и невозможно, даже на краткий миг. Я ведь не знала этого человека в то время, не видела его, уж конечно, нисколько о нем не думала, и моя душа была свободна от него и от жаркого желания прознать его тайны, так что я даже подшучивала над ним, а вообще-то смело и спокойно шла своей дорогой. Юноша явился к нам, с плоским носом, черноглазый, дивного сложения, Нанда из «Благоденствующих коров»; в праздник он качал меня на качелях до самого солнца, и оно меня не жгло. От прикосновений воздуха мне было жарко, больше ни от чего, и в знак благодарности я щелкнула его по носу. Потом он вернулся уже сватом Шридамана, своего друга, после того как наши родители договорились. Тут уже все было чуточку по-другому, – может, беда и коренится в тех днях, когда он сватался от имени того, кто должен был меня обнять как супруг; но тот еще не был здесь – только другой был.
Он был все время, перед свадьбой и во время свадьбы, когда мы ходили вокруг костра, и потом тоже. Днем, разумеется, а не ночью, ночью я спала с его другом, господином моим Шридаманом, и когда в брачную ночь мы спознались, точно божественная чета на усыпанном цветами ложе, он отомкнул меня своей мужскою силой, положил конец моему неведенью, потому что сделал меня женщиной и отнял у меня лукавую холодность девичьих лет. О, это он сумел, да и как же иначе, ведь он был твой сын и знал, как сделать радостным любовное соитие; что я его любила, почитала и боялась – об этом и говорить не приходится, – ах, святая Матерь, не такая уж я испорченная женщина, чтобы не любить своего господина и супруга и тем паче не бояться и не почитать его тонкую-претонкую, мудрую голову с мягкой такой бородой, точь-в-точь как его глаза, и веки, и тело, на котором все это держится. Только я хоть и почитаю его, а все время себя спрашиваю: да разве пристало ему сделать из меня женщину и просветить мою бойкую холодность страшной и сладостной тяжестью чувств? Мне все казалось, что не его это дело, что это его недостойно, низко для его мудрости, и в брачные ночи, когда его плоть восставала, мне все казалось, что для него это постыдно, унизительно для его высокомудрия – и в то же время срам и унижение для меня, пробудившейся.
Вечная Матерь, так оно было, брани меня, покарай меня! Я, твое создание, в этот страшный час без утайки признаюсь тебе, как обстояли дела, хоть знаю, что тебе и без того все открыто. Любовная страсть не подобала Шридаману, моему благородному супругу, его голове и даже телу, которое в этих делах – тут ты со мной согласишься – самое главное, совсем не подобало телу, что сейчас столь ужасно разъединено с принадлежащей к нему головой. Он даже не умел так сделать, чтобы я всем сердцем предалась любовному соитию; пробудить-то он меня пробудил для своего вожделения, но моего не утолял. Умилостивься, святая Матерь! Твое пробужденное создание больше вожделело, чем вкушало счастье, и желание мое было сильнее утехи.
А днем, и вечером тоже, перед тем как идти спать, я видела Нанду, козьеносого нашего друга. И не только видела, я на него смотрела, как научили меня священные узы брака смотреть на мужчину, его испытывать; а потом мне в душу закрался вопрос: сумеет ли он сделать так, чтобы мое сердце билось при любовном соитии с ним, который и говорить-то не умеет так правильно, как Шридаман, и еще, как совершится божественная встреча с этим, а не с другим? Да, так думала о своем супруге я, несчастная, порочная, непочтительная! И еще говорила себе: все одно и то же! Ну где уж Нанде! Он ведь только что приятный с лица и на разговор, а твой господин и супруг – человек, можно сказать, высоких достоинств, так где уж тут отличиться Нанде? Но мне это не помогало; вопрос о Нанде и мысль: как же под стать, без всякого стыда и унижения, будет любовное соитие его голове и членам и что он, значит, и есть тот, кто установит равновесие между моим счастьем и моей пробужденностью, – она, эта мысль, засела мне в плоть и кровь, словно крючок в рыбью глотку, и о том, чтобы его вытащить, нечего было и мечтать: ведь крючок-то был с закорючкой. Ну как мне было вырвать из души и тела вопрос о Нанде, если он всегда был при нас? Шридаман и он, хоть и совсем разные люди, никак не могли обойтись друг без друга. Каждый день я его видела, а ночью воображала, что это он со мною рядом, а не Шридаман. Когда я смотрела на его грудь, отмеченную «завитком счастливого теленка», на узкие его бедра и совсем маленький зад (у меня-то ведь зад большой, а у Шридамана чресла и зад как раз середка между мной и Нандой), я делалась сама не своя. Когда его рука касалась меня, все волоски на моем теле дыбом вставали от блаженства. Когда я воображала, как дивные ноги, на которых он ходил, от колен до ступни поросшие черными волосами, обовьют меня в любовной игре, у меня дух занимался и груди набухали от сладкой мечты. День ото дня становился он мне милее, и я только дивилась прежней немыслимой своей неразбуженности, когда он качал меня на качелях, и ни он сам, ни запах горчичного масла, что источала его кожа, ничуть меня не трогали: как раджа гандхарвов Читраратха, являлся он мне в неземном сиянии, как бог любви в своей красоте и юности, такой, что голова шла кругом, весь в дивных украшениях, цветочных цепях, в благоухании и любострастной прелести – Вишну, сошедший на землю в образе Кришны.
Потому, когда, бывало, Шридаман ночью прильнет ко мне, я бледнела от горя, что это он, а не другой, и еще закрывала глаза, чтобы думать – это Нанда меня обнимает. Иной раз ничего я не могла с собой поделать и в любовном пылу бормотала имя того, кто должен был бы, будь на то моя воля, распалять меня, так что Шридаман понимал: я прелюбодействую в нежных его объятиях; ведь я, на свою беду, говорю во сне, и, конечно, его оскорбленному слуху все стало ясно из моей болтовни. Я сужу по глубокой печали, которой он предался, и еще по тому, что он меня оставил в покое, больше ко мне не притрагивался. Нанда тоже ко мне не притрагивался – не потому, что его ко мне не тянуло, еще как тянуло, уж я-то знаю и не позволю себе клеймить его подозрением, что он не изо всех сил ко мне тянулся! Нерушимая верность другу – вот почему он бежал искушения! И я, верь мне, вечная Матерь, – я, во всяком случае, в это верю, – я тоже, если бы эта пытка наконец обернулась попыткой, спровадила бы его из уважения к мудрой голове моего супруга. А так я вообще осталась без мужчины, и мы, все трое, только и знали, что жить в воздержании.
Вот при таких-то обстоятельствах, о Матерь всего сущего, мы и тронулись в путь к моим родителям и, сбившись с дороги, набрели на твой дом. На немножко, сказал Шридаман, зайдет он в храм, чтобы мимоездом воздать тебе почести. Но в твоей подземной бойне, теснимый жизнью, совершил наистрашнейшее и лишил свои члены достопочтенной головы, или, вернее, отнял члены у высокомудрой своей головы, а меня вверг в унылое вдовство. Горе оттого, что я от него отпала, да еще забота обо мне, преступнице, были причиной страшного деяния. Ты уж прости мне, великая Матерь, правдивое слово: не тебе принес он себя в жертву, а мне и другу, чтобы могли мы сполна вкусить любовных радостей. А Нанда, который пошел его искать, не захотел иметь на совести эту жертву и тоже отсек голову от своего кришноподобного тела, так что ничего оно теперь не стоит. Но ничего – ровно ничего! – не стоит теперь и моя жизнь: я тоже словно обезглавленная – без мужа, без друга. Наверно, я провинилась в прошлой жизни и наказана этой бедой. И как же ты после всего этого удивляешься, что я собралась положить конец моей нынешней жизни?
– Ты любопытная гусыня и больше ничего, – рекла Матерь громовым заоблачным голосом. – Просто смешно, что ты со своим любопытством вытворила из этого Нанды. С такими руками и на таких ногах по земле бегают миллионы моих сыновей, а ты из него сотворила себе гандхарву! В конце концов, это даже трогательно, – добавил божественный голос уже несколько мягче. – Я, Матерь, считаю, что любострастие, в сущности, трогательно и что его очень уж возвеличили. Но порядок, конечно, должен быть! – И голос вдруг опять сделался грубым и раскатистым. – Я есмь, конечно, беспорядок и именно потому должна со всей решительностью требовать порядка и блюсти нерушимость брачного союза, это ты себе заруби на носу! Все ведь полетит вверх тормашками, если я дам волю своему добродушию! Но вот тобой я очень недовольна. Устраиваешь мне здесь фокус – покусы да еще говоришь дерзости. Ты изволила заметить, что мои сыны не мне принесли себя в жертву, не затем, чтобы ко мне прилила их кровь, а один, мол, тебе, второй же – первому. Что это еще за тон? Пусть-ка попробовал бы человек отрубить себе голову – не горло перерезать, а по-настоящему, как того требует жертвенный обряд, срезать себе голову с плеч – вдобавок еще человек просвещенный, как твой Шридаман, который и в любви-то не большой мастер, – если бы не было у него нужных для этого поступка силы и неистовства, которые я в него влила! Посему я запрещаю тебе этот тон, независимо от того, есть в твоих словах доля правды или нет. Ибо правда здесь может значить, что их поступок был продиктован смешанными причинами, иными словами: это темный поступок. Не только затем, чтобы снискать мою милость, принес мой сын Шридаман себя мне в жертву, но еще с горя по тебе, может быть, и не отдав себе в этом отчета. А жертва маленького Нанды явилась лишь неизбежным следствием Шридаманова деяния. Потому я и не чувствую особой склонности принять их кровь и взглянуть на все это как на жертву. Если я отменю эту двойную жертву и все поставлю на свои места, могу я надеяться, что впредь ты будешь вести себя прилично?
– Ах, святая и милая Матерь! – вскричала Сита сквозь слезы. – Если ты можешь это совершить, можешь обратить страшные события вспять, вернуть мне мужа и друга, так что все опять будет по-старому, – как же я стану благословлять тебя, я даже во сне сдержу свой язык, чтобы больше не огорчать благородного Шридамана! Словами не скажешь, как я буду тебе благодарна, если ты это устроишь и все будет как было. Потому что, если все и обернулось очень печально, так что я, когда стояла у тебя между колен и смотрела на страшную картину, ясно поняла, что иначе это и не могло кончиться, то как же было бы замечательно, если бы твоей мощи достало на то, чтобы отменить такой конец, ведь в следующий раз все могло бы окончиться куда благополучней.
– Что значит «достало», «устроишь»? – отвечал божественный голос. – Надеюсь, ты не сомневаешься, что для моей мощи это сущий пустяк? С тех пор как стоит свет, я не раз это доказывала. Хоть ты этого и не заслуживаешь, но мне тебя жалко вместе со слепым и бледным росточком в твоем лоне, и обоих юнцов вон там тоже жалко. Посему навостри-ка уши и внимай тому, что я скажу! Придется тебе оставить эту лиану в покое и вернуться в мое святилище, пред мой лик и к зрелищу, которое ты там устроила. Там уж не изволь корчить из себя неженку и падать в обморок; ты возьмешь головы за чуб и опять пристроишь их к злосчастным туловищам. Если ты при этом благословишь надрезы жертвенным мечом, сверху вниз, и дважды произнесешь мое имя – можешь называть меня Дурга, или Кали, или даже попросту Деви, это дела не меняет, – то юнцы воскрешены. Ты меня поняла? Головы к телам подноси не слишком быстро, несмотря на сильное притяжение, которое возникнет между головой и туловищем, дабы у пролитой крови хватило времени хлынуть вспять и вновь влиться в жилы. Это произойдет со сверхъестественной быстротою, но какое-то мгновение потребуется и здесь. Ты, надеюсь, меня слышала? Ну, беги! Да смотри, сделай свое дело аккуратно, а то заторопишься и неправильно приставишь головы, и будут они оба ходить с лицом на затылке и народ смешить. Иди! Если прождешь до завтра, будет поздно.
IX
Прекрасная Сита ничего не ответила, даже «спасибо» не сказала, она вскочила и пустилась бежать так быстро, как это ей позволяло сари, обратно в храм Матери Кали. Она пробежала предхрамие, а затем предвратный придел, ворвалась в материнское лоно и перед наводящим ужас ликом богини с лихорадочной поспешностью взялась за предписанный ей урок. Сила притяжения между головами и туловищами оказалась не столь велика, как о том говорила Деви. Ощутимой она, конечно, была, но не настолько, чтоб представлять опасность для своевременного возвращения крови вверх по желобам, что происходило с волшебной быстротой под частый-частый чавкающий рокот. Благословение мечом и имя богини, которое Сита с едва сдерживаемым ликованием выкрикнула даже по три раза на каждого воскрешаемого, безошибочно сделали свое дело: с крепко сидящими головами без порезов и шрамов восстали перед нею оба юноши, взглянули на нее, потом каждый глянул вниз на свое тело, вернее, сделав это, глянул на тело другого, ибо, чтоб увидеть себя, ему надо было глядеть на другого – такое уж у них получилось воскресение.
Сита, что ты натворила? Или что случилось? Или чему ты дала случиться, торопыга? Одним словом (попробуем поставить вопрос так, чтобы граница между поступком и случаем осталась подобающе зыбкой): что с тобой стряслось? Волнение, которое тебя обуяло, вполне понятно, но неужто ты не могла пошире раскрыть глаза, приступая к этому делу? Нет, головы своим юнцам ты не насадила задом наперед, лица у них не там, где должен быть затылок, – этого с тобою не случилось. Но, – пора уже сказать, как ты оплошала, назвать по имени невообразимое приключение, несчастье, беду, напасть, или как там теперь вы все трое захотите это называть, – голову одного ты насадила другому и еще накрепко ее приблагословила: голову Нанды – Шридаману, если туловище его без самого главного еще можно именовать Шридаманом, и голову Шридамана – Нанде, ежели безголовый Нанда еще оставался Нандой, – короче говоря, не прежними восстали из мертвых муж и друг, а, так сказать, в обратном порядке: узнаешь ли ты Нанду – если это Нанда с простонародным своим лицом – в рубахе и в подобии широких шаровар, облекающих изящное, с жирком, тело Шридамана; а Шридаман – если можно этим именем назвать фигуру, увенчанную нежной его головой; вот он стоит перед тобою на стройных и сильных ногах Нанды с «завитком счастливого теленка» под жемчужным ожерельем на «его» широкой и загорелой груди.
Какая напасть – из-за неразумной поспешности! Принесшие себя в жертву жили, но жили подмененные: тело мужа было увенчано головою друга, на теле друга красовалась голова мужа. Не диво, что несколько минут кряду в скалистом лоне отдавались изумленные возгласы этих троих. Юноша с головою Нанды, ощупывая себя, ощупывал тело, некогда бывшее незначащим придатком к мудрой голове Шридамана; а этот последний (если судить по голове), полный изумления, как свое собственное трогал тело, что в сочетании с миловидной головою Нанды играло когда-то первостепенную роль. Что касается учредительницы этого нового статуса, то она с криками восторга и отчаяния, кляня себя и взывая о прощении, металась от одного к другому, попеременно их обнимала и наконец бросилась им в ноги, чтобы, то всхлипывая, то смеясь, поведать о своих мучениях и ужасной оплошке.
– Простите меня, если можете! – восклицала Сита. – Прости меня, любезный Шридаман, – почтительно обратилась она к его голове и скользнула взглядом по телу Нанды, приданному этой голове, – прости и ты меня, Нанда. – Она опять воззвала к соответствующей голове, которая, несмотря на ее незначительность, и теперь представлялась ей самым главным, тело же Шридамана, приданное этой голове, несущественным привеском. – Ах, вы должны найти в себе силы простить меня, если вы подумаете об ужасном деянии, на которое у вас достало сил в прошлом вашем воплощении, и об отчаянии, в которое вы меня ввергли, подумаете, что я совсем уже собралась удушиться, а затем у меня состоялся головокружительный разговор с громовым заоблачным голосом самой Неприкасаемой, то вы поймете, что, выполняя ее веления, я была не в себе – у меня все плыло перед глазами, и я не отдавала себе отчета, что у меня под рукой – чья тут голова и чье тело… Я понадеялась на удачу, понадеялась, что свое найдет свое. Наполовину можно было подумать, что я все делаю правильно, и наполовину, что нет, – так вот все у меня и сошлось, да и у вас так все сошлось и прилепилось… Откуда же было мне знать, такая ли должна быть сила притяжения между головой и телом? Притяжение-то было, даже очень сильное, но в другом сочетании оно, возможно, было бы и еще сильнее. Неприкасаемая тут тоже немножко виновата, она меня только предостерегала, чтобы я не насадила вам головы задом наперед, об этом я и заботилась; что все может получиться так, как получилось, высокая Матерь не подумала! Скажите, вы в ужасе от такого воскресения? Вы навеки меня проклинаете? Тогда я пойду вон из храма и завершу деяние, которое Бесконечная повелела мне прервать. Или вы в силах меня простить и считаете возможным, что в тех обстоятельствах, которые создал слепой рок, для нас троих может начаться новая, лучшая жизнь, – я говорю лучшая, потому что прежнее наше положение так печально закончилось, и если бы оно восстановилось, то, по человеческому разумению, разве все опять не пришло бы к тому же самому? Ответь мне, Шридаман! Просвети меня, благородно сложенный Нанда!
Соревнуясь в милосердии, обмененные юноши склонились над нею, подняли ее, один руками другого, и все трое, смеясь и плача, обнялись, являя собой весьма трогательную группу. При этом стали очевидны два обстоятельства: первое – что Сита поступила правильно, обратившись к воскрешенным по их головам, ибо от голов все зависело, что, несомненно, головы определяли сущность, неповторимое «я», и Нандой чувствовал и сознавал себя тот, на чьих узких и светлых плечах покоилась простонародная голова сына
Гарги, а Шридаманом вел и держал себя тот, чьи великолепные, смуглые плечи несли на себе голову потомка брахманов; и второе – что оба они и вправду не гневались на Ситу за ее оплошку, напротив – от души радовались новым своим обличьям.
– Предпошлем, – сказал Шридаман, – что Нанда не стыдится тела, которое ему досталось, и не очень сожалеет о «завитке счастливого теленка» – это было бы мне огорчительно; я же со своей стороны могу только сказать, что отныне почитаю себя счастливейшим человеком. Я всегда мечтал именно о таком телесном воплощении, и когда я ощупываю мускулы на своих руках, смотрю на свои плечи или опускаю глаза, чтобы видеть великолепные свои ноги, меня обуревает неукротимая радость и я говорю себе, что отныне совсем по-иному, высоко, стану носить свою голову, во-первых, от сознания своей силы и красоты, а во-вторых, потому, что склонности моего духа будут теперь находиться в полном согласии с моим телесным складом, и уже нельзя будет счесть неподобающим или извращенным, если я стану под деревом ратовать за опрощение, за шествие коров вокруг горы Пестрая Вершина взамен суемудрых ритуалов, ибо теперь это мне подобает – чужое отныне стало моим. Милые друзья, есть, конечно, и доля грусти в том, что чужое стало моим и нет у меня больше чего желать, чем восхищаться, разве только самим собой, и еще в том, что я более не служу другим, когда служение Горе превозношу над праздником Индры, а только тому, кем я стал. Да, признаюсь, мне немного грустно, что я теперь тот, каким всегда хотел быть. Но эта печаль далеко отступает перед мыслью о тебе, сладостная Сита, мыслью, которая для меня куда важнее размышлений о себе самом; я думаю о преимуществах, какие ты извлечешь из моего нового обличья, и заранее радостно ими горжусь. И что касается меня, то все это чудо я могу только благословить словами: «Сья, да будет так!»
– Ты мог бы, правда, сказать «Сьят!» после столь отлично построенной речи, – заговорил наконец Нанда, потупившийся при последнем слове друга, – не позволив своим устам подвергнуться воздействию моих простецких членов, из-за которых я тебе нисколько не завидую, потому что они слишком даже долго были моими. Я тоже, Сита, ничуть на тебя не сержусь и в свой черед говорю «Сьят!» об этом чуде, потому что я всегда желал для себя такого изящного тела, какое мне теперь досталось. И когда я в будущем стану защищать премудрое учение Индры против поборников опрощения, мне это будет больше к лицу или, скажем, к телу, которое для тебя, Шридаман, всегда было второстепенным, для меня же самым главным. Я и не удивляюсь, что наши головы и тела, впопыхах соединенные тобою, Сита, обладали такой силой взаимного притяжения; эта сила свидетельствовала о дружбе, которая связывала нас со Шридаманом, и я могу только надеяться, что ей не положит конец все случившееся. Но вот одно я должен сказать: моя бедная голова волей-неволей должна думать о теле, на которое она насажена, и отстаивать его права, поэтому я удивлен и огорчен, Шридаман, что ты как о чем-то само собой разумеющемся обмолвился о супружеской будущности Ситы. В моей голове это не укладывается, и ничего тут само собой не разумеется; напротив, это еще большой вопрос, и моя голова отвечает на него, видно, по-другому, чем твоя.
– Как так? – в один голос воскликнули Сита и Шридаман.
– «Как так»? – повторил субтильный друг. – Не понимаю, что тут спрашивать? Для меня всего важнее тело, и, значит, я раздумываю о смысле брака, в котором оно тоже всего важнее, потому что дети родятся от тела, а не от головы. И хотел бы я посмотреть, кто теперь станет оспаривать, что я отец зернышка, созревающего в утробе Ситы.
– Сумасбродная твоя голова! – крикнул Шридаман и в сердцах дернулся своим могучим телом. – Подумай немножко, кто ты есть! Нанда ты или кто-нибудь еще?
– Конечно, я Нанда, – отвечал тот, – но раз я по праву называю это мужнее тело своим и говорю о нем не иначе, как «я», то и Сита, прекрасная, куда ни глянь, по праву – моя жена, а ее зернышко – мое творение.
– Ты полагаешь? – отвечал Шридаман дрогнувшим голосом. – Полагаешь, что так? Я бы не решился это утверждать в пору, когда твое нынешнее тело еще было моим и покоилось подле Ситы. Ведь, собственно, она не его обнимала, что, к величайшему моему горю, явствовало из ее шепота и бормотания, а то, которое я теперь называю своим. Нехорошо с твоей стороны, друг мой, что ты коснулся этой прискорбной истории и меня заставил говорить о ней. Ну можно ли так решительно утверждать: это-де моя голова, или, вернее, мое тело, и делать вид, что ты сделался мною, а я тобой? Совершенно ясно, что если бы здесь имел место обмен и ты сделался бы Шридаманом, супругом Ситы, я же стал бы Нандой, то это бы значило, что никакого обмена не произошло и все осталось по-старому. Меж тем счастливое чудо как раз в том и состоит, что под руками Ситы произошел обмен только голов и членов, которому радуются наши мыслящие головы, ибо он послужит к радости пышнобедрой Ситы. Ты же, упрямо ссылаясь на свое супружеское тело и присваивая себе супружеские права, мне же отводя место друга дома, выказываешь непростительное себялюбие, думаешь только о своих сомнительных правах, а не о счастье Ситы и о тех преимуществах, которые воспоследуют для нее из этого обмена.








