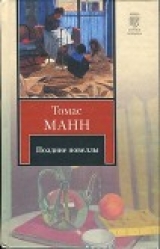
Текст книги "Поздние новеллы"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
– А почему, скажи на милость, теперь ты, в свою очередь, меня жалеешь? – поинтересовался Шридаман.
– Потому что ты читал Веды и кое-что усвоил из познания сущего, – отвечал Нанда, – и при этом еще легче и охотнее подпадаешь под власть ослепления, чем тот, кто этого не делал. Потому-то у меня мурашки бегут по коже от растроганности, и я испытываю к тебе радостное сострадание. Ведь где хоть чуть-чуть внятно, как в этом уголке например, там ты позволяешь мнимой умиротворенности вмиг ослепить тебя, в мечтах уносишься за пределы шести валов глада и жажды и воображаешь себя в сердцевине коловорота жизни. А между тем эта внятность и то, что в тишине можно столь многому внять, как раз и есть признак того, что коловорот здесь происходит еще куда более бурно и твое ощущение умиротворенности всего-навсего воображение. Эти птицы воркуют лишь перед тем, как предаться любви, эти пчелы, эти стрекозы и крылатые жуки носятся в воздухе, гонимые голодом, в траве все приглушенно гудит от тысячекратной борьбы за существование, и вон те лианы, что так грациозно обвивают стволы деревьев, стремятся лишь высосать из них сок и дыхание жизни, чтобы самим сделаться жирнее и жизнеспособнее. Вот истинное познание сущего.
– Я и сам это знаю, – отвечал Шридаман, – и не поддаюсь ослеплению или поддаюсь лишь на миг и по доброй воле. Ибо существует не только истина и разумное познание, но еще и сравнительное наблюдение человеческого сердца, а сердце умеет читать письмена явлений не по их первому, трезвому смыслу, но еще и по второму, более высокому, умеет использовать эти письмена как средство прозревать чистое и духовное. Как бы ты пришел к ощущению мира и счастья душевного покоя, если бы образ Майи, которая сама по себе, конечно, отнюдь не покой и счастье, не служил тебе путеводной нитью? Человек благословен тем, что ему дозволено через действительность прозреть истину, а наша речь для этого дозволения, для этого дара вычеканила слово «поэзия».
– Ах, ты вот как полагаешь, – засмеялся Нанда. – Если тебя послушать, то получается, что поэзия – глупость, вновь наступившая после просветления разума, и при виде глупца возникает вопрос: что он – еще глуп или глуп вторичной глупостью! Надо сказать, что вы, умники, немало затрудняете жизнь нашему брату. Не успеешь подумать, что самое важное набраться разума, как уже узнаешь, что все дело в том, чтобы снова стать глупцом. Лучше бы вы нам не показывали этой новой, более высокой ступени, чтобы не отнять у нас смелости взобраться на предыдущую.
– От меня ты не слыхал, что нужно набираться разума. Давай-ка лучше растянемся на нежной зелени травы и, заморив червячка, будем сквозь ветви глядеть на небо. Это удивительное познание зрением; лежишь на спине, что, собственно, не понуждает тебя поднимать глаза, но взор твой волей-неволей устремлен кверху, и ты смотришь на небо, как смотрит на него сама матерь-земля.
– Сья, да будет так, – проговорил Нанда.
– Сьят! – поправил его Шридаман в согласии с законом чистой и правильной речи. И Нанда посмеялся над собою и над ним.
– Сьят! – передразнил он его. – Эх ты, буквоед, оставь уж мне мою народную речь! Если я заговорю на санскрите, это будет как сопение молодой коровы, которой продели в нос веревку.
Теперь уже Шридаман от души посмеялся над этим простодушным сравнением; затем оба они растянулись на траве и стали смотреть меж ветвей и тихонько покачивающихся крупных, как кисти, соцветий в синеву Вишны, пучками листьев отмахиваясь от красно-белых мух, называемых «любимцами Индры», которые вились над ними. Нанда лег на спину не потому, что так уж его тянуло наподобие матери-земли созерцать небо, а просто из уступчивости. Впрочем, долго он не выдержал и вскоре с цветком в зубах уже сидел на корточках, как подобает дравиду.
– Ну и назойлив же этот любимец Индры, – заметил он, говоря о бесчисленных мухах, жужжавших вокруг них, как о едином существе. – Падок, видно, на мое горчичное масло. А может быть, его покровитель, «едущий на слоне», господин над молниями и великий бог, повелел ему мучить нас в наказание – ты сам знаешь за что.
– Тебя это не может коснуться, – возразил Шридаман, – ты ведь под деревом был за то, чтобы осенний праздник благодарения Индры свершался на старый или, лучше сказать, на новый лад, в соответствии с духовными обычаями и брахманскими ритуалами, и тебе остается только умыть руки в сознании своей невиновности, ибо на совете мы ведь решили иначе и отреклись от служения Индре, чтобы предаться новому, вернее, старому, благодарственному служению, больше подобающему нам, сельским жителям, и более естественному для нашего благочестия, чем вся эта премудрая тарабарщина брахманских церемоний в честь Индры, громовержца, сокрушившего крепости наших предков.
– Как ты говоришь, так оно и есть, – отвечал Нанда, – но у меня все еще тревожно на душе; правда, под деревом я откровенно высказал свое мнение об Индре, но все же я боюсь, что он не захочет вникнуть в такие мелочи и чохом покарает всю «Обитель благоденствующих» за то, что у него отняли его празднество. Вот вдруг людям втемяшилось, что с праздником благодарения Индры что-то не так, по крайней мере для нас, пастухов и землепашцев, и что-де благочестивое упрощение нам сподручнее. Что нам до великого Индры? Понаторевшие в Ведах брахманы под неустанные заклинания приносят ему жертвы. А мы захотели приносить жертвы коровам, лесным пастбищам и горам – они-де для нас истинные и подобающие божества, мы, дескать, и прежде чтили их, еще до того, как пришел Индра и, оказав предпочтение пришельцам, сокрушил крепости исконных жителей – наших предков; мы толком даже и не знаем, как это делается, но это, мол, все равно всплывет в нашей памяти, вернее, сердце нам подскажет. Мы хотим служить горному пастбищу Пестрая Вершина здесь, поблизости, и отправлять благочестивые обряды, новые лишь постольку, поскольку мы почерпнем их из памяти сердца. Горному пастбищу будем мы приносить в жертву чистых животных и такие даяния, как кислое молоко, цветы, плоды и сырой рис. И еще мы изукрасим венками из осенних цветов стада коров, и пусть они бредут вокруг горы, повернувшись к ней правым боком, и быки пусть ревут в ее честь громовым голосом туч, чреватых дождем. Это, мол, и будет наше старо-новое служение горам. А чтобы брахманы тому не воспротивились, будем сзывать их сотнями и кормить, велим принести молоко из всех загонов, пусть наедаются до отвала неснятым молоком и рисом, сваренным в молоке, и они будут довольны. Так многие говорили поддеревом, одни с ними соглашались, другие нет. Я поначалу был против служения горам, потому что боюсь и очень почитаю Индру, который сокрушил крепости черных, и безразлично отношусь к воскрешению того, о чем мы ничего толком не знаем. Но ты заговорил чисто и правильно – под «правильным» я подразумеваю чистоту твоей речи, – настаивая на обновлении празднеств в честь гор, и пренебрег Индрой; тогда и я умолк. Если те, что ходили в школу и кое-чего понабрались из познания сущего, думалось мне, восстали против Индры и ратуют за опрощение, то где уж нам говорить; нам остается только молча надеяться, что великий пришелец и сокрушитель крепостей будет милосерден, не посетует на угощение целой толпы брахманов и не покарает нас засухой или страшными ливнями. Возможно ведь, подумал я еще, что он и сам уже тяготится своим праздником и для разнообразия хочет, чтобы его заменили жертвоприношением горе и шествием коров. Мы, простой народ, с благоговением относились к Индре, но, может, он сам к себе теперь его не испытывает. Я очень радовался обновленному празднику и с удовольствием помогал гнать коров вокруг горы. Но еще раньше, чем ты исправил мою простонародную речь и захотел, чтобы я сказал «сьят», мне подумалось: как странно, что ты в правильных, ученых словах ратуешь за простоту.
– Тебе не в чем меня упрекнуть, – отвечал Шридаман, – ибо ты на народный лад заступался за суемудрые ритуалы брахманов, и это радовало тебя, делало тебя счастливым. Но я должен тебе сказать, что еще большее счастье правильными и продуманными словами ратовать за простоту.
III
Тут они на время замолчали. Шридаман лежал все в том же положении и смотрел вверх, в небо. Нанда, обняв сильными руками поднятые колени, глядел сквозь деревья и кустарник высокого берега на место омовений Кали, Матери.
– Тсс… Силы небе-бесные, – вдруг зашептал Нанда часто-часто и приложил палец к своим толстым губам. – Шридаман, брат мой! Присядь-ка на минутку да погляди! Что ж это там за чудо такое спускается к реке? Открой глаза пошире! Не пожалеешь. Она не видит нас, но мы-то ее видим!
Молодая девушка стояла на укромном месте воссоединения, собираясь приступить к благочестивому обряду. Она оставила на ступенях спуска свое сари и стояла совсем нагая, одетая только в ожерелья, серьги с качающимися подвесками да белую повязку на высоко подобранных пышных волосах. Ослепительна была прелесть ее тела. Все оно, казалось, состояло из обольщений Майи и было обворожительного цвета, не слишком темное, но и не слишком светлого оттенка, скорее напоминавшее позолоченную медь, дивное, точь-в-точь изваянное по замыслу Брахмы, со сладостно хрупкими плечами ребенка и упоительно выпуклыми бедрами, от которых как бы раздался в ширину ее плоский живот, с девически налитыми бутонами грудей и пышным выпуклым задом, сужавшимся кверху и стройно переходившим в нежную узкую спину, чуть вогнувшуюся, когда она подняла свои руки-лианы и сомкнула их на затылке так, что стали видны темнеющие впадинки подмышек. И все же самым поразительным, всего полнее отвечающим замыслам Брахмы, и чему не могла нанести урона даже дурманящая, накрепко приковывающая душу к миру явлений сладостность ее грудей, было сочетание этого великолепного зада с узкой, гибкой, как тростинка, эльфической спиной, усиленное и подчеркнутое другим контрастом – между поистине достойной славословий, волнующей линией роскошных бедер и прелестно-хрупким станом над ними. Наверно, не иначе была сложена небесная дева Прамлоча, которую Индра послал к великому подвижнику Канду, дабы подвиг воздержания не сделал его всесильным и богоравным.
– Нам надо уйти, – приподнявшись, тихо сказал Шридаман, не отрывая глаз от видения. – Не пристало смотреть на нее, когда она нас не видит.
– Отчего же? – шепнул в ответ Нанда. – Мы первые пришли сюда, где все так внятно, и вняли тому, чему здесь было внимать. Какая же на нас вина? Не будем двигаться с места, жестоко было бы подняться с шумом и треском, позволив ей обнаружить, что ее видели, тогда как она никого не видала. Я смотрю с удовольствием. А ты нет? Да у тебя уже глаза покраснели, как если бы ты прочел мне стихи Ригведы.
– Тише, – в свою очередь, зашептал Шридаман. – И веди себя как подобает! Это многозначительное, святое явление, и то, что мы подглядываем, простится нам, только если мы будем вести себя достойно и благочестиво.
– Что и говорить, – отвечал Нанда. – Это дело нешуточное, но все же очень приятное! Ты хотел смотреть на небо, лежа на земле, а теперь видишь, что можно и сидя и стоя взирать на небесное.
Они опять приумолкли, сидели и смотрели. Златокожая девушка, как недавно они сами, сложила руки и прошептала молитву, прежде чем совершить обряд воссоединения. Она стояла к ним немного боком, и они могли видеть, что не только ее тело, но и лицо меж качающихся подвесок было прелестно. Носик, губы, брови и удлиненные, словно лепестки лотоса, глаза. Когда девушка слегка повернула голову – так, что они даже испугались: уж не заметила ли она соглядатаев, – друзья вполне убедились, что очарование ее тела ничуть не обесценено, не обворовано некрасивым лицом и что, напротив, чудная ее головка лишь утверждает в правах красоту ее стана.
– Да ведь я ее знаю! – вдруг прошептал Нанда и даже щелкнул пальцами. – Только сейчас я признал ее! Это Сита, дочь Сумантры из селения Воловий Дол, здесь поблизости. Оттуда она и пришла омыться от скверны, теперь все понятно! Да и как мне не знать Ситы? Ведь я качал ее на качелях до самого солнца.
– Ее… на качелях? – тихо и проникновенно переспросил Шридаман.
– Да еще как, – ответил Нанда. – Качал что было мочи, на глазах у всего народа! Одетую я бы ее тотчас узнал, но поди узнай человека, когда он голый. Да, это Сита из Воловьего Дола! Прошлой весной я был там в гостях у своей тетки, как раз во время праздника Солнца, и я…
– Потом расскажешь, прошу тебя! – испуганным шепотом перебил его Шридаман. – Великая милость, позволившая нам увидеть ее, может обернуться бедой, если девушка услышит нас. Ни слова больше, а то мы спугнем ее!
– Тогда она сбежит, и ты ее больше не увидишь, а ты ведь еще не нагляделся досыта! – поддразнил его Нанда. Но Шридаман кивнул ему головой, требуя молчания, и оба снова замерли, наблюдая затем, как совершает обряд омовения Сита из Воловьего Дола. Помолившись, она положила земной поклон, обратила лицо к небу, затем осторожно вошла в реку, окропилась священной водой, испила ее и, прикрыв волосы ладонью, окунулась до самой макушки, потом еще немного поплескалась, поплавала, ныряя и снова показываясь на поверхности, и, наконец, вышла на сушу во влажном сиянии своей освеженной красоты. Но милость, осенившая в этом уголке обоих друзей, еще не исчерпалась: после очистительного омовения Сита опустилась на ступеньки, чтобы обсушиться; врожденная прелесть ее тела, не ведавшая о соглядатаях, побуждала ее принимать то одно, то другое обольстительное положение, и только когда и этому времяпрепровождению пришел конец, она неспешно облачилась в свои одежды, поднялась по лестнице к храму и скрылась из виду.
– Что было, то прошло! – сказал Нанда. – Теперь по крайней мере нам можно говорить и шевелиться. Скучно ведь так долго притворяться, что тебя нет!
– Не понимаю, как ты можешь говорить о скуке! – возразил Шридаман. – Есть ли на свете большее блаженство, чем всецело предаться созерцанию красоты и жить только в ней? Я затаил дыхание и так готов был сидеть все время. Не из страха, что она исчезнет, а из страха вспугнуть ее чувство одиночества, над которым я так дрожал и перед которым так святотатственно провинился. Ситой, ты говоришь, зовут ее? Я рад, что это узнал, меня утешает в моем прегрешении, что теперь я хоть про себя могу ее почтить ее именем. Так ты качал ее на качелях?
– Да, я же сказал тебе, – подтвердил Нанда. – Ее избрали девой Солнца прошлой весной, когда я был в их деревне, и я ее качал во славу Солнца до самого неба, так что с высоты едва было слышно, как она взвизгивает! А может, ее голос терялся в общем визге.
– Да, на такие дела ты мастер, – сказал Шридаман. – Впрочем, ты на все руки мастер! За сильные руки тебя и выбрали ее качальщиком. Я прямо вижу, как она взлетает до самого синего неба. Крылатый образ моего воображения сливается с недвижным и склонившимся в молитвенном поклоне образом, который мы подсмотрели.
– Что ж! У нее есть причина молиться и каяться, – перебил его Нанда, – не в дурном поведении, конечно, Сита девушка добропорядочная, а во внешнем своем обличье, впрочем, за него она не отвечает, хотя, строго говоря, она в нем все-таки повинна. Говорят, такое благообразие подобно оковам. Почему, собственно, оковам? Да потому, что она приковывает нас к миру вожделений и радостей, человек, который ее увидел, еще сильнее запутывается в тенета сансара и теряет свой светлый разум, у него все равно что дух захватило. Таково воздействие красоты, хоть и непреднамеренное. Но вот то, что девушка, удлиняя себе глаза, придает им форму лепестка лотоса, уже говорит о преднамеренности. Можно, конечно, сказать: «Благообразие дано ей свыше, она не по своей воле восприняла его, так зачем же ей молиться, в чем каяться?» Но так ли уж велика разница между «получить» и «воспринять»? Сита сама это знает, а потому и кается в том, что налагает на нас оковы. Но ведь благообразие-то она приняла не просто, как принимают то, что тебе дают, а с полной готовностью, и тут не поможет никакой очистительный обряд. Она вышла из воды все с тем же прельстительным задом.
– Не говори так грубо о столь нежном и светлом явлении, – осадил его Шридаман. – Хотя ты и усвоил кое-что из учения о сущем, но выражаешься, позволь тебе заметить, по-мужицки; и из того, как ты все повернул, явствует, что ты был недостоин этого явления. Ведь в нашем случае все сводилось к тому и от того зависело, оказались ли мы его достойными и с чистой ли душой ему внимали.
Нанда смиренно выслушал порицание.
– Так научи же меня, дау-джи, – сказал он Шридаману, величая его «старшим братом». – Скажи, в каком душевном состоянии ты внимал этому явлению и в каком тем самым надлежало внимать ему мне?
– Видишь ли, – сказал Шридаман, – каждому созданию дано двоякое бытие: одно – для себя, другое – для стороннего глаза. Все созданное существует и воспринимается со стороны, оно – душа, и оно же – образ, и потому грешно подпадать под впечатление образа, не вспоминая о душе. Надо научиться преодолевать омерзение, которое внушает нам образ шелудивого нищего. Нельзя нам основываться только на том, как он воздействовал на наше зрение и другие чувства. Ибо воздействие – еще не действительность; чтобы постичь явление, должно, так сказать, «обойти его»; этого вправе ждать от тебя любое явление, ибо оно больше, чем только явление, за ним – его сущность, его душа, которую надо найти и опознать. И если не следует задерживаться на чувстве омерзения, которое в нас возбуждает жалкий образ нищеты, то тем паче нельзя довольствоваться восторгом, который нам внушает образ красоты, ибо и она больше, чем только образ, хотя чувства здесь сильнее искушают нас принять ее лишь за таковой, чем в случае, когда мы испытываем омерзение. Красота на первый взгляд нисколько не взывает к нашей совести и к проникновению в ее душу, к чему в своей убогости как-никак взывает образ нищего. И все же, любуясь красотой и не вникая в ее сущность, мы грешим и перед нею и, думается мне, тем более усугубляем свой грех, когда мы ее видим, она же не видит нас. Знай же, Нанда, для меня истинным благодеянием было, что ты смог назвать имя девушки, за которой мы подсматривали, – Сита, дочь Сумантры из Воловьего Дола, так я хоть что-то узнал о ней, кроме того, что увидел, ибо имя – часть человеческой сути, часть души. А как я был счастлив услышать от тебя, что она девушка благонравная; ведь это и вправду значило «обойти ее образ» и заглянуть к ней в душу. И далее: это ведь только обычай, лишь подражание местным нравам, нисколько не идущее в ущерб благонравию, если она удлиняет себе разрез глаз, придавая им сходство с лепестками лотоса, и вдобавок чуть-чуть подводит ресницы, – конечно же, она в своей невинности просто подчиняется обычаям и нравам предков. Красота ведь тоже выполняет свой долг перед образом, в какой она воплотилась, и не исключено, что, ревностно его выполняя, она поощряет стремление проникнуть в ее сущность. И мне мило представлять себе, что у нее почтенный отец, я имею в виду Сумантру, и хлопотливая мать и что они взрастили ее добронравной; я словно вижу, как она мелет зерно, варит кашу в очаге или сучит тонкую шерстяную нить. Не потому ли всем своим сердцем, повинным в соглядатайстве, за видимым образом девушки я стремлюсь разглядеть человека, ее сокровенную суть.
– Тебя-то я понимаю, – отвечал Нанда. – Но не забудь, что у меня это желание не может быть так уж сильно, ведь я качал ее до самого солнца и успел немножко узнать ее как человека.
– И даже слишком, – перебил его Шридаман с заметной дрожью в голосе. – Очень даже слишком! Потому что близость, которой ты сподобился – по праву или нет – этот вопрос мы оставим в стороне, ведь тебя выбрали в качальщики за силу твоих рук и тела, а никак не за голову и способность мыслить, – эта близость, видно, так притупила твое зрение, что ты в ней увидел лишь единичное создание, а не высший смысл, вложенный в ее образ, иначе ты не отозвался бы так грубо о том воплощении, которое она приняла. Разве ты не знаешь, что в каждом женском обличье, будь то ребенок, дева, мать или старица, таится Она сама, Всепорождающая, Всекормящая Шакти, – великая богиня, из лона которой все приходит и в лоно которой все отыдет? Не знаешь, что в каждом явлении, отмеченном знаком богини, мы чтим Ее одну, Ей одной дивимся? Она явилась нам здесь, на берегу Золотой Мухи, в самом прельстительном своем воплощении – так как же нам было не восхититься ее самооткровением в преходящем образе? Недаром же, как я и сам замечаю, у меня дрожит от волнения голос, что, впрочем, отчасти объясняется и тем, что я возмущен грубостью твоей речи.
– Да у тебя даже щеки и лоб покраснели, словно ты обгорел на солнце, – сказал Нанда, – а голос, хоть он и дрожит, стал полнозвучнее, чем обычно. Впрочем, могу тебя заверить, что и я на свой лад был очень даже взволнован увиденным.
– Но тогда я не пойму, – заметил Шридаман, – как мог ты говорить о ней столь небрежительно и ставить ей в укор красоту, которая заманивает в тенета любого, кто ее видит, лишив его последних признаков сознания. Ведь это значит, что ты смотришь на вещи с непростительной односторонностью и ничего не смыслишь в истинной, целостной сущности Той, что явилась нам в столь сладостном обличье. Ибо она – все, а не только одно: жизнь и смерть, безумие и мудрость, колдунья и избавительница. Разве ты этого не знаешь? Или знаешь только, что она морочит и завораживает всех и вся, и забываешь, что она выводит людей из мрака одержимости, чтобы привести их к познанию истины? Тогда ты знаешь очень мало и не постиг тайны, впрочем, не так-то легко постижимой, а именно: что опьянение, в которое ввергает нас богиня, есть вместе с тем и восторг, устремляющий нас к высшей истине и свободе. Ибо только оно сковывает и дарит свободой, только восторг воссоединяет чувственную красоту с величием духа.
Черные глаза Нанды увлажнились, он ведь обладал чувствительным сердцем и не мог слушать метафизические рассуждения без того, чтобы не всплакнуть, тем паче теперь, когда обычно тонкий голос Шридамана вдруг стал полнозвучным и выразительным. Итак, он, сквозь слезы, зашмыгал своим козьим носом и сказал:
– До чего торжественно ты сегодня говоришь, дау-джи! На моей памяти ты никогда еще так не говорил, прямо за душу берет. Мне бы, собственно, следовало хотеть, чтобы ты замолчал, именно потому, что это берет меня задушу. Но нет, прошу тебя, говори еще о духе, и об оковах, и о Ней, Всеобъемлющей!
– Ты понял теперь ее сложную суть, – все так же восторженно продолжал Шридаман, – понял, что Она порождает не только дурман, но и мудрость, и если мои слова так живо трогают тебя, то лишь потому, что Она – владычица полноводной Речи, берущей свой исток в премудрости Брахмы. В этой двойственности мы познаем Ее, Великую, ибо Она жестокосердна, темна, вселяет в нас ужас; Она пьет из дымящейся чаши кровь всех созданий, и вместе с тем Она же благосклонная сострадалица, источник всего живого, любвеобильно покоящая у своих сосцов все порожденное Ею. Она – великая Майя Вишну, Она держит в объятиях его, спящего в Ней. Мы же спим и грезим в нем. Множество рек впадает в вечные воды Ганга, а Ганг впадает в море. Так впадаем мы в божественные грезы Вишну о преходящем мире, они же впадают в Море извечной Матери. Знай, Нанда, сегодня, придя к месту священного омовения, мы пришли к истоку сна нашей жизни, и тут явилась нам в прельстительнейшем облике Она, Всесозидающая и Всепоглощающая, в чьем лоне мы омылись, чтобы нас обморочить и вдохновить – надо думать, в награду за то, что мы окропили водой Ее плодоносное чрево. Линга и йони – нет более великого знака и нет более великого часа жизни, нежели час, когда суженый обходит свадебный костер со своею Шакти, и жрец соединяет их руки цветочной цепью, и жених говорит: «Я воспринял ее!», получая невесту из рук родителей, и еще произносит царственное слово: «Это – я, это – ты, я – небо, ты – земля, я – лад песни, ты – ее слово, вместе пройдем одной дорогой!» Когда они празднуют встречу, они – не люди больше, не он и не она, а высокая чета, он – Шива, она – Дурга, великая богиня, и их речи – как бред, и не их это речи, а лепет из темных глубин вожделения, и они умирают для лучшей жизни в безмерном счастье объятий. Это и есть тот священный час, окунающий нас в море познания и избавляющий от лживой обособленности нашего «я» в лоне Матери. Ибо как красота и дух сливаются воедино во вдохновении, так смерть и жизнь воссоединяются в любви.
Нанда был совсем покорен этим метафизическим красноречием.
– Нет, – сказал он, качая головой, и слезы покатились у него из глаз, – до чего ж благосклонна к тебе богиня Речи и до чего щедро она тебя одарила премудростью Брахмы, просто сердце надрывается, а все хочется слушать и слушать. Если бы я мог сказать и спеть хоть пятую часть того, что измыслила твоя голова, я бы любил и чтил каждую жилку своего тела. Вот почему ты так нужен мне, старший брат! То, чего не дано мне, дано тебе, а ты мой друг, и твое начинает мне казаться моим. Ведь как твой друг и товарищ я имею в тебе свою часть, я тоже чуть-чуть Шридаман, а без тебя был бы только Нандой, чего мне, по правде сказать, маловато! Говорю тебе прямо: я ни на миг не пережил бы разлуки с тобою, а уж лучше попросил бы людей сложить костер и сжечь меня. Вот что я хотел тебе сказать! Возьми хоть это, прежде чем мы тронемся в путь.
И он стал рыться в своем дорожном скарбе смуглыми руками в кольцах и запястьях и извлек оттуда пучок бетеля, который жуют после еды, чтобы приятно пахло во рту. Отвернув заплаканное лицо, он протянул бетель Шридаману, ибо бетелем угощают друг друга при скреплении договора дружбы.
IV
Итак, они пошли дальше, а потом на время разошлись, ибо у каждого были свои дела; достигнув изобилующей парусами реки Джамны и увидев на горизонте очертания Курукшетры, Шридаман свернул на широкую дорогу, запруженную повозками и волами, чтобы затем, в толчее оживленных городских улиц, разыскать дом человека, у которого должен был купить рис и трут. Нанда же пошел дальше, узкою тропою, ответвлявшейся от проезжей дороги к хижинам, где жили люди низшей касты, – приобрести у них железа для кузни своего отца. При расставании друзья благословили друг друга и условились через три дня в назначенный час снова встретиться на этой развилке, чтобы, когда с делами будет покончено, вместе, как пришли сюда, вернуться в родное селение.
После того как трижды взошло солнце, Нанда, подъехавший на сером ослике, которого он тоже приобрел у людей низшей касты и навьючил железом, еще долго дожидался в условленном месте, так как Шридаман запаздывал; когда же он со своим тюком наконец показался на широкой дороге, шаги его были медленны, он волочил ноги, его щеки, окаймленные шелковистой веерообразной бородкой, ввалились, а в глазах стояла печаль. Он не выказал радости при встрече со своим спутником, и даже когда Нанда, спеша освободить его от ноши, взвалил и его тюк на ослика, остался таким же хмурым и печальным, каким пришел, и шагал рядом с другом, не говоря ничего, кроме «да, да», даже если следовало сказать «нет, нет»; а когда уместнее было бы «да, да», он вдруг начинал твердить «нет, нет» – к примеру, отказываясь подкрепиться пищей, – и на удивленные расспросы Нанды отвечал, что не может и не хочет есть и вдобавок лишился сна.
Все указывало на то, что он болен, и лишь на вторую ночь пути, под звездным небом, когда озабоченному Нанде удалось немного разговорить его, он не только подтвердил, что это так, но глухим голосом добавил, что недуг его неизлечим и смертелен, и потому он не только должен, но даже хочет умереть, в его, мол, случае необходимость и желание сплелись воедино, они не только нераздельны; но более того – вместе составляют вынужденное желание, в котором «хотеть» неизбежно вытекает из «долженствовать» и «долженствовать» из «хотеть».
– Если ты мне подлинно друг, – сказал Шридаман все тем же задыхающимся, глубоко взволнованным голосом, – то окажи мне последнюю дружескую услугу, сооруди погребальный костер, чтобы я мог взойти на него и сгореть в огне. Ибо сжигающий меня изнутри неизлечимый недуг причиняет мне такие муки, что по сравнению с ними всепожирающее пламя покажется мне целебным бальзамом, более того – усладительным купанием в райских реках.
«О, великие боги! До чего ж он дошел!» – подумал Нанда, услышав это. Здесь следует сказать, что хотя у Нанды был козий нос и внешне он являл собою как бы золотую середину между людьми низшей касты, у которых покупал железо, и внуком брахманов Шридаманом, но он сумел с честью выйти из трудного положения и, несмотря на почтительность, с какою относился к «старшему брату», не растерялся перед лицом его недуга, а напротив – употребил в пользу Шридамана преимущество, заключавшееся в том, что он, Нанда, был здоров, и, подавив свой испуг, заговорил с ним уступчиво и в то же время разумно.
– Будь покоен, – сказал он, – если твоя болезнь и впрямь неизлечима, а после твоих слов я не вправе в этом сомневаться, я тот час же выполню твое приказание и примусь сооружать костер. Я даже сложу очень большой костер, чтобы рядом с тобою нашлось место и для меня, после того как я его разожгу, ибо разлуки с тобой мне не пережить ни на час, и в огонь мы пойдем с тобою вместе. Именно потому, что все это так близко касается и меня, ты должен мне немедленно сказать, что, собственно, с тобою, назвать свой недуг, хотя бы для того, чтобы я, убедившись в его неизлечимости, предал сожжению тебя и себя. Ты не можешь не признать, что мое требование справедливо, и если уж я своим скудным умом понял его справедливость, то ты, будучи стократ умнее меня, и подавно должен его одобрить. Когда я ставлю себя на твое место и на мгновение пытаюсь думать твоей головой, – как если бы она сидела у меня на плечах, – то я вынужден заметить, что моя, я хочу сказать – твоя, уверенность в неизлечимости твоего недуга требует дополнительной проверки и подтверждения, прежде чем мы сделаем столь далеко идущие выводы. Итак, говори!
Но спавший с лица Шридаман долго упрямился и только твердил, что смертельная безнадежность его недуга не требует проверок и доказательств. Однако в конце концов уступил многократным натискам Нанды и, прикрыв глаза рукою, чтобы во время своей речи не смотреть на друга, сделал следующее признание.
– С той поры, – сказал он, – как мы увидели на месте священного омовения эту девушку, нагую, но добронравную, ту, которую ты качал на качелях до самого солнца, – Ситу, дочь Сумантры, – зерно недуга, равно вызванного к жизни ее наготой и ее добронравием, запало в мою душу и с часу на час все разбухало и разрасталось, покуда не заполнило собою все мои члены, мельчайшие ответвления каждой жилки, истощило мои душевные силы, похитило у меня сон и вкус к еде и теперь медленно, но верно изничтожает меня. Мой недуг, – продолжал он, – потому смертелен и безнадежен, что излечить его может только осуществление желания, коренящегося в красоте и добронравии девушки, а это немыслимо, невообразимо, это за пределами того, что подобает человеку. Ясно ведь, что если страстная мечта о счастье искушает его и самая его жизнь зависит от того, сбудется она или нет, а между тем лишь богам, не людям, дано уповать на такое счастье, то человек этот обречен. Если не будет для меня Ситы, с глазами, как у куропатки, прекраснокожей, с дивными бедрами, то дух моей жизни улетучится сам собою. Посему сооруди для меня костер – лишь в пламени я обрету спасенье от противоречия между божественным и человеческим. Но если ты решил взойти на него вместе со мной, – заключил он, – то, как ни жаль мне твоей цветущей юности, отмеченной «знаком счастливого теленка», я не стану спорить – одна только мысль, что ты качал ее на качелях, раздувает пламя в моей душе, и мне очень не хочется оставить на земле того, кому суждено было это счастье.








