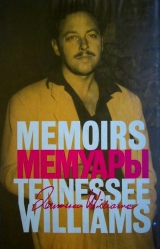
Текст книги "Мемуары"
Автор книги: Теннесси Уильямс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
В те дни в Ки-Уэсте обитала замечательная колония людей искусства. Там были Арнольд Бланк и его подруга Дорис Ли. Там была жена японского художника Куниёши. И Грант Вуд, человек, нарисовавший «Американскую готику» (тот год был последним в его жизни). Он был коренастеньким человечком с белым коком волос, очень, очень дружелюбным. Лицо его все время было красным, но вовсе не от смущения. Мы все любили собираться по вечерам в городишке, где раньше бывал Хемингуэй. Он назвался Мокрый Джо. Хемингуэй там уже не появлялся, но его бывшая жена, Полин Пфейфер Хемингуэй, еще жила рядом, на Уайтхед-стрит, в чудесном старом доме в испанском колониальном стиле. В этом поселке был замечательный танцевальный оркестр, настоящий негритянский танцевальный оркестр, исполнявший чудесную музыку. В Ки-Уэсте в те дни царила очень приятная атмосфера первопроходцев. Даже погода была тогда лучше. И Мокрый Джо был куда колоритнее, чем в наши дни. В тамошнем баре была длинная прямая стойка; сейчас она подковообразная. Старые друзья Хемингуэя еще сиживали там в сорок первом году, и мы с Марион ходили туда по вечерам потанцевать.
Муж Марион был самым горьким алкоголиком, какого я только видел в жизни. Он был приятным парнем, но доставлял Марион и миссис Блэк массу неприятностей. Если он был не под градусом, то нюхал эфир. Он всегда находился под воздействием или алкоголя, или эфира, таков был его способ пить. Он полюбил меня и вечно заваливался, когда мне нужно было работать. А я до смерти боюсь запаха эфира. В детстве у меня удаляли аденоиды и гланды – под эфирным наркозом, и анестезия вызвала у меня шок, не забытый до сих пор.
Этот человек вваливался ко мне, распространяя вокруг пары эфира, и смотрел на меня своим стеклянным глазом. У меня, наверное, был замечательный характер в те дни, потому что я ни разу не выставил его за дверь. Конечно, мне бы это и не удалось, потому что физически он был куда сильнее меня. Во всяком случае, этот человек являлся неотъемлемой частью местного ландшафта, но для Марион это был настоящий крест, и она несла его с большим достоинством. Он был главным наследником всех богатств «Стандард Фрут Компани». Марион вышла за него где-то в середине или в конце двадцатых. По-моему, вышла замуж она довольно поздно, потому что ей надо было самой зарабатывать на жизнь после окончания колледжа Софии Смит, и ее нанял Фло Зигфельд в качестве гувернантки для его детей. Она довольно долго проработала с этими детьми; Марион всегда была верной в дружбе, и до самого конца она была очень близкой подругой вдовы мистера Зигфельда, Билли Бурк.
Время от времени по выходным в ту зиму меня навещал Джим Паррот. Один из его визитов совпал с домашним кризисом на Трейдвиндс-стрит. Нас с Джимом пригласили на ужин, во время которого мистер Ваккаро без всякой видимой причины вынул свой стеклянный глаз и швырнул его в тещу. Глаз пошл ей в тарелку с супом. Только настоящая леди могла с такой выдержкой отнестись к этому инциденту. Миссис Клара [24]24
До этого момента Уильямс называл ее Кора.
[Закрыть], не изменив ни выражения лица, ни интонации голоса, выловила стеклянный глаз из своего супа, передала его на ложке Марион и сказала: «Мне кажется, Регис потерял это».
В тот же вечер он вступил в конфликт с некими гангстерами, владельцами местного игорного дома. Они пригрозили убить его. Было решено, что ему надо немедленно покинуть Ки-Уэст. Единственное транспортное средство, которое годилось для этого, был старый драндулет – «Форд» Джима.
Партия беглецов состояла из миссис Клары, Марион, Джима и меня, а Региса спрятали под одеялом на полу сзади – в бессознательном состоянии.
У «Форда» тек радиатор. Периодически нам приходилось останавливаться и заливать в парящий бак морскую воду, которую мы по дороге черпали в море.
Позднее, в 1946 году, в Новом Орлеане, я возобновил свою дружбу с Марион. Она была очень азартной, любила делать ставки – все равно на что, и я часто сопровождал ее на Новоорлеанский ипподром. В Новом Орлеане они жили в чудесной квартире на Джексон-сквер. Когда труппа, гастролирующая со «Стеклянным зверинцем»,прибыла в Новый Орлеан, Марион и миссис Клара устроили для них пышный прием, с целыми индейками и окороками, с морем спиртного для всех.
Через несколько лет Марион и миссис Клара купили очаровательный дом в Коконат-Гроув. (Региса в то время уже не было.) У Марион и ее матери был активный интерес к недвижимости и нюх на нее. В то время я вынашивал идею привезти Розу с сиделкой во Флориду. Марион тоже считала, что это хорошая мысль, и нашла неплохой дои у Коконат-Гроув со стороны залива именно для этой цели. Когда я купил его, он был очень красиво обставлен мебелью, но обошелся мне совсем дешево, всего в сорок тысяч долларов. Сам по себе дом не был слишком привлекательным – оштукатуренный, в стиле испанской миссии, имевший форму буквы «П», даже с небольшой звонницей, на которой висел колокол миссии. Зато территория вокруг него была просто очаровательной. Она выходила на залив и была засажена аллеями очень высоких королевских пальм.
За прошедшие годы стоимость недвижимости в этом месте сильно возросла. Последний раз за дом и территорию мне предлагали сто пятьдесят тысяч, но я отказал, рассчитав, что стоимость будет расти и дальше.
Мне везет на недвижимость, везет в картах, а иногда – и в любви.
В таком случае, почему я должен считать себя неудачником? Наверное, потому что в театре меня чаще ждали провалы, чем успех.
До того, как Кастро захватил Кубу, мы с Марион часто с шумом проводили выходные в Гаване. И Марион, и я одинаково наслаждались веселой ночной жизнью Гаваны и посещали одни и те же места. Даже при Кастро мы еще ездили туда. В первый раз, когда я приехал в Гавану после триумфа Кастро, Эрнест Хемингуэй представил меня ему – с самим Хемингуэем я познакомился через британского театрального критика Кеннета Тайнэна. Тайнэн позвонил мне – я жил в отеле «Насьональ» – и сказал: «Ты не хочешь познакомиться с Эрнестом Хемингуэем?», на что я ответил: «Ты думаешь, это целесообразно? Я понимаю, что к людям моего темперамента он может относиться не очень хорошо». А Тайнэн сказал: «Я буду там и помогу тебе, чем могу. Думаю, тебе надо познакомиться, потому что он – самый великий писатель твоего времени – и моего тоже». Я согласился: «Хорошо, я попробую». И мы поехали во Флорадиту, где Хемингуэй проводил и ночи, и дни, когда не был на море – и более очаровательного человека вам не встретить никогда. Он оказался полной противоположностью тому, что я ожидал. Я ожидал встретить какого-нибудь мачо, сверхмужественного супермена, задиру с хриплым голосом. Хемингуэй, напротив, поразил меня своим благородством и трогательной скромностью.
Тайнэн рассказывал об этой первой встрече с чувством юмора, но не очень точно. Я, естественно, был неловок и наговорил много бестактностей, так, яупомянул, что был очень расстроен, когда его бывшая жена, Полин, умерла, и поинтересовался у него: «А отчего она умерла?» Хемингуэй с виду не обиделся, но сказал (с некоторым усилием): «Умерла так умерла», и продолжал пить. Мы начали разговор о бое быков. Я не был aficionado [25]25
Любитель (исп.).
[Закрыть]корриды, то есть не знал тонкостей техники, не понимал красоту корриды, но мне нравилось это зрелище, и я даже стал – прошлым летом – близким другом Антонио Ордоньеса, который был, как все говорили, идолом Эрнеста Хемингуэя. Я упомянул, что знал Ордоньеса. Хемингуэй был доволен, как мне показалось, тем, что я разделял его интерес к бою быков.
Хемингуэй сказал: «Вы знаете, эта кубинская революция – хорошая революция». Я знал, что это хорошая революция, потому что бывал на Кубе при Батисте, а у того была чудная привычка пытать студентов. Он сажал их на электрические стулья – они имели электрические приставки, чтобы оставлять на теле страшные ожоги. А иногда кастрировал их. Он был ужасным садистом. Соединенные Штаты, с моей точки зрения, совершили страшную ошибку. Им надо было только приветствовать появившуюся возможность выпустить пар. Кастро, прежде всего, был джентльменом и хорошо образованным человеком. И можно было бы сделать Кубу нашим сателлитом, каковым она является естественным образом, но Государственный Департамент вместо этого попытался изгнать мистера Кастро. Куба, соответственно, стала нашим врагом и повернулась к России – за поддержкой. Правда, когда я познакомился с Хемингуэем, ничего этого еще не произошло.
Как бы то ни было, Хемингуэй написал мне рекомендательное письмо для Кастро. Мы с Кеннетом Тайнэном прибыли во дворец. У Кастро было заседание кабинета. Они всегда продолжались очень долго. Мы ждали, сидя на ступеньках за пределами того зала, где проходило заседание. Примерно через три с половиной часа ожидания дверь распахнулась, и нас впустили. Кастро горячо приветствовал нас. Когда Кеннет Тайнэн представил меня, генералиссимус сказал: «А, та самая кошка», имея в виду «Кошку на раскаленной крыше»,что меня удивило – приятно, конечно. Я не мог себе представить, что генералиссимус знает что-нибудь о моих пьесах. Затем он представил нас всем членам Кабинета министров. Нам подали кофе и спиртные напитки, и это было интересное событие, стоящее трех часов ожидания.
Вернемся к Марион. Я любил ее очень глубоко, хотя, может быть, и не так великодушно, как она меня. Среди моих самых близких друзей много женщин – она одна из них. Марион была чудесной женщиной, но чересчур много пила. Мы вместе много путешествовали.
Однажды, когда мы с нею жили в «Насьонале» и под тентом у бассейна играли в джин-ром, мы заметили, что под соседним тентом сидят Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, и я сказал: «Марион, мы должны познакомиться с ними». Она не возражала, и я отправился представляться Сартру. Он был очень любезен, и я предложил: «Может, пойдем к нам, выпьем вместе?» Вместе с Симоной они присоединились к нам. Мисс де Бовуар вела себя довольно холодно, но Жан-Поль Сартр был само очарование и теплота. Мы довольно долго разговаривали; я упомянул, что Марион пишет стихи. Накануне вечером она показывала мне несколько великолепных стихотворений. Он воскликнул: «Очень хочется взглянуть на них!» Я спросил: «Марион, ты не будешь возражать, если я позволю мистеру Сартру посмотреть их?» Она ответила: «Том, прошу тебя, не надо. Я так, царапаю кое-что. Просто, чтобы занять себя по ночам, царапаю стишки». Я возразил: «Конечно, только, по-моему, Марион, это великолепные стихи». Мистер Сартр вмешался: «Сходите и принесите их». Я пошел за ними. Сартр был под сильным впечатлением. Должен сказать, что мисс де Бовуар продолжала вести себя холодно. Думаю, это ее манера. Как-то в Париже я пригласил Сартра к себе поужинать, но он не пришел, и это меня удивило, потому что тогда на Кубе он вел себя очень сердечно.
Вернемся к весне 1941 года, когда я в первый раз приехал в Ки-Уэст. Вместе с весной пришел приятный бонус на пятьсот долларов от моих друзей Рокфеллеров. На эти деньги я вернулся с переделанной « Битвой» на Манхэттен, представил ее Гильдии, и после несколько недель ожидания мистер Лангнер позвонил мне. (То есть – ответилна мойзвонок.)
– Что касается твоей переделки, Теннесси. Ты очень похож на скачущую лягушку из Калавераса, надеюсь, ты знаешь этот рассказ Марка Твена, я хочу сказать, что ты перестарался, как та лягушка, которая выпрыгнула из округа Калаверас.
Вот так.
Когда он повесил трубку, я с сожалением вспомнил мою первую встречу с мистером Лангнером, которого я все еще люблю и вспоминаю с благодарностью. У него был стол не меньше президентского, на нем в тот день лежало столько рукописей, сколько, как я представлял себе, и во всем мире не существует. Одним великолепным жестом он смел со стола все рукописи, кроме моей, и произнес: «Меня не интересует никто, кроме гениев, так что, пожалуйста, садись».
(С того дня, когда меня называют «гением», я хватаюсь за внутренний карман, убедиться, что бумажник еще на месте.)
Работа лифтером в Манхэттене – наиболее колоритное время моей деятельности в сфере обслуживания: я дежурил по ночам в старом отеле «Сан-Хасинто», ныне снесенном, на Мэдисон-авеню в районе пятидесятых улиц. Этот отель на самом деле был чем-то вроде дома для престарелых вдов высокого положения, но скромного достатка. Они готовы были отдать последний цент за право жить по престижному адресу. Не все из них ладили друг с другом. Особенно это касалось двух: старой девы, носившей звучную фамилию Очинклосс, с которой случался припадок каждый раз, когда она нечаянно оказывалась в одном лифте с другой старой девой – с не менее звучной фамилией.
В ночной смене со мной работал телефонистом один поэт. Он сразу предупредил меня, чтобы я никогда, даже если «Сан-Хасинто» будет пылать, не допускал того, чтобы эти две старушенции попали вместе в одну кабину лифта.
Но именно это и случилось. Сцена в лифте напоминала кульминацию боя петухов. И (если вы еще не догадались) лифт застрял между этажами. Я пытался подняться вверх, на этаж Очинклосс, но другая старуха кричала: «Не надо вверх, только вниз, вниз!» и не давала мне повернуть ручку, лифт застрял между девятым и десятым этажами, а шум сражения в ту ночь разбудил, наверное, все здание. (Теперь я абсолютно убежден, что у старых леди полный иммунитет к инсультам и инфарктам, несмотря на многочисленные сообщения об обратном.)
Помню еще одну жительницу этого отеля, изумительную характерную актрису Кору Уизерспун, к тому времени уже старуху. Думаю, могу уже рассказать, что эта приятная во всех отношениях леди, ныне покинувшая этот мир, была морфинистка, и мы с поэтом должны были получать морфий по ее рецептам в ближайшей ночной аптеке.
Считается, что морфий «успокаивает», но миссис Уизерспун всегда «торчала» от него.
Она болтала со мной и поэтом в холле «Сан-Хасинто» до самого рассвета. Ее «ширка» ей хватало ровно до первых петухов. Потом мы с поэтом относили ее к лифту, он открывал дверь ее номера, а я опускал ее на краешек кровати и укладывал.
– Что бы я без вас делала, мальчики? – бормотала она с нежной и печальной мудростью старого человека, знающего, что «все пройдет».
(Понимал ли кто-нибудь и когда-нибудь неотразимую галантность и шарм леди в возрасте, в театре или вне его, также хорошо, как Жироду в «Безумной из Шайо»? Кэт Хепберн была недостаточно старой или недостаточно сумасшедшей, чтобы выразить все обаяние их ненормальности.)
В конце 1941 года я жил у художника-абстракциониста в районе складов в Гринич-Виллидже. Этот мой друг, если можно так выразиться, был чокнутым: у него и правда поехала крыша в те годы, когда в моде были еще крыши на месте.
Тогда же, очень недолго, я работал в бистро под названием «Бар нищих». Его владелицей была фантастическая личность – беженка из нацистской Германии по имени Валеска Герт.
Она была мимом и танцовщицей, но не только, совсем нет. Я работал за одни чаевые. У нее была лицензия на продажу пива, но она позволяла себе немного выходить за рамки лицензии и продавала кое-что покрепче. Была еда – сосиски и квашеная капуста. Был певец – трансвестит, то ли мужчина, то ли женщина, я никогда точно не мог понять, и всегда была несравненная Валеска.
Иногда мне удавалось добавить кое-что к моим чаевым – читая стихи-экспромты.
Для своего времени они были довольно грубоваты и пользовались успехом. Так что чаевые были вполне приличными.
Однажды вечером мадам созвала всех официантов и объявила о переходе к новой политике.
Она сказала, что официанты (нас было трое) должны складывать свои чаевые, а потом делить их с учетом администрации, то есть ее самой.
Именно в этот вечер в баре было много моих друзей и знакомых, и среди них – художник-абстракционист. Он присутствовал на кухне «Бара нищих» при объявлении Валеской новой политики, сразу после закрытия.
Я объяснил достопочтенной леди, что совершенно не намерен складывать в общую кассу свои чаевые и делить их с администрацией. Возникла шумная перепалка. У входа стоял ящик с литровыми бутылками содовой, и художник с порога начал метать эти бутылки в знаменитую танцовщицу и мима. Уже с дюжину этих бутылок было брошено, когда, наконец, одна из них попала в цель. Были вызваны полицейский фургон и карета «скорой помощи», на голову леди наложили несколько швов, а я – излишне говорить – потерял работу в этом злачном местечке.
Вскоре после этого, в страшно холодную пятницу – воистину страстную пятницу – только что начавшегося 1942 года меня неожиданно выставили из квартиры моего непостоянного друга. Художник-абстракционист слег с неким заболеванием на нервной почве, но по-прежнему жаждал общества и каждый вечер посылал меня на улицы Гринич-Виллиджа на поиски гостей строго определенного вида. Я чувствовал себя обязанным, как и еще один наш друг, которого мы звали Рыба-пилот – и в тот сезон нервного молодого художника развлекали почти каждый вечер. Но однажды мы с Рыбой-пилотом притащили домой каких-то гостей жуликоватой породы, и на следующее утро художник обнаружил пропажу нескольких ценных вещей. Проведя инвентаризацию своего имущества, он с грустью решил расстаться и с моим обществом, и с моими услугами: меня вышибли; мое белье было сдано в китайскую прачечную, а денег забрать его у меня не было – я едва наскреб мелочь на метро.
Прошло два дня в полном отчаянии, и я в первый и последний раз в своей жизни лично и непосредственно обратился за материальной поддержкой – я позвонил в секцию драматургов того союза, который и призван опекать и подкармливать писателей. И мне дали там взаймы – повторяю, взаймы – ровно десять долларов, чтобы я, пока весенняя оттепель не сгонит со скользких улиц снег, то есть всюзиму, мог спать под крышей…
Я существо путаное, довольно хитрое и в то же время бесхитростное, а в те дни вызывал трогательную жалость; так что когда десять долларов были прожиты, я заглянул на Мэдисон-авеню на обед в роскошную двухэтажную квартиру одного очень удачливого поп-композитора – и не только пообедал, но и остался там на следующие четыре месяца, до наступления весны.
После весны наступило лето, и нашелся еще один друг, не столь процветающий, но такой же добросердечный. Узнав о моих проблемах, он написал мне письмо из Макона, штат Джорджия, и пригласил провести лето с ним.
Я приехал в этот «потерянный» южный городок и обнаружил, что мой друг занимает половину чердака, а я должен жить в другой его половине.
Была середина лета, мы находились в середине штата Джорджия. В моей половине чердака имелось два окошечка, размерами и формой – чисто чердачные. Добавлю еще, что лето было очень влажное, хотя и не дождливое.
У моего друга был вращающийся электрический вентилятор, и он не мог без него спать – из-за болезненного воспаления челюстной кости. У меня ничего электрического для создания прохлады не было, и долгие часы по ночам я глядел через коридорчик с застоявшимся воздухом на моего друга, лежащего в постели и на то, как вращающийся «Вестингауз» колышет его волосы, пока он хихикает над комиксами в «Нью-Йоркере» – превосходном журнале, при одном взгляде на который меня до сих пор прошибает пот.
В самые жаркие августовские дни на этом чердаке появился еще один жилец – слегка заторможенный парень, работавший в компании «Эй-эид-Пи». Этот жилец потел так, что вполне мог умереть от обезвоживания – и при этом никогда, буквально, никогда – не мылся, не менял носков, так что могу заявить вам: запах, исходивший от этого сына природы, так же переполнял чердак, как Юджина О’Нила переполняло чувство рока. И если бы я мог шутить по этому поводу, я бы добавил, что однажды к нам на чердак забрался хорек, но учуяв запах рока, этот вонючий зверек бежал со всех ног, не дождавшись рассвета.
Примерно в это же время, еще в начале сороковых, я недолго поработал в Южном отделении американских инженерных сил. Некоторые еще помнят страшную нехватку рабочей силы в те дни, в те военные годы, так что даже я произвел впечатление на начальника отдела кадров как достойный кандидат в вольнонаемные. Он поставил меня в ночную смену; это смена между одиннадцатью вечера и семью утра, и в это время нас в помещении работало двое: плотный молодой человек, преждевременно выписанный из сумасшедшего дома, и я, которого еще не успели туда поместить. Наша работа состояла в том, чтобы получать шифровки, время от времени поступавшие в эти поздние часы на телетайп, и подтверждать их получение. Мой напарник был тихим и замкнутым типом и время от времени бросал на меня взгляды, наполненные жаждой убийства. Меня они не тревожили – с подобными людьми я чувствую себя спокойно. Оставалась масса свободного времени, и я писал одноактные пьесы; на работу и с работы я ездил на велосипеде, жил в общежитии АМХ, и моим соседом по комнате был подросток, коридорный в крупном отеле. Мы возвращались с ним в свою комнату приблизительно в одно время, и каждый раз он выворачивал свои карманы, рассыпая по полу бумажные деньги, свои чаевые, – банкнотами по пять, десять, двадцать долларов – экономика военного времени работала превосходно, особенно для коридорных в отелях, где проходили всякие съезды.
Но в Американских инженерных силах – в ночную смену – дела шли совсем неважно. Мы с моим напарником уходили в мир грез, каждый – в свой. Наш босс умолял – целых три месяца – не принуждать его нас увольнять, но однажды ночью по телетайпу пришло действительно важное сообщение, а мы витали в облаках, и тогда наш босс решил, что нужно избавиться от меня – лучше пользоваться услугами психа со справкой.
А теперь об операциях на глазе, которым я подвергался время от времени в возрасте от двадцати девяти до тридцати четырех лет. У меня не было ни «Голубого щита», ни «Медикэра» – бесплатных страховых полисов, но в Нью-Йорке работал один прославленный офтальмолог, соглашавшийся проводить подобные операции в кредит. Стоимость операции была сто долларов, но добрый доктор не торопил меня с оплатой, пока я не сорвал куш в 1945 году.
Очень необычно иметь катаракту, когда тебе нет и тридцати (у меня она была на левом глазу, и я не обращал на нее внимания, пока в баре ко мне не обратился кто-то: «Эй ты, белоглазый!»). Но редкие и необычные случаи происходили со мной всю жизнь, и в юности, и в приближающейся «зрелости».
Операции по поводу катаракты в те дни проводили с помощью иглы под местной анестезией, а голову и все тело для безопасности надежно крепили к столу – наибольшая опасность заключалась в том, что тебя при операции вырвет и ты подтолкнешь иглу, когда она, пройдя радужную оболочку, попадает в хрусталик, жидкий в здоровом глазе и отвердевающий по мере созревания катаракты. Затвердевающий хрусталик приобретает сначала сероватый, а потом беловатый оттенок, а у меня именно глаза были самой притягательной чертой моей внешности.
Офтальмолог утверждал, что левый глаз у меня был поврежден в детстве, в результате чего теперь и развилась катаракта. И правда, в детстве, во время одной из особенно жестоких игр, мне повредили глаз. Это было еще в штате Миссисипи, мы играли в индейцев и белых переселенцев. Белые переселенцы сидели в крепости, которую осаждали краснокожие. Я был мальчишкой задиристым и вывел отряд белых из крепости, и в этот момент один из «индейцев» засветил мне палкой в глаз, за что тут же получил хорошую затрещину. Глаз у меня заплыл на несколько дней, но никаких признаков, что он поврежден, не было до самого моего тридцатилетия.
В моем случае – редком и необычном, как всегда – потребовалось три операции, чтобы удалить хрусталик левого глаза, и каждый раз во время операции меня рвало, и каждый раз я чуть не захлебывался рвотой, которую – у меня не было другого выхода – я должен был глотать. Худшая из этих операций была проведена бесплатно в медицинском колледже. С меня ничего не взяли, потому что я согласился на операцию перед целой группой студентов-глазников, сидевших вокруг операционного стола, пока хирург-преподаватель читал лекцию о том, что он делал – ну чистый театр!
– Сейчас пациент лежит правильно, фиксируйте его. Туже, туже, в истории болезни написано, что во время операции его рвет. Веки фиксируем, чтобы не моргали, зрачок уже анестезирован. Игла сейчас войдет в радужную оболочку. Так, проникла. Теперь она проникает в хрусталик. Ага, блюет, сестра, трубку в пищевод – он задыхается. Боже мой, что за пациент! Очень хороший, конечно, но случай необычный. (Я опускаю крепкие выражения, хотите – можете вставить их сами.)
Молодой, одаренный, нищий, с катарактой на левом глазу и чувствительным желудком. Да, глаза – все еще самое привлекательное во мне…
Вчера вечером я чувствовал себя хорошо, и вдвоем с товарищем мы вышли на улицы Нового Орлеана. Я прошептал ему, что мне «сильно хочется», и мы с ним пошли в скандально известное заведение на Бурбон-стрит, знаменитое своими мальчиками-танцорами – без рубашек и без брюк – все продаются, и многие – просто красавцы. Тот, кто мне показался самым привлекательным, как раз обслуживал наш стол – мальчики-танцоры одновременно были и официантами, и проститутками. Я немедленно спросил, как его зовут. Оказалось – Лайлом. Он выглядел немного недокормленным – но прекрасных пропорций, с чистым, нежным лицом и с гладким прекрасных очертаний задом. Мальчики носили только набедренные повязки, и можно было видеть, кого берешь. Мне все-таки рекомендовали избегать прямого проникновения, потому что у большинства из них задницы были с трипперком. И еще мне рекомендовали сразу же вести их в ванную – работа у них была многочасовая, тяжелая и потная. И что надо заранее запастись каким-нибудь инсектицидом против мондавошек.
Мальчик Лайл назначил мне свидание на пять утра, и когда я начал работать в четыре тридцать, он уже стоял под моей верандой. Он позвонил, и его пропустили в калитку, но я вышел на веранду и сверху крикнул ему, чтобы он вернулся через три часа, так как у меня много работы. Я спросил его, не нужны ли ему деньги, он ответил, что не нужны и вполне дружелюбно исчез в предрассветных сумерках Дюмэн-стрит, пообещав вернуться в восемь.
У него было мягкое юношеское тело и мягкий южный выговор – и я не предполагал никаких прямых контактов, только потрогать – ощутить поверхность его кожи своими пальцами. Это самоограничение основано на осторожности – у меня аллергия на пенициллин и меньше всего мне нужен триппер.
Один мой друг в 1943 году работал билетером в старом кинотеатре «Стрэнд» на Бродвее и, зная, что у меня как раз перерыв между двумя работами, рассказал мне, что «Стрэнду» нужен новый билетер и что я могу получить это место при одном условии – если мне подойдет униформа моего предшественника. К счастью, предыдущий билетер был примерно моего роста и такого же сложения. Я получил работу. «Стрэнд» заманивал публику классическим фильмом времен второй мировой войны, «Касабланкой», фильмом, прославившим Ингрид Бергман и Хамфри Богарта, в мгновение ока ставших чертовски популярными; там снимались еще сказочно обаятельный «Толстяк» – Сидни Гринстрит, Питер Лорре и Пол Хенрейд, а Дули Уилсон играла и пела бессмертную старую песенку «Когда время уходит…» В те дни, да еще с такими фильмами, кинотеатры на Бродвее были буквально забиты, и билетерам приходилось перекрывать проходы бархатными заграждениями, чтобы сдерживать зрителей, пока не придет время рассаживать их. Это была моя первая работа – сторожить один из входов, и на одном из вечерних сеансов некая страшно толстая дама прорвалась через заграждение и устремилась по проходу – очевидно, рассчитывая сесть прямо у экрана, а когда я попытался остановить ее, она стукнула меня по голове своей сумочкой, наполненной, по-моему, брикетами золота. Следующее, что мне вспоминается, – я все еще работаю в «Стрэнде», но уже не у входа, а стою между рядами в ярком свете и управляю потоками зрителей взмахами рук в белых перчатках: «Сюда, дамы и господа, сюда, пожалуйста» и «Подождите минуточку, пока все рассядутся». И каким-то образом все те месяцы, пока шла «Касабланка», я умудрялся посмотреть, как Дули Уилсон поет «Когда время уходит…»
Получал я семнадцать долларов в неделю, этого хватало на койку в общежитии АМХ, и еще оставалось семь долларов на еду. Мне нравилось…
А потом миссис Вуд вызвала меня в свой офис и сообщила, что я продан компании «Метро-Голдвин-Мейер». Сделка была оптовая, в одной партии живого товара вместе со мной были Лемюэл Айерс, дизайнер, и молодой танцовщик Юджин Лоринг, он первым в балете станцевал Билли Кида.
Одри сказала: «Будете получать двести пятьдесят».
– Двести пятьдесят в месяц! – воскликнул я с выпученными от такой перспективы глазами, но она уточнила: «Нет, двести пятьдесят в неделю». И тогда я понял, что тут заключен какой-то подвох, и был прав: подвохов оказалось несколько. Я должен был написать по ужасному роману сценарий, предназначенный для раскрутки некоей молодой особы, которой никакие тонкие кашемировые платья, плотно облегавшие ее фигуру, не помогли научиться играть – но она была близкой подружкой продюсера, нанявшего меня; уже вскоре мне сообщили, что мои диалоги выше разумения юной леди, хотя я всячески избегал сложных и длинных слов; а потом меня попросили написать сценарий для раскрутки совсем уже малолетней девочки, и я признал себя побежденным.
Но я узнал – и не мог в это поверить! – что у меня есть шесть месяцев, чтобы решить, продлевать контракт или нет.
Я купил подержанный мотороллер, невзирая на протесты моего нового друга, Кристофера Ишервуда, боявшегося за меня. С Крисом я познакомился вскоре после прибытия в Голливуд; у меня было к нему рекомендательное письмо от моего первого адвоката, Линкольна Кирстейна. Я нашел Кристофера в монастыре. Я пошел туда, постучал в ворота, ворота открылись, и я сказал: «Я хочу видеть Кристофера Ишервуда». Тот, кто отворил мне ворота, приложил палец к губам и сделал знак подождать; Кристофер вышел и сказал: «У нас время размышления». Потом добавил: «Входи и поразмышляй с нами». Я вошел и сел с ними. Оказалось, что я совсем не размышлял, а просто сидел. Думал, что мне не повезло так встретиться с человеком, которого я обожал. Потом уже, через некоторое время, он позвонил мне, и мы стали большими друзьями. Мы вместе ездили на пирс в Санта-Монику, поесть рыбы. Шла вторая мировая, и все было затемнено. Нас тянуло друг к другу почти чувственно, но чувство это не перешло в роман; вместо этого оно переросло в дружбу, постоянную дружбу, которых немало было в моей жизни, одну из самых важных для меня.
Вскоре после того, как я приехал в Калифорнию работать на кинофабрике компании «МГМ», я нашел себе идеальное жилье – двухкомнатную квартиру в Санта-Монике. Она находилась на Океанском Бульваре в большом деревянном доме, носившем имя «Палисады». Управляла им фантастическая женщина, наполовину цыганка, связанная узами брака с неприятным маленьким человечком, таявшим на глазах от рака. Она описана вместе со своим сердитым муженьком в одном из лучших моих рассказов – «Матрацу грядки с помидорами». То лето было таким же золотым, как прошлое лето в Риме.








