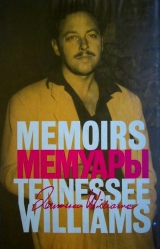
Текст книги "Мемуары"
Автор книги: Теннесси Уильямс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Помню, как он спросил меня по поводу старой мексиканки, которая ходит по улицам, продавая блестящие жестяные цветы на могилы, выкрикивая и распевая: «Flores para los muertes, corones para los muertos». [41]41
Цветы для мертвых, венки для мертвых (исп.).
[Закрыть]
Я поднялся на репетиционную сцену и пошел к жилищу Ковальского, неся жестяные цветы… Джессика открыла двери и, увидев меня, закричала:
– Пока – не надо. Пока – не надо.
– Хорошо, так и играйте, – сказал Казан.
Я все еще жил на квартире в Челси, ожидая смерти и провала. А потом, когда я работал, раздался бешеный стук в дверь – к счастью, запертую.
О Господи, Санто вернулся!
Не сумев разбить дверь, он залез на бетонный подоконник. Я еле успел подскочить к окну, чтобы закрыть его. У дома уже собралась громадная толпа. Санто стоял на подоконнике и колотил в окно, пока не разбил стекло. Тут вмешался полицейский. Он не арестовал Санто, но приказал ему убраться. Санто оглянулся на меня. Его лицо было залито слезами. Я тоже начал плакать – а я редко это делаю.
Печальный случай, надеюсь, вы понимаете мое поведение.
По совету Одри и Айрин я временно съехал с квартиры в Челси, найдя убежище в старом отеле, где уже останавливался несколько лет назад – в блошиной дыре под названием «Виндзор», на Вест-сайде. Я оставался там, пока Санто не убедился, что меня не заставишь снова жить с ним или даже просто добровольно встретиться.
Премьера «Трамвая»состоялась в Нью-Хейвене в начале ноября 1947 года. Никто, казалось, не знал, какие были рецензии, и никого они не интересовали. После спектакля нас пригласили на квартиру Торнтона Уайлдера, который жил в Нью-Хейвене. Все было похоже на аудиенцию у Папы Римского. Мы сидели вокруг этого академика, а он изрекал истины о пьесе, как будто зачитывал папскую буллу. Он сказал, что пьеса основана на совершенно ошибочной предпосылке. Ни одна женщина, которая когда-нибудь была леди (он говорил о Стелле), не может выйти замуж за такого вульгарного человека, как Ковальский.
Мы сидели и вежливо слушали. Про себя я сейчас думаю, что бедняге просто не удалось в жизни как следует потрахаться. Я встретился с ним через много лет, когда во время правления Кеннеди группа театральных людей была приглашена на банкет в Белый дом. Всем нам было велено ступать в гигантскую залу, облицованную мерцающими зеркалами, и выстроиться там в шеренгу в алфавитном порядке. Более или менее нам это удалось. Президент, Джекки и их почетный гость, Андре Мальро, должны были вот-вот появиться. Тут же суетился, как самозванный фельдмаршал, Торнтон Уайлдер, взявший на себя проверку, в точном ли алфавитном порядке мы стоим. Я был занят разговором с мисс Шелли Уинтерс – мы с нею на одну букву.
Мистер Уайлдер бросился ко мне с лучезарной улыбкой владельца похоронного бюро и воскликнул: «Мистер Уильямс, вы не на своем месте, вы должны быть за мной».
Я был настолько ошарашен, что не нашел ничего лучшего, как ответить: «Если я за вами – то это в первый и последний раз в моей жизни».
Когда длинная алфавитная шеренга уже почти вся подала руку Президенту и Первой леди и была представлена господину Мальро, дошла моя очередь знакомиться, а я – честно признаться – никогда о нем не слышал. Я сказал ему: «Enchanté, Monsieur Maurois» [42]42
Рад, мсье Моруа (фр.).
[Закрыть]– Джекки это заставило улыбнуться, но мистеру Мальро не понравилось.
Однажды поздно вечером – « Трамвай» был в Бостоне – Санто нанес мне еще более неожиданный визит. В «Риц-Карлтоне» я никогда не запирал свой номер – а кто стал бы? – и внезапно в мою спальню-гостиную ворвался этот доблестный экс-компаньон. Последовали заверения в раскаянии и привязанности, которые не нашли сочувствия в моей душе. Было побито немного посуды – совсем чуть-чуть, ваза или две. Однако напротив моего номера был номер миссис Селзник Она услышала шум и необдуманно – только представьте себе Айрин, которая делает что-то необдуманно – открыла свою дверь в коридор. Санто немедленно воспользовался шансом повернуть свою пьяную ярость против этой безвинной леди. Он оскорблял ее, правда, исключительно словами, и я верю, что она дала отпор с обычными быстротой и умением.
Прошли годы, прежде чем я снова увидел Санто, и только тогда – после его посещения Общества Анонимных Алкоголиков и обращения в веру – наши встречи стали спокойными и приятными…
Первые хорошие отзывы стали появляться, когда « Трамвай»прибыл в Бостон. В газетах была только одна отрицательная рецензия, и дела, несмотря на нее, шли исключительно хорошо. Но только когда начались гастроли в Филадельфии, стало ясно, что пьеса пойдет.
До поднятия занавеса мы с Казаном стояли в фойе филадельфийского театра, а толпа сносила двери, как aficionados [43]43
Болельщики, фанаты (исп.).
[Закрыть]боя быков, стремящиеся увидеть великого Ордоньеса Казан усмехнулся и сказал мне «Дело пахнет успехом».
Помню, что ободренный замечательными отзывами, я купил себе очень дорогое твидовое пальто.
Однажды вечером Брандо пригласил меня поужинать в неизвестный греческий ресторан – его было невозможно разговорить, а масляную еду было невозможно есть.
Нью-йоркская премьера была потрясением.
На премьере меня вызывали на сцену кланяться, как это было на « Зверинце», и мне было также неловко. Я кланялся актерам, а не публике.
Я все еще жил один в той же однокомнатной квартире в Челси, в кирпичном доме. Был конец декабря, в городе разразился снегопад. Снега выпало столько, что транспортное сообщение было практически парализовано на несколько дней. В доме не работало отопление, и чтобы согреться, приходилось разжигать камин. На углу мне удалось купить несколько чурочек. Как-то вечером, во время этого долгого снегопада, я на такси ехал через Таймс-сквер и заметил около одного дома съежившегося парня. Светловолосый подросток был одет явно не по погоде, это тронуло мое сердце до такой степени, что я крикнул шоферу: «Остановитесь!»
Я выпрыгнул из машины и подбежал к съежившемуся в дверях парню.
– Поедем со мной, ты ведь замерз.
Парень оказался рабочим цирка. Я привез его в свою однокомнатную квартиру в Челси, мы разожгли камин, чтобы согреться, и когда огонь еще только занимался, в дверь раздался стук.
После некоторых колебаний – вполне понятных – я дверь открыл. За нею стояли один мой театральный друг и некая леди, имя которой я называть не буду, скажу только, что она не была его женой.
– Господи, как здесь холодно, – заметил он, а юная леди немедленно отправилась в постель – с единственной целью согреться, я думаю. Мы с цирковым рабочим сидели у камина, как бы медитируя, а с другой стороны комнаты доносились страстные крики и стоны молодой леди, имя которой я опустил. После этого мы все сидели вокруг огня, выпивали, и никто не выказал ни малейшего смущения.
Когда парочка удалилась, мы с молодым человеком заняли в постели их место и, должен вам сказать, вели себя гораздо спокойней – хотя экстаз я испытывал не меньший. Парень жил у меня несколько дней, потом его цирк покинул город, и я снова остался один.
Вскоре после снегопада я купил билет на пароход «Америка», отправлявшийся в Европу, а поскольку наступило Рождество, я нарядил у себя большую елку и устроил торжественный прием. Гости едва помещались в комнате. Звездами вечера были Грета Гарбо и Хелен Хейз.
Гарбо произвела потрясающее впечатление, она была ослепительно прекрасна. Всего лишь несколько недель назад я прошел на улице мимо нее – и не узнал. Мой спутник сказал: «Леди, мимо которой мы только что прошли – Грета Гарбо». Я повернулся и бросился к ней. Правда, ее чудное лицо немного постарело, но красота сохранилась. Как и потрясающая скромность. Она была снисходительна, но немного напугана. Я сообщил ей, что вечером играю в собственной пьесе «Предупреждение малым кораблям», и пригласил ее в театр. Глупее было трудно что-нибудь придумать, но она отклонила приглашение с большим тактом.
– Чудесное предложение. Спасибо. Только я больше нигде не бываю.
И она ушла.
Кажется, я встречался с Гарбо пять раз, и один из них – в том декабре 1947 года, когда в Нью-Йорке только что прошел « Трамвай». Так случилось, что я рассказал Джорджу Кьюкору, что написал сценарий под названием «Розовая спальня». Кьюкор был близким другом Гарбо, и он сказал: «Мне кажется, сценарий надо показать Гарбо. Я все организую».
К моему удивлению, эта легендарная женщина приняла меня в своей квартире в башне «Риц».
Мы сидели в гостиной и пили шнапс. Я воодушевился и начал рассказывать ей сюжет « Розовой спальни».Что-то в ее удивительной и андрогинной [44]44
Двуполой.
[Закрыть]красоте позволило мне преодолеть мою обычную робость. Я рассказывал, а она шептала только одно слово: «Чудесно», наклонившись ко мне с восторженным выражением глаз. Я размечтался: «Она будет это играть, она вернется на экран!» Через час, когда я закончил рассказывать сценарий, она еще раз сказала: «Чудесно!» Потом вздохнула, откинулась на подушки дивана. «Да, это чудесно, но не для меня. Отдайте его Джоан Кроуфорд».
Второй раз я увидел Гарбо спустя лет пять, когда был приглашен на небольшой прием, устроенный знаменитой старой характерной актрисой Констанс Коллер. Гарбо была там, я подошел к ней и сказал: «Вы единственная великая трагедийная актриса экрана, вы должнывозобновить свою карьеру!»
Гарбо вскочила и воскликнула: «В комнате душно!» Она подбежала к окну, распахнула его, как будто собиралась выпрыгнуть, и простояла так спиной к нам несколько минут.
Старая характерная актриса величественно склонилась ко мне и прошептала: «Никогда не говорите с ней о кино. От таких предложений у нее начинается припадок».
Как печально для художника отказаться от собственного искусства; по-моему, это печальнее, чем смерть…
Видимо, что-то в ее кинокарьере – в Голливуде – было такое, что полностью опрокинуло ее. И она стала вечной легендой, а нам осталась ее «Дама с камелиями»,ее « Анна Каренина»и вибрации божественного голоса, великого, как у Дузе.
В конце того декабря, не выдержав беспрестанного нахождения на публике в Нью-Йорке, я отплыл в Европу.
Морской болезни у меня не было, но чувствовал я себя очень плохо и не способен был писать.
Когда я не могу писать, это меня всегда тревожит – словно небо падает мне на голову.
Я прибыл в Шербур, затем – в Париж.
Я спросил Гарбо, где лучше всего останавливаться в Париже, она посоветовала мне: «Попробуйте „Георг V“». Я никак не мог понять, когда прибыл туда – как Гарбо могла так ошибаться. Я постоянно жил в снимаемых номерах, но никогда еще они не вызывали у меня такого отвращения.
Уже на следующий день я переехал в отель на левом берегу – в «Лютецию». Он нравился мне куда больше, хотя совсем не отапливался. Меня преследовала пресса. К тому же мне становилось все хуже и хуже, в основном – из-за отсутствия в Европе в первые послевоенные годы хорошей еды. Зато я был доволен ночной жизнью, которую очень быстро наладил. Я постоянно посещал Беф-сюр-ле-Туа и мадам Артюр – у нее было очень эффектное шоу мужчин-трансвеститов.
Дни я проводил в основном в гигантской ванной «Лютеции». Батареи не грели, но горячей воды было достаточно. В ванную мне приносили и прессу. Кажется, мне это нравилось – получать прессу при любых обстоятельствах. В двери постоянно звонили с требованиями интервью. Я выходил из ванны, завернувшись в полотенце, и дрожал под ним.
«Montez, s’il vous plait, Chamdre numero…» [45]45
Поднимайтесь, пожалуйста, комната номер (фр.).
[Закрыть]
После чего я оставлял дверь приоткрытой и снова погружался в гигантскую парящую ванну.
Наверное, пресса в Париже была ужасной, но я ее не читал. Был слишком занят ночными удовольствиями, в избытке предлагаемыми этим городом света.
И вес же каждое утро я чувствовал себя все хуже. В то время в Париже нельзя было достать настоящего молока, оно было только порошковым, а еда была ужасна. Я в основном пил коньяк.
В конце концов я разболелся совсем, и мне пришлось отправиться в американский госпиталь в Нейи.
Доктора сообщили, что мне грозят «гепатит и амебная дизентерия». Я никогда не слышал ни об одной из этих болезней, а врачи ничего не объяснили. В дневнике я написал: «С траханьем покончено».
На пароходе в Европу я познакомился с очаровательной молодой леди, родители которой были знаменитыми французскими журналистами. Отец, месье Лазарев, был владельцем двух парижских газет – «Paris Jour» и «Paris Soir», а мать, мадам Лазарева – редактором журнала мод «Elle».
Именно мадам Лазарева приехала навестить меня в американский госпиталь, откуда я уже не надеялся выйти.
– Немедленно из постели, – приказала она. – Я забираю вас домой, кормлю хорошим обедом и сажаю на поезд, отправляющийся на юг Франции.
Она поселила меня в отеле под названием «Золотая голубка», где жила ее дочь. Здесь бывали в основном писатели и художники, и находился он в городке Ванс, в котором умер Д. Г. Лоуренс. Всюду летали и ворковали белоснежные голуби – и от этого я чувствовал себя несчастным. Я прожил там всего несколько дней и отправился дальше на юг, в Италию. Как только я пересек итальянскую границу, мое здоровье и моя жизнь каким-то чудом восстановились. Здесь светило солнце и улыбались итальянцы.
В Риме я снял двухкомнатную меблированную квартиру на Виа Аурора, в двух шагах от Виа Венето. Квартира помещалась в одном из зданий золотистого цвета с высокими потолками, типичных для Vecchia Roma [46]46
Старого Рима (ит.).
[Закрыть], хотя и расположенных в другой части города. Она находилась всего в одном квартале от входа в большой парк, называемый Вилла Боргезе. И парк, и Виа Венето были вскоре исследованы мною и оказались излюбленным местом обитания тех случайных знакомых, которых жаждет увидеть одинокий иностранец. Вторая мировая война только что закончилась, и доллар ценился очень высоко.
Старый американский журналист, прожженный циник, с которым я познакомился вскоре после прибытия, сказал мне: «Рим – город воров, нищих и проституток обоих полов». Превалирование проституток было неоспоримо и нельзя сказать, что не нравилось циничному журналисту, который придерживался одинаковых со мною сексуальных интересов, но был куда более грубым в своем потакании этим вкусам.
Нищие в Риме были; попрошайки есть везде, где существуют экономические неурядицы. В некоторых частях Нью-Йорка, если быть справедливым, их даже больше, чем можно было найти в Риме двадцать пять лет назад, а уж воров в американских городах и подавно больше. Но я никогда не опасался воров в Риме в те годы, как не опасался насилия или его угрозы. Итальянцы ни в коей мере не склонны ни к воровству, ни к насилию, наоборот, подобное противно их природе.
А что касается проституции, то это воистину древнейшая профессия во всех средиземноморских странах, с единственным исключением – Испания. Причина тому – физическая красота, горячая кровь, природный эротизм итальянцев. В Риме не встретишь на улице молодого человека без легкой эрекции. Частенько они прогуливаются по Венето – руки в карманы, бессознательно играя со своими гениталиями, независимо оттого, предлагают они себя или ищут, кого подцепить. Они воспитаны без наших пуританских завес в вопросах секса. Молодые американцы, даже красивые, никогда не думают о себе как об объекте сексуального желания. Молодые красивые итальянцы всегда думают именно так. И никогда не ошибаются. Это тема, которую я достаточно подробно описал в самом длинном из моих произведений, в « Римской весне миссис Стоун».
В Риме я очень быстро завел себе множество друзей; социальные контакты американского журналиста-циника были совершено неограниченными как в верхних, так и в нижних слоях римского общества. Через него я познакомился со всеми представителями первой волны киношников из Штатов. Познакомился я и с Лукино Висконти, который уже снял в Италии «Zoo de Vetro» [47]47
«Стеклянный зверинец» ( ит.).
[Закрыть], а вскоре снимет «Un Tramway che se chiamo Desiderio» [48]48
«Трамвай „Желание“» (ит.).
[Закрыть].
Той зимой Висконти снимал на Сицилии фильм «La Terra trema» [49]49
«Земля дрожит» (ит).
[Закрыть], который до сих пор представляется мне величайшей из его кинолент, хотя и менее всего известной. С американским журналистом мы слетали в Катанью, вблизи которой, в местечке под названием Аситрезза, Висконти снимал. Там я познакомился и с Висконти, и с Дзеффирелли, в то время – очень красивым молодым флорентийским блондином.
Висконти – аристократ, наследник громадного состояния – в то время был настоящим коммунистом. Мне кажется, что только у Брехта политические взгляды художника нашли какое-то отражение в его творчестве; мерить можно только уровень таланта и человечность. Чувствую, что и сексуальные наклонности или отклонения обычно не влияют на уровень произведений творческой личности. Хотя… Только гомосексуалист мог написать «В поисках утраченного времени».
Моя квартира состояла из двух комнат, приятный вид комфортабельно обставленной жилой комнате придавали главным образом большие окна, выходящие на залитые солнцем улицы и древнюю стену Рима у Виллы Боргезе. Всю зиму эта комната была у меня полна мимозы. В другой комнате, в спальне, из мебели была только огромная letto matrimoniale [50]50
Супружеская кровать (ит).
[Закрыть].
В спальне тоже были большие окна со ставнями, и она целый день была заполнена солнцем и небом. Стояла золотая зима, самая теплая римская зима, какую я знал.
Для умеренно обеспеченного туриста в Риме тогда не существовало трудностей. Еда даже в самых простых тратториях была великолепной, а римское вино, фраскати, обладало замечательной выдержкой. После mezzo-litro [51]51
Пол-литра ( ит.).
[Закрыть]ты чувствовал, что тебе в артерии залили свежую кровь, и она унесла все страхи и все напряжение – на время, и это то время, из которого сотканы все сны.
Обед у итальянцев занимает три-четыре часа (из-за вина, я думаю, и из-за климата), а после обеда они прямиком отправляются в кровать – это сиеста. И если ты молод, то сиеста почти никогда не проходит в одиночестве, и уж точно никогда, если ты спишь на letto matrimoniale, твои большие окна открываются прямо на улицу, и ты знаешь несколько коротких фраз, вроде «Dove vai?» («Куда идешь?»). Мой циничный американский журналист говорил, что мне нужно знать только две итальянские фразы, чтобы получать полное удовольствие от Рима: «Dove vai?» и «Quanto costa?» («Сколько ты стоишь?»).
Но мне не составило труда освоить язык. Я могу бегло говорить на нем – скажем, довольно бегло – когда живу в Италии, чего мне хочется всегда, даже теперь, когда она так ужасно переменилась.
Во вторую мою ночь в Риме я оказался на Виа Венето и фланировал под окнами «Дони» – знаменитой паштетной, расположенной на первом этаже отеля «Эксельсиор». Я ненадолго остановился, мои глаза натолкнулись на юношу, показавшегося мне молодым фавном в старом ветхом пальто, в одиночестве сидевшего за столиком, откуда он мог улыбаться незнакомцам на улице.
Мы улыбнулись друг другу, я сделал знак, приглашающий его выйти на улицу. Он мгновенно вышел. Смысла говорить «Dove vai?» не было, а время спрашивать «Quanto costa?» еще не наступило, но я был уверен, что скоро наступит…
Я тогда еще не поселился в квартире на Виа Аурора, а снимал комнату напротив, в отеле «Амбашаторе». Это один из самых знаменитых отелей Рима, он еще пытался поддерживать респектабельный облик, поэтому когда я вошел в него со своим новым знакомым в изношенном пальто и в башмаках, привязанных к ногам, весь персонал отеля разинул рты от удивления. Я повел молодого человека, которого буду звать Рафаэлло, прямо к лифту, думая только о том, пустит нас туда лифтер или не пустит. Естественно, были долгие колебания, Рафаэлло был бледен и дрожал – в свои семнадцать лет он впервые переступал порог большого отеля.
Мне кажется, я всучил лифтеру несколько сот лир; только тогда старый аппарат заскрипел и доставил нас на самый верх. У меня был очень милый номер. Помню, что возле кровати стояла лампа под розовым абажуром. У меня был карманный англо-итальянский словарик, и я лихорадочно начал листать его странички в поиске нужных слов. Юноша сидел на одной односпальной кровати, я на другой. Мы улыбались и улыбались друг другу, но когда мне удалось, с помощью словаря, пригласить его провести со мной ночь, Рафаэлло покачал головой. Он все время показывал на слою «папа». Насколько я понял, его отец был carabiniere [52]52
Карабинер (ит.).
[Закрыть]и наказывал парня, если того не было ночью, привязывая его в подвале к стулу на весь следующий день без воды и еды. Потом Рафаэлло извиняющимися пикантными жестами гейши показал мне слово «domani», что означает «завтра». Я ужасно расстроился; ждать до завтра показалось мне бесконечностью, потому что со времен Кипа я не встречал мальчика, который бы так отчаянно нравился мне. Или, точнее, так сильно привлекал меня.
Мои уроки итальянскою начались. И ночь была бессонной, или почти бессонной.
Рандеву было назначено на следующий вечер на том же самом месте, у «Дони», потому что я уже нашел квартиру на Виа Аурора и готовился на следующий день переселяться в нее.
Можно ли быть грязным стариком в тридцать пять лет? Мне казалось, что я произвожу именно такое впечатление.
Эта книга – катарсис пуританского чувства вины. «Всякое хорошее искусство – это нескромность». Не буду уверять вас, что эта книга – искусство, но ей придется быть нескромной, раз уж она имеет дело с моей взрослой жизнью…
Я, конечно, мог посвятить всю эту книгу обсуждению искусства драмы, но как это было бы скучно…
Она наскучила бы мне до смерти и получилась бы очень, очень короткой – по три предложения на странице с очень большими полями. Пьесы говорят сами за себя.
Жизнь той зимой в Риме была золотым сном – я имею в виду не только Рафаэлло, мимозу и абсолютную свободу. Здесь остановимся: я имею в виду абсолютную свободу, Рафаэлло, мимозу, letto matrimoniale и фраскати, но только когда я заканчивал утреннюю работу.
У меня все было прекрасно организовано. Рядом с кроватью была кнопка звонка, и когда я просыпался, а Рафаэлло все еще спал рядом со мной, я нажимал на нее. В дверь стучала padrona [53]53
Хозяйка (ит.).
[Закрыть], очень милая дама по имени Мариелла, и я заказывал ей завтрак – яйца, бекон, тостик для Рафаэлло и только caffe latte [54]54
Кофе с молоком (ит.).
[Закрыть]для себя.
Рафаэлло в это время уже щеголял в новом костюме, в новом пальто, в новых ботинках и давно уже не жил дома под пятой у жестокого отца. Одну ночь он спал со мной, другую – в маленьком pensione [55]55
Пансион (ит.).
[Закрыть].
Мои друзья спрашивали меня: «Сегодня чья ночь, Рафаэлло?» – или я мог пойти курсировать с ними…
Помню, как однажды утром я принимал одну журналистку, когда мы с Рафаэлло только что встали с постели. Я разговаривал с ней в своей гостиной; Рафаэлло спокойно сидел в уголке и ел свою яичницу с беконом и тостик.
А через день или два в римской газете появился гигантский заголовок: «La Primavera Romana di Tennessee Williams» [56]56
Римская весна Теннесси Уильямса (ит.).
[Закрыть], и там упоминался giovane [57]57
Молодой (человек) (ит.).
[Закрыть]в углу, который ел свой завтрак – так начался долгий период моей личной известности (и дурной славы) в Риме, который, без сомнения, продолжается по сей день.
Хозяйка, Мариелла, считала меня чокнутым, потому что в те дни диалоги я сочинял, зачитывая их вслух, расхаживая по комнате с чашкой кофе в руках.
Я до сих пор, когда пишу диалоги, читаю их вслух: это помогает мне понять, как они будут звучать со сцены.
Строчка из «Камино реал»(то есть, две строчки, конечно):
Казанова(Камилле): Дорогая моя, тебе надо научиться вносить знамя Богемы во вражеский стан.
Камилла(Казанове): У Богемы нет знамени, она живет из милости.
Сейчас двадцать минут четвертого, но я буду продолжать писать, пока не настанет время доить коров – если в Новом Орлеане есть коровы.
Каждую неделю я получаю по несколько просьб о финансовой помощи. На этой неделе ко мне обратился молодой красивый манхэттенский проститут. Он просил двести долларов, чтобы уехать за границу.
Еще одна просьба – от моего друга, который хочет, чтобы я послал ему шестьдесят баксов, чтобы увеличить фотографию со мной и Дейв Деллинджер.
Сейчас я не в том положении – финансовом и духовном – чтобы удовлетворять просьбы тех, кто рассматривает меня только как источник дополнительного дохода.
Я никогда не мог получить медицинскую страховку, поэтому должен был оплачивать все свои счета от врачей и хирургов, и сейчас прошло три месяца с тех пор, как я набрался смелости ежемесячно знакомиться с состоянием своего финансового счета.
Мне очень нужны друзья, но даже в шестьдесят один год я не хочу их покупать. Но крайней мере, в настоящее время я чувствую себя, как старая Флора Гофорт: «Молочный фургон не останавливается больше здесь» [58]58
Название пьесы Теннесси Уильямса, смысл которого: «Я перестала быть дойной коровой».
[Закрыть].
В Риме зимой 1948 года на улицах было очень мало частных автомашин, и вскоре после моего переселения на Виа Аурора я купи/i старый джип у американского солдата, отправлявшегося домой в Штаты. Среди бесчисленных болезней машины был прогоревший глушитель, и когда я ехал по Виа Венето, джип ревел, как взлетающий реактивный самолет. Вся улица глядела на меня в ярости, когда я проезжал мимо. Теми ночами, когда Рафаэлло не было на службе, я приобрел привычку не вылезать из этого джипа до самого рассвета – пока не напивался. На рассвете я приезжал на площадь Св. Петра molto umbrlaco, что значит пьяный в стельку, и заставлял джип проезжать через сносимые ветром струи фонтанов – чтобы остудить голову – до тех пор, пока не промокал до нитки, и только потом ехал домой.
При сегодняшнем движении в Риме потребовался бы час, чтобы вернуться домой с этой развеселой экскурсии. Частенько я в джипе бывал не один, и мои спутники далеко не так веселились от такого купания, как я. Но тогда, в те дни, Americano [59]59
Американец (ит.).
[Закрыть]мог позволить себе все, что ему заблагорассудится.
Ближе к весне 1948 года на римской сцене стали появляться некоторые мои знакомые – известные американцы.
Однажды вечером на приеме, устроенном то ли Генри Макилхенни из Филадельфия, знаменитым покровителем искусств, то ли Сэмом Барбером, прославленным композитором, в барочном помещении Американской академии, я познакомился с молодым Гором Видалом. Он только что опубликовал бестселлер «Город и колонна»– один из первых гомосексуальных романов в их длинном ряду. Я не читал его, но знал, что он возглавляет список бестселлеров, и что в нем затрагивается «запрещенная тема».
Гор был очень красивым парнем лет двадцати четырех, и меня покорили и его ум, и его внешность. Мы быстро обнаружили, что у нас общие интересы, и проводили вместе очень много времени. Не воображайте только, что я намекаю на роман. Мы просто наслаждались разговорами, вместе веселились, вместе ездили на джипе по городкам «Divina Costiera» [60]60
Божественного Берега (ит.).
[Закрыть], таким, как Сорренто и Амальфи.
Мне кажется, в тот сезон мы ездили даже во Флоренцию, и нас развлекал необыкновенный старый эстет – Беренсон.
А однажды Гор взял меня в монастырь голубых монашенок где мы познакомились с великим философом и эссеистом, в то время восьмидесятилетним полуинвалидом, Сантаяной. Он выглядел святым джентльменом. У него были все понимающие теплые карие глаза, он обладал тонким юмором. Свое состояние Сантаяна принимал без капли жалости к себе и без огорчения. Эта встреча позволила мне немного смириться с человечеством и совсем избавила меня от страха перед концом творческой жизни. Его благородство и внутренняя доброта сильно напомнили мне моего деда.
– Иногда в старых лицах я вижу Бога, – говорила Ханна Джелкс. Я вспоминаю лица: дедушки – Сантаяны – Ганди…
А потом прибыл еще один мой друг со своим приятелем, и мы втроем, сопровождаемые бесстыдным австралийцем, подбирали римских мальчишек продававших сигареты, и на моем джипе отвозили их в дикие места Виллы Боргезе. Там мы припарковывали джип, и исчезали в чаще с кем-нибудь из продавцов сигарет.
Все это были скорее шалости, чем по-настоящему декадентское поведение. Но привели они к моей третьей ночи за решеткой.
Вчера я еще раз вернулся «на доски» в «Предупреждении малым кораблям»; только что написал записку с благодарностью Морин Степлтон, и еще пошлю ей розы за продвижение моей карьеры в исполнительском искусстве. Я позвал ее с собой на сцену, потому что просто не мог смотреть в лицо прочим членам тех собраний, что проводил после спектаклей, и дорогая моя девочка поднялась со мной и спокойно прочитала роль Бесси – я читал роль Флоры – в веселом маленьком скетче «Точный анализ, данный попугаем».
Становится немного утомительным, при нынешнем состоянии моего здоровья, продолжать попытки оживить продажу билетов на этот офф-бродвейский спектакль. Однако я не могу отмахнуться от того факта, что если он не продержится до конца лета, или, по крайней мере, почти до конца лета, то мои шансы на первоклассную постановку « Крика» будут таять и дальше. Мы с Питером Гленвиллом работали над сравнением последних вариантов рукописи « Крика» два дня.
Рим, 1948 год. Мой первый год в золотом городе. Приближалось лето, у меня была работа в Лондоне – не больше не меньше, как первое выступление Хелен Хейз в лондонском театре – причем в « Зверинце».
Я ходил на репетиции, которые проводил Джон Гилгуд. Сначала все казалось многообещающим. Миссис Хейз – мое скромное мнение – не относится к самым одаренным мировым исполнительницам. Может быть, в юности она была весьма привлекательной, и даже вполне воспитанной. Но в 1940 году – когда я был в Нью-Йорке вместе с « Битвой ангелов», а она выходила в Театральной гильдии в роли шекспировской Розалинды, я подслушал, как один осветитель говорил другому: «Ее можешь не освещать, ее осветить невозможно». Но она мне нравилась как леди, а ее внесценический стиль я обожал.
В 1948 году она уже достаточно набралась ума, чтобы отказаться от ролей инженю, и неплохо выглядела в ролях, соответствующих ее возрасту. Ее муж Чарли был в Англии вместе с ней. Мне кажется, они любили друг друга. «Кажется» надо бы подчеркнуть, чтобы было ясно, что это только предположение. Очень уж подозрительно, что Чарли все больше и больше пил по мере того, как его жена упорно приближалась к положению «первой леди американского театра». Я бы сказал, что великий Гилгуд никогда не был плохим режиссером, но миссис Хейз лучше бы никогда не встречаться с ним. Первые недели репетиций она играла верно, без тех обезьяньих ужимок, что появились у нее позднее. На репетициях она была трогательна и играла Аманду Уингфилд, мать в «Зверинце»,без трюкачества.
Мы поехали в Брайтон, где должна была состояться премьера. На одной из последних репетиций миссис Хейз пригласила Гилгуда, меня и всех участников спектакля к себе в грим-уборную, и после долгого зловещего молчания заявила: «На этой стадии подготовки спектакля я могу сказать, пойдет он или нет».
Снова молчание.
Потом миссис Хейз медленно и печально покачала головой, показывая, что прогнозы ее самые печальные.
Я поверил ей и остался на премьеру в Брайтоне. Представление было плоским, как сковородка, и весь набор трюков не помог «первой леди».
Я помню встречу после спектакля в Брайтоне с Э. М. Форстером. Он зашел в грим-уборную к миссис Хейз, и она воскликнула: «А, „Поездка в Индию“ [61]61
Роман Э. М. Форстера.
[Закрыть]!»







